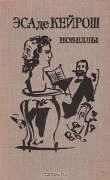Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Аугуст Гайлит
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
А может, все это просто домысел? Может, портной приходил так, по делу, и только? И Ивола не виновата? Плачет, поди, сейчас и ждет с нетерпением его возвращения?
От этой мысли его просто оторопь взяла. Он приостановился, прислушался и стал думать. Совсем как утопающий он пытался найти хоть что-то, ухватиться за самую крохотную надежду, чтобы отринуть сомнения. Но так ничего и не нашел, даже пустой соломинки. Не, все было ясно, все было так.
Он вновь пустился бегом.
– Олух царя небесного, шут с позорными бубенцами на шее, – клял он себя, – кричи, ликуй, – ты удостоился великого счастья: портной почтил твой дом! Что ж, бери теперь жену и вези на ярмарку, авось, найдется еще кто, согласный делить с ней свою любовь!
А ты спрячь свои полные стыда глаза, закрой поганый рот и ступай по дорогам, которые хохочут и улюлюкают под твоими ногами!
5.
Прошла ночь, встало, проглянув сквозь тучи, солнце. Тоомас услышал лай мустояских собак.
Он насквозь промок на дожде, шапка потерялась, на руке была глубокая ссадина, но он ничего этого не замечал. Все было уже неважно, все было теперь ему безразлично.
Как ходячая тень, он брел, опустив голову низко на грудь и бесцельно болтая руками. Сел на пень, отер слезы и уставился на ладони, точно на что-то чужое и невиданное.
Усталость и слабость навалились на него. Он снова опустился на пенек и вздохнул. Жизнь была сломана, пришел конец. Исчезла ненависть, горечь, жажда мести. Даже глумиться больше не было сил. Только ощущение огромного несчастья довлело над ним как груз столетий.
Он сидел немо и неподвижно.
В мозгу не шевелилось ни единой мысли.
На следующий день пополудни он пришел домой.
Батраки и поденщицы сидели за обеденным столом, Ивола хлопотала у печи. Никто не проронил ни слова... замерли не донесенные до рта ложки...
Тоомас посмотрел долгим взглядом, остановил его по очереди на каждом и тяжелым шагом прошел в заднюю комнату.
Там он некоторое время сидел тупо и недвижно, понурив голову. Ивола боязливо приоткрыла дверь, поглядела и подошла ближе.
– Господи, да ты хоть скажи, что случилось? – заохала она.
– Ничего не случилось, – я пьян, – ответил Тоомас. – Ночью в канаве спал, продрог и простыл.
Ивола повеселела.
– Ах так, ах вот что! – с жаром заговорила она. – Иди тогда, ложись в постель, отдохни чуток. А я тебе чаю сварю, водки принесу. Господи, ты уж думал, ты погиб, когда лошадь одна домой пришла!
– И что б с того? – с горечью произнес Тоомас. – У тебя ж мужчин что половы, можно хоть завтра с портным свадьбу играть!
Ивола побледнела, губы ее затряслись.
– Что ты такое говоришь! – воскликнула она.
– Молчать! – вдруг рявкнул Тоомас. – Чтоб ни слова больше! Оставь меня лучше одного. И побыстрее, побыстрее!
Тоомас встал, он был свиреп и жесток. Но, овладев собой, усмехнулся и вышел во двор.
Он спокойно, как ни в чем не бывало, побеседовал о том о сем с батраками. Рассказал даже шутливо о своей злополучной поездке в город, о том, как выпил и как пьяный до бесчувствия валялся в канаве. Затем завел речь о крестьянских работах, о планах на зиму и о задумках на будущее. Тут вот надо будет поставить новый хлев, старый-то уже ветх и тесен, да и скотины не мешало бы прикупить. Кроме того, он хочет вырыть новый колодец, в котором бы была чистая и прозрачная вода.
У него даже поднялось настроение, он смеялся, был весел. Попросил батраков остаться на хуторе на зиму, начнут строиться – без работы и хлеба никто не останется.
Потом отозвал в сторону пастушка и сказал:
– Слушай, Юсси, будь друг, сбегай погляди, дома ли портной Кантерпасс, но так, чтобы он тебя не заметил.
Он дал пастушку сотенную, хлопнул его дружески по плечу и, улыбаясь, поглядел, как пацан устремился вперед по дороге.
Вернувшись затем в дом, он помылся, надел чистое белье и принялся долго и тщательно расчесывать волосы. Ивола сидела в углу и плакала.
– Не плачь, – сказал Тоомас, – не беда, ничто еще не потеряно. Заживем опять счастливо, жизнь ведь не кончилась. Бог его весть, что нас еще ждет, можем и в нищету впасть, и в короли выйти, – жизнь вся впереди! Или кончим свои дни где-нибудь в тюрьме, это уж как господу будет угодно, – пути его неисповедимы.
Ивола недоверчиво посмотрела на мужа.
– Если бы ты хоть сказал, что случилось? – всхлипнула она.
Тоомас резко остановился перед ней.
– Тебе это лучше знать, – угрюмо бросил он. – Тебе и Кантерпассу.
В дверь с разгону вбежал пастушок.
– Дома, дома, – радостно выпалил он, – знай ходит по комнате, взад и вперед, взад и вперед!..
Тоомас погладил пацана по голове, дал ему еще сотенную и сказал:
– Молодец, Юсси, хвала и благодарность тебе, ты меня очень порадовал этим известием. Поди-ка теперь еще найди точило. – И сурово бросил жене: – Слышь, Ивола, пойдем покрутишь мне точило, – хочу топор подточить.
Сняв с приступка печи топор, Тоомас долго оглядывал и щупал его, исподтишка поглядывая на жену и ухмыляясь.
– Ну все, пошли, – наконец сказал он.
Установив точило посреди двора, он приложил лезвие топора к камню и велел жене:
– Крути!
Жена вращала рукоять с ужасом смотрела на мужа.
– Господи, господи! – охала она, украдкой нет-нет да смахивая слезу. Тоомас же только удовлетворенно посмеивался.
– Посмотри, – подал он Иволе топор, – достаточно ли уже острый?
– Достаточно, – прошептала Ивола, глядя в сторону.
– Ты думаешь? – усомнился Тоомас.
Он тщательно осмотрел топор, проверил пальцем лезвие, улыбнулся и произнес:
– Нет, надо еще подточить. Он должен быть остер как бритва, чтобы уж рубить – так с чувством. Крути еще!
– Господи боже, спаси меня и помилуй! – охнула Ивола. Оба была белой, как смерть, по щекам катились крупные слезы.
– Теперь довольно! – вдруг жестко произнес Тоомас. Сердито опрокинув точило, он схватил жену за волосы и, зло глядя на нее, сказал:
– Портного Кантерпасса надо убить!
В воротах еще приостановился, оглянулся и крикнул:
– Прощай Ивола, я больше сюда не вернусь!
1925
Красные лошади
Перевод Н. Калаус
Небо едва начало светлеть, когда Мари Тааде вскочила на ноги. Протирая заспанные глаза, она принялась быстро одеваться и собирать в узелок пожитки. Их и было-то всего ничего – пара платков, туфли да три клубка красной шерсти, которые она не первый уже год носила с собой с хутора на хутор в целости и сохранности. А больше у нее и не было ничего – все остальное сгорело при пожаре. Увязав узел и умывшись, она подошла к хозяйки и сказала:
– Что ж, счастливо оставаться, хозяйка, мне пора в путь. Жаль, правда, уходить отсюда, но такова уж доля бедных батрачек: если работы на одном месте нет, надо на другое переходить. Я ведь и сама вижу, что я вам больше не нужно, – хутор со всеми службами сгорел дотла, скотину и ту приткнуть негде, чего ж тут о батрачке говорить... вам и самим теперь долго придется в крохотной баньке ютиться, раньше-то будущего года не отстроитесь. Просто чудо, что еще банька уцелела, сгорела бы и она – так хоть в лесу спи... Да, вот так вот оно... у каждого свои беды и напасти, ничего не поделаешь!..
Хозяйка, вместе со всей челядью лежавшая на полу, подняла заплаканные глаза и, горестно вздохнув, ответила:
– Да, да, счастливо и тебе, Мари, ты была мне прилежной, трудолюбивой помощницей, жаль прямо с тобой расставаться. На будущий год, ежели Бог даст сил и здоровья, поднимем хутор наново, – тогда сразу же возвращайся. А сейчас, да, худо и тяжко у нас, нет даже куска хлеба тебе на дорожку дать, все, все погибло в огне. Одному Богу известно, как еще сами мы не сгорели спросонок!..
И хозяйка снова опустила голову на пол и, прижав к глазам передник, завсхлипывала.
Мари Тааде, уже было направившейся к дверям, стало жалко хозяйку, и она еще на чуток присела возле нее. Тоже украдкой смахнула несколько слезинок, повздыхала и, проведя по лицу широкой ладонью, заговорила, успокаивая:
– Ничего, хозяйка, не плачь, несчастье с каждым может случиться. Мне тоже не сладко: я опять должна к новым хозяевам в услужение идти, а что они за люди, кто знает, тут-то ко мне все как к дочери относились, в полном достатке жила...
И, почти вплотную прижав губы к уху хозяйки, зашептала:
– Но что я еще скажу... это не просто несчастный случай, тут злая рука постаралась... Найди ее, не оставляй так! Приглядись повнимательнее к тем, кто вокруг – вряд ли кто из чужих подпалил хутор. А еще лучше – съезди в город, к гадалке, она по картам скажет, кто это сделал!
– Да ну тебя, Мари, не говори глупости, – отмахнулась хозяйка. – У нас в жизни не было ни врагов, ни недоброжелателей, которые бы могли нам огонь под стреху сунуть! Скорее всего, пожар случился из-за трещины в трубе, или мальчонка лазал на сеновал со спичками яйца искать!
Мари Тааде это уязвило. Она резко поднялась, затянула потуже узел платка по подбородком и холодно бросила:
– Ну да я ни на чем не настаиваю, говорю лишь то, в чем уверена и что думаю. Я просто убеждена, что это был поджог – только и всего. Но раз ты не хочешь и возражаешь, то... счастливо оставаться, хозяйка!
Она открыла дверь баньки и вышла. Во дворе приостановилась на минутку, чтобы бросить последний взгляд на пожарище.
Да, подумала с горечью, был красивый хуторской дом – и вон что осталось... обугленные бревна да закоптелые камни. Дубы поодаль и те словно брошенные на каменке веники, с черной скукоженной листвой.
И, крепко прижав к себе узелок, повернула к большаку и торопливо зашагала прочь.
Она была приземистой дурнушкой с толстыми губами, узким лбом и выступающим вперед подбородком. Большие блуждающие глаза ее смотрели чуть искоса и недоверчиво. Платок сполз на плечи, и рыжеватые волосы отсвечивали на солнце золотом.
Время от времени она присаживалась на обочину, рвала по краям придорожной канавы цветы, собирала ягоды, затем вдруг, как будто чего-то испугавшись, вскакивала, подхватывала свой узелок, башмаки и еще поспешнее, чем прежде, устремлялась дальше. Ежели навстречу, случалось, ехала какая-нибудь телега, девушка заблаговременно сходила с дороги в поле и пережидала, пока она не протарахтит мимо.
Была середина лета, ржаные поля желтели, по синему небу плыли белые облака.
К полудню Мари Тааде добралась до хутора Мудааллику. Сюда ее обещали взять в батрачки и сюда, на подворье, она теперь и свернула.
Хозяин Яак Кийгаяан вышел навстречу новой работнице, окинул ее со всех сторон внимательным взглядом, познакомил с другими батрачками и батраками и велел быть трудолюбивой и прилежной. Но Мари Тааде особо наставлять не было нужды. Поев и дав чуть роздых ногам, она сейчас же споро принялась за работу. Девушка она была крепкая и сильная. Подцепив коромыслом ушаты, она шал через двор к хлевам, нимало не сгибаясь под тяжестью ноши. К вечеру со всеми на хуторе у нее сложились такие дружеские отношения, как если бы она жила здесь уже давным-давно. За ужином она подробно и обстоятельно рассказала собравшимся в овинной о пожаре на хуторе Лайксааре. И тут же, сделав хитрое лицо и возя взад-вперед ложкой, таинственно произнесла:
– Но знаете, что я скажу... там без злой руки дело не обошлось. А то чего бы это вдруг средь бела дня рига с чердака загорелась?
И хозяин, и все хуторские были довольны новой батрачкой. Она была работящей, общительной и исполняла все, что ни прикажут. Вечерами, справив все работы по хозяйству, она долго еще сидела перед очагом и штопала батракам носки. Одна лишь хозяйка немного косилась на нее и не торопилась высказывать своего мнения.
Но по прошествии недель и месяцев и ее подозрительность улеглась. Лучшей работницы, чем Тааде, нельзя было и пожелать. К тому же она вела себя очень богобоязненно и не любила хороводиться с парнями. Когда по воскресеньям хозяин клал на стол Библию, она садилась напротив него, складывала руки на коленях и, широко открыв глаза, внимала каждому слову, как если бы впервые слышала все эти поразительные истории. И нередко на глазах у нее выступали слезы, слушала ли она Священное писание, сетования ли товарок или то, как хозяин читал газеты, в которых шла речь о жестоких преступлениях и о кражах. Сердобольная отзывчивая девушка не знала, похоже, ни нужды, ни забот. Она сама никогда ни на что не жаловалась, не роптала, была всем довольна и вроде не мечтала ни о чем лучшем. Зато если с кем-то другим случалось какая-нибудь беда или неприятность, Мари сразу же оказывалась рядом, плакала и утешала, готовая, кажется, даже жизнью пожертвовать ради ближнего.
Так прошла осень; хлеба были обмолочены, картофель убран и даже перелетные птицы уже улетели. И тут вдруг Мари Тааде заболела. Она не жаловалась на ломоту, не слегла и в постель, но во всем ее облике было что-то неестественное и болезненное. Она поникла, помрачнела, каждый шаг делала словно нехотя, не ела и не пила. Глаза, странно-белые, с застывшим взглядом, блуждали невидяще по сторонам. Она почти не разговаривала больше а если и говорила что, то с таинственным видом, шепотом. Хозяйка внимательно приглядывалась к ней, однако молчала. В конце концов хозяин решил пригласить врача. Но этому категорически воспротивилась сама Мари Тааде. Да и врач был уже не нужен: Тааде снова стала приветливой, не жаловалась больше на головную боль и только ночью металась и бредила.
Хозяйка подошла к ней, положила руку девушке на лоб и спросила:
– Что с тобой, Мари?
Тааде, открыла мутные глаза и сказала:
– Плохо, хозяйка, – нас ждет страшная беда. Мне приснился ужасный сон...
Хозяйка присела на краешек кровати и поинтересовалась:
– Что же такого тебе приснилось?
– Я видела красных лошадей, – дрожа ответила Тааде. – Все хлева, конюшня, амбары и даже жилая рига были полны красных ржущих лошадей. Гривы их развевались, глаза горели, и они бились тут, рушили все и ржали...
– Так ведь в этом не ничего плохого, – улыбнулась хозяйка.
– Есть, есть! – воскликнула с таинственным видом Тааде. – Красные лошади значит огонь, большой огонь. Где были красные лошади, там все постройки сгорят дотла!
– Господи, помилуй! – ахнула испуганно хозяйка. – Да ты, Мари, и вправду нездорова, надо было все же позвать тебе доктора. Волосы шевелятся, такие ты страсти говоришь!
– Никакая я не больная! – упрямо возразила Мари. – А за челядью своей следите хорошенько, поди знай, что ни за люди и что у них на уме может быть. Вон, я когда в Лайксааре в прислугах жила, мне тоже красные лошади приснились, и на третий день хутора не стало. Так что следите, в оба смотрите за каждым!
Хозяйка потрясла головой и пошла в заднюю комнату к хозяину.
– Странная девушка, – подумала она, – очень странная.
И уже не спускала глаз с Тааде. Как тень ходила она за ней.
И под вечер, когда в небе заалело закатное зарево, она увидела, как Мари Тааде лезет на сеновал. Возбужденная, с горящими щеками, девушка, воровато озираясь карабкается по лестнице... Хозяйка тихонько подбирается ближе, смотрит.
Мари чиркает спичкой, еще разок пугливо оглядывается, бросает спичку в былье, и только сено и солома вспыхивают, кидается к лазу...
– Помогите! На помощь! Горим! – кричит хозяйка.
Батраки, работницы, хозяин – все сбегаются на сеновал, тут же выстраивается живая цепочка, из рук в руки предаются ведра с водой. И Мари Тааде тоже стоит в этой цепи и деятельно помогает тушить пожар. Огонь перекидывается с сена на крышу, загорается сухая дранка. Чердак, набитый травой и соломой, заполняется удушливым дымом. Однако ценой огромных усилий пламя все же удается сбить.
И тогда хозяйка говорит:
– Мари Тааде, это ты подожгла сеновал!
Девушка поднимает глаза и, невинно глядя на хозяйку, отвечает:
– Нет, я не делала этого!
– Я сама видела! – с побагровевшим от гнева лицом восклицает хозяйка.
– Ты видела? – удивленно переспрашивает Тааде.
Она словно не верит собственным ушам. Потом взгляд ее смущенно опускается вниз, голова медленно склоняется к плечу, и девушка заливается краской. Она пытается глуповато улыбнуться, кусает дрожащие губы и всем своим видом являет растерянность.
– Ты, ты подожгла сеновал! – кричит снова хозяйка.
– Я... – мямлит Мари.
– Зачем ты это сделала? – теперь уже спрашивают батраки.
Но Тааде не знает, что сказать. С виноватым видом стоит она в кругу бушующих людей и молчит. И лишь глупо улыбается и переминается с ноги на ногу, голова склонена к плечу, рыжие волосы всклокочены.
Хозяин, задыхаясь от ярости, подскакивает к ней, хватает за глотку и швыряет наземь, в грязь.
– Чертова кукла! – орет он. – Точно арестант беглый, она мне тут будет по сеновалам лазить и красного петуха пускать! Ну скажи, какое зло у тебя на нас может быть, на меня или на хозяйку? Хоть одно худое слово ты от нас слышала? Или мы обижали тебя, плохо платили? Говори, дрянь такая, зачем ты подожгла хутор?
Девушка медленно поднимается с земли, лицо и одежда ее перепачканы грязью, из носа сочится кровь, она вытирает ее рукой, измазывая пальцы. Все еще странно посмеиваясь, она стоит обреченно – безропотная и тихая.
– Говори же, ну! Говори! – наседают и батраки с батрачками.
Мари Тааде колеблется, на какой-то миг вскидывает глаза, потом шепотом роняет:
– Красные лошади...
– Какие еще лошади? – рявкает хозяин. – О каких таких лошадях ты тут плетешь?! Говори, зачем подожгла хутор?
– Говори! Говори!
Но Тааде не знает, что говорить. Ее толкают, бьют, ругают, таскают за волосы и сваливают с ног, а она, поднимаясь, только утирает юшку и молчит.
– Да она ненормальная! – восклицает хозяин. – Как есть умалишенная! Прийдик, чего ты стоишь? Сейчас же запрягай и скачи за полицией – такую ненормальную девку на хуторе больше оставлять нельзя.
Мари связывают по рукам и ногам и до приезда полиции бросают в грязи. Она не сопротивляется, не причитает, не просит о пощаде – словно бесчувственная деревяшка, позволяет делать с собой все.
Приезжает полиция и составляет протокол. Батраки и батрачки показывают, что Мари была очень хорошей и прилежной девушкой. Даже хозяин и тот угрюмо признает:
– Была, да, очень работящей, стерва. И Библию чтила!
Мари Тааде, ничего не тая, подробно рассказывает о своем поступке. Когда же урядник спрашивает ее о причине поджога, она не отвечает ничего.
Тем же вечером Тааде увозят в поселковую тюрьму, где она проводит ночь, и на следующий вечер доставляют в город. Здесь для Мари настают тяжкие дни. Камера, в которую ее помещают, полна всяких воровок – те тоже налетают на нее стервятниками.
– Зачем подожгла? – глумливо допытывают они, узнав от девушки ее историю.
И начинаются бесконечные путешествия от судебного следователя в тюрьму и из тюрьмы к судебном следователю. Тут-то и выясняется, что Мари Тааде совершена целая серия поджогов. Майксааре, Мяннимыйз, Турбасоо, Охелди... изряден перечень хуторов, пострадавших от огня за годы ее батрачества. Где сгорела жилая рига, где хлев, где амбар или сенной сарай. Повсюду Мари ничем не замечено устраивала пожар, потом сама же помогала его тушить, сама же плакала и впадала в отчаяние.
Длинная череда хозяев и хозяек, работниц и батраков прошла через кабинет судебного следователя, и все они повторяли одно:
– Кто ж мог подумать, что поджигательница – Мари Тааде? Такую прислугу, как она, днем с огнем поискать, уж до того она славная, исполнительная...
Некоторые так и вовсе отказывались верить, что Мари Тааде может быть в чем-то виновна.
– Нет, – говорили они убежденно, – кто-кто, а эта девушка ни при чем. Другой такой честной и набожной, поди, на всем свете нету. Хутор, оно верно, сгорел дотла, все в огне осталось, и скотина, и хлеб, но Тааде в этом ни капли не виновата. Пожар просто случился от трещины в трубе!
Следователь десятки раз задавал девушке вопрос:
– Зачем ты жгла хутора?
Но так и не получал ответа. Мари подробно описывала детали, помнила отчетливо каждый случай, охотно отвечала на любой другой из вопросов, но объяснить мотив преступления не могла.
Тогда ее отправили в госпиталь. Там врачи обследовали ее психическое состояние и дали заключение, что Тааде совершенно нормальна и способна отвечать за свои поступки. Мари Тааде опять перевезли в тюрьму; она сидела, нахохлясь, в углу камеры и обращала к себе самой все тот же жгучий вопрос:
– Зачем жгла?
2.
В один прекрасный день на мызе Вийтоя появился человек по имени Юри Тааде, старый николаевский солдат. Он зашел в харчевню, поговорил о том о сем, но предпочтение отдавал беседе с женщинами. Когда кто-то спросил, что привело его в эти края, Юри Тааде ответил, что он из Вайнвараской волости и что он жил там в волостном доме призрения, однако зачем пришел сюда, сказать не сказал. Немолодой уже человек– лет, наверное, шестидесяти, – он чуть прихрамывал на левую ногу и плоховато слышал. Но подбородок его был тщательно выбрит и грудь увешана орденами и медалями. Очень серьезный, общительный, Юри Тааде не любил зубоскальства и насмешки просто пропускал мимо ушей. Зайдя в харчевню, он немного посидел гостем на общей кухне, а затем взялся помогать женщинам: кормил свиней, чистил картошку, носил воду. И с наступлением вечера не ушел, попросился переночевать на полу у печки.
Лишь на другой день он осторожно завел разговор, мол, нет ли где здесь в округе вековушки, под стать ему?
– Ого, – воскликнули женщины, – вон его, чертяку, что сюда привело! Жениться он надумал, сучок старый!
– Хотелось бы, да, – протяжно вздохнул отставной солдат.
– Ну-ну, – молвили женщины и стали рядить кого бы из девушке ему присоветовать. Но при всем своем добром отношении к солдату им никак не удавалось подыскать ему подходящей невесты. Либо они были все слишком молоды, либо слишком стары. Во всех уголках дома жило обсуждалась эта проблема, не оставались в стороне даже мужчины.
Наконец один из половых предложил:
– А что? Направьте его к соргуской Анне!
– Да ну! – захихикали женщины, – она ведь калика. Сызмала с сумой ходит и умом туповата, а так что ж – вполне здоровая, чистая...
Юри Тааде послушал эти женские пересуды и спросил:
– Кто это – соргуская Анне?
– Нет, ее мы тебе не советуем. Ты все ж таки человек серьезный, заслуженный солдат, так сказать, награды имеешь, пенсию. А она – голь перекатная, бродит по волости, побирается. Кто корку хлеба даст, кто крупы кроху или малость картошки – тем и сыта.
– А где она живет? – поинтересовался старый солдат.
– Ах да мил-человек, – ответили женщины, – зачем это тебе? Разве годится калика тебе в жены? Она ведь немного придурковата или как бы это сказать... А жить она живет возле кирки, в маленькой пасторской бане. Сколько уж ее гонят оттуда, да все никак не выгонят...
– Та-а-ак... – протянул отставной солдат. – Стало быть, соргуская Анне в церковной баньке живет? – И стал прикидывать что-то про себя. В путь он сразу не двинулся, еще покормил свиней, начистил картошки, воды наносил, и лишь когда день начал клониться к вечеру, вдруг исчез.
– Куда подевался этот обходительный солдат? – спрашивали друг дружку женщины.
Но никто не видел, как он ушел.
А солдат шагал себе неторопливо к кирке. Все эдак: шаг ступит – станет, шаг сделает – постоит. Порой смахивал пот со лба, покашливал, рассматривал подолгу ландшафты и готов был, того и гляди, повернуть обратно. Никакое другое дело в жизни не казалось ему таким трудным. Идти или нет? – снова и снова спрашивал он себя. И в конце концов решил: пойду – попрошу стакан холодной воды. Скажу, мол, прохожий, попить захотелось, день-то вон какой жаркий...
К тому времени, когда он появился у баньки, Анне уже знала, что придет гость и что у него за намерение. Она даже кофе сварила, повязала голову белым платком и стала в дверях баньки как зажавшаяся невеста во всем своем блеске. Маленькая, тщедушная, смуглое лицо все в морщинках, она походила на чахнущий можжевельник. Однако жизненной энергии в ней было предостаточно – она крючком впилась в солдата. Тот и опомниться не успел, рта раскрыть, как Анне повелительно прикрикнула:
– Иди скорее! Кофе на столе стынет!
Ничего не сказав, Юри Тааде вошел в баньку, сел за стол и стал прихлебывать кофе. Анне чертом вертелась вокруг него, тараторила без умолку и потчевала гостя то одним, то другим. А потом, так и не дав солдату слова вставить, сказала:
– Посиди, попей кофия, отдохни, а я сбегаю тут мигом...
На душе у Тааде полегчало. Слава Богу, подумал он, теперь хоть смогу немного поразмыслить. Женщина, видать, и впрямь ничего, довольно бойкая, вроде расторопная. Через месяц эдак или чуть попозже надо будет опять сюда наведаться и серьезно поговорить с ней. Да, так он и сделает...
Пока он строил планы, как он сюда вернется, Анне вихрем примчалась к пастору.
– Теперь у нас есть звонарь! – сказала она. – Очень приличный человек, вся грудь в медалях. Когда-то он в больших чинах, состоял на казенной службе.
– Кто же этот новый звонарь? – спросил пастор.
– Мой муж! – гордо ответила Анне.
– Твой муж? – удивился пастор. – Насколько я знаю, у тебя нет никакого мужа.
– Есть, есть! – радостно заверила Анне. – Уже есть! Сегодня пришел меня за себя звать. Так что через три недели и свадьбу сыграем.
– Да уж, прежде сыграйте свадьбу, – промолвил оторопело пастор.
– Это-то конечно, – деловито ответила Анне, – со свадьбой мы мешкать не будем. Прошу вас, огласите нас сразу же. А как вам самим звонарь нужен, то лучшего человека на это место вам и не сыскать.
– Ну а как хоть звать-то этого человека? – спросил пастор.
– Звать? – протянула Анне. – А вот этого я и сама пока не знаю. Некогда было спросить, но я сейчас сбегаю домой и... хоть лучше, наверное, если я его самого к вам приведу.
И Анне вихрем помчалась назад. Влетев в баню, она с жаром зачастила:
– Пастор просил тебя сейчас же прийти к нему. Он хочет видеть твои бумаги и поглядеть, приличный ли ты человек. Дело, вишь ли, такое, что ты ни дня не можем тянуть с венчанием. Не только пастор не возьмет тебя звонарем, а это очень хорошее место. Платят, правда, мало, зато побочные доходы куда как завидны. Отзвонишь ли по покойнику, на крестинах ли пособишь или там свадьба какая – все тебе кто-нибудь да что-нибудь сунет.
Юри Тааде был до того ошарашен этим наскоком, что чуть не подавился. Вот так, так, – подумал он, – прямым ходом к попу иди, день свадьбы назначай, определяйся в звонари, и все это не обмозговав, не взвесив, что называется, с пылу с жару – да в рот?
А соргуская Анне уже, ухватив его за руку, торопила:
– Идем же, идем скорее – не оттягивая! Кто-нибудь опередит – и останешься без места. И свадьбы не будет!
Солдат встал, двинулся вслед за Анне. Идти или не идти? – опять стал гадать он про себя. – Идти или нет? По правде говоря, девка ничего, но эта чертова стремительность была ему явно не по нраву. Чихнуть не успел, вокруг оглядеться – а уже к попу ведут! Конечно, совсем бы неплохо было заполучить место звонаря, поселиться здесь в баньке и не знать на стрости лет забот. Но к чему спех такой, словно сатана в зад шилом тычет. Надобно было бы сперва поспрошать Анне, есть ли у нее хоть какое имущество, ну там овца, поросенок, еще что... Идти или не идти?
Так он и не успел ничего решить – они уже подошли к пасторскому дому, Анне быстренько открыла дверь и дальше говорила-решала все сама. Тааде только и оставалось, что кивать головой, отирать пот и молчать. И так их имена и были вписаны рядышком в книгу, за Тааде закрепили место звонаря, и еще сегодня солдату надлежало натопить кирку, отзвонить по одному бобылю и наколоть пастору дров на неделю.
Анне же сияла.
– Ничего, не печалься, – утешила она, – ведь не каждый день столько работы будет. Да и я тебе пособлю со всем управиться. Ты иди коли дрова, а колокол и топку я возьму на себя.
– Чудны дела твои, господи! – подумал Юри Тааде, не зная, огорчаться ему или радоваться. Ощущение у него было тем не менее такое, будто он увидел воз, ринулся к нему и сам впрягся в оглобли вместо лошади с намерением втянуть этот воз в гору. Почему именно такое сравнение пришло ему на ум, он и сам бы не объяснил, но что он чувствовал себя такой лошадью, это определенно.
Но потом в жизни он больше не ведал ни бед, ни забот – обо всем пеклась Анне и все улаживала она. И ни на шаг не отпускала от себя солдата, держала его точно на привязи. Даже пожитки Тааде и те до поры до времени оставались в вейнвараском волостном доме призрения – и речи не могло быть о том, чтобы солдат хоть куда-нибудь отлучился до свадьбы. Только после того как свадьба была сыграна, несколько месяцев вместе прожито и Тааде уже начал свыкаться со своей новой жизнью, Анне на пару дней отпустила его от себя. Доверила съездить – забрать вещи. Она сама достала лошадь, посадила мужа на телегу и сказал, увещевая:
– Смотри мне, поганец, не балуй, веди себя там прилично.
– Да ну тебя, сумасбродка, – проворчал в ответ Тааде, – будто я невесть за чем туда собрался...
– Ничего не знаю, – сказала Анне. – До солдат много охочих!
Через год Анне родила мальчика. У старого солдата прямо сердце замерло, когда он услышал в темном углу бани крик ребенка. Он вылез из постели, на трясущихся ногах подошел к жене и спросил полушепотом,
– Есть?
– Есть, есть, – ответила Анне. – А теперь сбегай кликни-ка женщин.
И старый Тааде побежал. Он скликал уже полдеревни, полмызы женщин, но все еще ему казалось, что он не до конца справился со своей задачей. И он продолжал вырываться в дома и, тяжело дыша, отирая пот, вызывать:
– Скорее, идите скорее, там с Анне что-то случилось!
Когда он вернулся домой, возле роженицы суетилась уже целая толпа. Отдуваясь, Тааде сел на порожек, возбужденный, красный, усталый.
Ох и было возни и хлопот с этим новорожденным! По субботам, когда баню топили, они были вынуждены вытаскивать весь свой скарб, даже качалку с ребенком, на травку. Летом еще было бы куда ни шло, но зимой, в холод, день и ночь держать ребенка на дворе было маетно. Потому и случилось несчастье. Кроме каменки в баньке другой печи не было, и тепло в ней сохранялось лишь первую половину недели. Чтобы младенец не замерз в стылой бане, они стали подвешивать его в корзине под потолок. И малютка, крохотный человечек едва двух месяцев от роду, угорел.
Анне выла как раненая волчица. Утром, увидев ребенка бездыханным, она схватила его на руки и первым делом кинулась к пастору. Тот взглянул на мертвого младенца и единственное, что смог сказать, так это то, что ребенок действительно мертв.
– Мертв! – воскликнула Анне.
Нет, она не могла в это поверить! И хотя врач жил верст за десять, она по глубокому снегу помчалась к нему.
Но и он констатировал смерть, усталая, сломленная, приплелась она с мертвым ребенком домой. Тааде сам сколотил гроб, выкрасил его в черный цвет, поставил на саночки и своз ребенка в кирку.
Шли месяцы, мать плакала в темном углу баньки, безразличная ко всему, к мужу, к хождению с сумой, к еде. Она как оцепенела. Иногда ночью она вдруг начинала кричать, и это уже был нечеловеческий вопль. Тааде только в затылке чесал. Он не знал, что делать. Вздыхая, он глядел на плачущую жену печальными, влажными глазами.




![Книга Верпа [Сборник] автора Алексей Хвостенко](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-verpa-sbornik-270177.jpg)