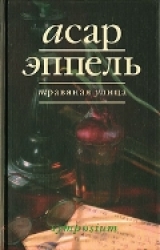
Текст книги "Травяная улица"
Автор книги: Асар Эппель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
ИЮЛЬ
Когда в июле на обочинах булыжного тракта образуется по щиколотку пыли, мягкой и горячей, как курортная процедура, а зернистые черепа булыжников жестки даже на взгляд, а появившиеся весной в межбулыжьях былинки давно сухи и торчат или из битых стекляшек, или из крупного зернистого же песка, тогда лошади, попадающиеся тут много чаще, чем трехтонки, сходят с булыжника и пых-пых – как в пух, вбивают свои ломовые заскорузлые копыта в пушистую пыль на обочине, и два колеса продолжают звучать по булыжнику, а два колеса начинают молчать на земляной обочине, и езда становится глуше, хотя ведру на задке телеги висеть становится трудней – оно с назойливостью Ньютона настаивает на земном тяготении, сохраняя вертикаль и от этого брякая обо что-то подтележное, обо что не брякало бы, продолжай телега ехать без наклона.
Но лошади виднее. Продвигаясь по слободе, она устраивает себе передышку, потому что на булыжном тракте, единственной мощеной улице под названием 3-я Ново-Останкинская, нет выматывающих колдобин и больших ям грунтовой дороги, куда в конце концов придется свернуть ближе к питомнику или дальше у Владыкина. Нет по тракту и слепней, которые понимают, что места эти сроду находились в черте города, а слепням в городе жить не полагается они кошмар полей и сельского покоя.
Первые из них подлетят где-то около кирпичной церкви Святой Троицы, образцового московского барокко, но о барокко тут пока еще никто не слыхал, а тем более лошадь, которую первый звенящий мучитель заставит размашисто перекреститься хвостом и воззвать о милосердии к лошадиным святым Флору и Лавру.
Вознице, тому просто жарко, и он шевелит пальцами ступней, свешенных с телеги. Ступни – большие, на них множество пальцев с толстыми ногтями, кое-где расслоившимися и мутными. Лошадью он не руководит, даже не грозится ей, хотя его лошадь русским словом управляется, и на том спасибо, потому что кое-где появились трофейные лошади, которые гнилого сена не жрут, дуги с оглоблями боятся и понимают только по-немецки, а значит, управляешь ими только вожжей, так что, пока едешь, спокойно не насидишься.
Июли были и так знойные, а тут, того и гляди, потрескается земля; такое уже однажды случалось, и ничего хорошего в этом не было – люди руки пообрывали, таская по вечерам из колонки воду для поливки огородов, производивших необходимую тем, кто тут жил, еду.
На еду в июле во множестве садятся зеленые мухи, прилетающие с выгребных ям, и, как слепни на лошадей, так – они на еду, а простые мухи еще и на людей, хотя и простые и зеленоблещущие навозные докучают лошадям тоже. Но на травяных улицах лошадей же никто не держал, а тащившаяся через слободу здешняя дорога, как мы уже сказали, была даже передышкой, а комары появятся только к вечеру, и хотя их немного и держатся они недолго, но у всех детей расчесаны руки и ноги, а с утра, взмокшим от ночной духоты да еще и потеющим от утренних лучей, пыльным столбом вошедших в окно, спящим детям приходится накрывать лица тюлевыми накидками с дневных подушек, иначе мухи исползают лицо и замучают.
Когда у тебя уже нет детей, мухи донимают тебя самого и поэтому посреди обеденного стола на клеенке стоит стеклянная ловушка – натуральный вымысел безмятежного девятнадцатого века, когда многолюдная смерть кого бы то ни было – а в данном случае мух – не наводила ни на какие мысли, в данном случае о многолюдной, скажем, смерти людей.
Ловушку, видно по всему, делали прекрасные мастера стеклодувного искусства, и описать ее непросто, ибо вся она – по смыслу своему и форме своей – и так законченное произведение, а выдута из тонкого бесцветного стекла, как научная химическая колба.
Представим себе стеклянную луковицу, величиной с небольшую кастрюлю, но на трех коротких – сантиметра в полтора – стеклянных ножках. Внизу – там, где у огородной луковицы круглый щетинистый островок бывших корней, у стеклянной крупное отверстие, стеклянные же края которого вогнуты внутрь пустого прозрачного нутра. Сверху – там, где из натуральной росли бы перья, стеклянная завершается самым обычным бутылочным горлышком.
Так она выглядит, ловушка.
Нальем теперь сверху в горлышко воды. Она, не попадая в донное отверстие, фестонами заскользит изнутри по стенкам и заполнит стеклянный ров, образованный загибающимися внутрь краями дна. Естественно, не следует наливать воды столько, чтобы она стеклянную баранку рва переполнила и стала выливаться в отверстие. Подольем в воду через горлышко немного молока или сыворотки, и жидкость в стеклянной луковице станет белесой и неприятной. Затем заткнем горлышко пробкой и положим на клеенку под донное отверстие мелкий осколок колотого сахара. Теперь все представимо и готово. Муха прибегает под стоящую на низких ножках ловушку, некоторое время объедает хоботком сахар, потом, насытясь, взлетает и попадает, конечно, в донное отверстие, куда направляет ее, как в стеклянную воронку, сужающийся купол вогнутых краев.
И она оказывается в стеклянной безвыходности, нагретой солнцем и заткнутой сверху пробкой, а там – или сразу падает в белесую жидкость, или ползает сперва по стенкам, или бьется и звенит, но глухо – колба держит звук, – или, что бывает редко, все-таки вылетает в донное отверстие, но там – сахар, с которого она опять неминуемо взлетает вверх и, посидев изнутри на стекле, решает попить тепловатой вкусной водицы, однако срывается со стеклянной стенки и в желанное пойло падает.
Словом, что ни делай, в воде, побившись о стекло, будешь обязательно и, побарахтавшись в ней и погудев тревожно, оцепенеешь в конце концов и заплаваешь в белой мути, заплаваешь в черном своем лапсердаке – иногда отвердевшими лапками вверх, и тогда они кажутся сухими и ломкими, иногда на животе, опустив лапки в воду, отчего они чуть увеличиваются и видятся мокрыми и мохнатыми, а неправдоподобной тонизны поверхностная пленка жидкости ребром своего микрона стоит посредине мушиных глаз, и, будь они живыми, то надводной бы частью своей видели бы пробочку в стеклянном куполе, а подводной – учудовищненный водой и кривизной стекла обломок сахарной скалы, на котором, только что отжужжав во взаимном оргазме, две мухи спокойно тычутся мягкими хоботками в сладкие кристаллики.
Когда вся вода покроется размокшими прокисшими мухами, пробочку нужно вытащить, воду с мухами через горлышко слить, и всё повторить. Иногда – раз в день, иногда – раз в три дня.
Во время еды, разумеется, колба на столе остается, потому что во время еды мух на столе больше всего, и больше всего их глухо гудит и чернеет тогда в стеклянной трехлапой луковице.
А липучка хуже. Ее и не купить, и волосами к ней приклеиваешься, и мушиный звон с нее всегда отчаян, особенно если полуприлипнет зеленая мясная муха.
Жарко. Особенно новому человеку. Дома – душно. Да и надоедает, положив руки на стол, а на них голову, вглядываться в казни надо рвом с мутной водой. Долго так не высидишь и потому, что рукава рубашки завернуты до локтей, и кожа, слипшись с клеенкой, подмокает, и надо потом разъединять их; причем кожа слегка оттягивается прилипшей клеенкой, а клеенка – прилипшей кожей.
Жарко, и все ходят купаться на пруд. Но это странно видеть, потому что купающимся пруд кажется достаточным и даже таким большим, что они толпами заполняют его песчаные бережки. Мужчины движением «руки вверх» снимают с себя майки-сетки, опускают с ног большие трусы или бязевые кальсоны и голые входят в воду, потом падают на нее, причем она словно бы и не всплескивает, а они, вертясь – и не в одну сторону, – плавают саженками, странным приемом плавания, всегда напоминающим бегство вплавь, когда преследуемый непрестанно и энергично оглядывается назад, боясь татарской стрелы, которую умело, неминуемо и неспешно пустят с берега, где сам он только что молился ослепительному солнцу, но, услыхав жужжание слепней, предвестивших басурманскую напасть, кинулся в воду, спасаясь вплавь.
Женщины не плавают, а то и дело в воду приседают; на них большие грудедержатели и становящиеся прозрачными от воды белые миткалевые штаны; на некоторых – вытянутые и висячие – вискозные. Некоторые из женщин умеют плавать по-собачьи, тогда на ягодицах их вздувается воздух внутри мокрой порозовевшей вискозы, а сами они медленно, как больные водомерки, ползают своими телами по воде.
Дети не кричат и не играют. Вода не плещет совсем, а значит, не блещет. Зато блещет надо всем солнце, и тела у всех кроме детей неживые и белые, а у мужчин под животом чернота, и в ней белый детородный член.
Если сам не купаешься, то иногда все-таки пройдешь мимо пруда, вокруг которого и в котором сидят люди, а кое-кто, вертясь вьюном, спасает свою жизнь. Но близость небольшой этой воды не создает ощущения прохлады, и пусть на тебе нездешние белые брюки в переброску и белая рубашка с засученными рукавами – нельзя же ходить, как местные, в сетках на волосатой груди и в носовых платках с узелками по углам на голове, – и пусть чуть дальше и впереди видны за забором летнего кино высокие белые березы, и кажется, там есть, есть зыбучая мелколиственная тень – все равно жарко невыносимо, а главное – непривычно, и дома оставаться невозможно – задыхаешься. И ночью будет душно, потому что странный и непривычный деревянный дом прокаливается за день на сковородке своей железной крыши, и лежишь под простыней, вернее, скомкаешь и собьешь ее, и дышишь, как дышат люди в июле, когда вот-вот растрескается земля.
Остается трогать в темноте одинокие предметы. Очки на придвинутом стуле, выпуклый циферблат карманных часов, откинутую их крышку и тяжелую цепочку, а часы тикают: так-тик, так-тик, показывая тот так и не пойманный ритм, когда, давая умирающей дочери кислород, никак не сладишься с ее отчаянным дыханием и нажимаешь на подушку невпопад, – надо бы: воз-дух, воз-дух, воз-дух, а получалось почему-то: хри-петь, хри-петь, хри-петь…
И, как до этого многое, подушка быстро кончилась, вконец сбив ее паническое уже дыхание, которое тоже скоро кончилось. И все кончилось. И не осталось никого.
Никому и никогда не хочется смотреть на человека, несущего кислородную подушку. Трудно сказать почему. Тем же, кто кислородные подушки несет, неловко от этого. Неловко за все: потому что подушка велика, а воздуху все равно в ней мало, потому что спешишь, а все равно медлишь – надо же незамедлительно! – потому что это последнее средство – тогда зачем? – потому что оно не спасает – тогда для чего? Всегда неприятно видеть кислородную подушку, с которой человек садится, скажем, в трамвай, а трамвай все равно идет со всеми остановками. А видеть ее неприятно потому, что она сопричастна удушью. Думать про удушье невыносимо. Никто не любит думать про удушье. Спасся с дочерью от одного удушья, она умирает от другого удушья, а ты вот теперь не можешь уснуть от духоты.
Некоторые – вернее, многие – ставят в палисадниках раскладушки и среди ночи спят, белые и длинные, прямо почти на улице, но это неприятно. Выйдешь и видишь стоящие во дворах койки. Спящие всхрапывают, а иногда почему-то двое бегут за одним или трое за двумя. Бегут беззвучно, чтобы не поднимать шума и никого не будить. Бегущие долговязы, они выше заборов, а бегут потому, что преследуемый или преследуемые созорничали, идучи ночью и тихо швыряя в спящих камешки; те же тихо вскочили и побежали за ними. Люди ночью побежали друг за другом, белея на бегу в сером ее исходе. Это странно и неприятно. Потому что бесшумно как-то. Бегут бесшумно.
Днем же, обмеряя громоздкую большую заказчицу (почему-то все здесь такие), глянешь в окно, а там как раз лошадь – пых-пых – и телега наклонена, и ступни чьи-то свисают со множеством пальцев, и от лошади долетает запах лошади, и ты вдруг замечаешь, как из подмышек заказчицы быстро побежал пот, и, когда, прикладывая сантиметр, трогаешь ее грудедержатели, она заводит глаза, и больше этих глаз уже не увидишь, потому что, когда ее короткие и огромные ноги расставлены и открывается мокроватый и разинутый лохматый пах, она закидывает себе на лицо подушечную накидку, и ты, влагая в скользкое отверстие ее паха свой детородный орган, видишь вместо лица плетенье этой накидки, а когда уже становится совсем скользко, под накидкой начинается словно бы удушье, и уходит она не поднимая глаз. Так что глаз не увидать как завела их, так больше и не увидать.
Еще в июле сильней ощущение, что у человека никого нет, даже если нет никого на самом деле и ты один. Близкий или ближний – это же встречи, а в такую духоту встречи вообразить трудно – для того ли встречаться, чтобы выпить друг с другом тепловатой воды? И не простоквашей же угощать, поставленной из-за быстро скисаемого в жару молока, не простоквашей же угощать, накрытой на подоконнике марлей, с корочкой черного хлеба внутри для еще более скорого скисания?
Нету в июле родственников у человека, он – один. Кошка, та спит на сухой земле возле огромной пыльной лебеды. И хотя пыль с кошачьей шерстью уже взаимно проникли друг в друга, кошка не мертвая: с нее не сползают жуки, к ней не ползут жуки и вокруг нее нету жуков. Вообще, только водомерке хорошо – вокруг другие водомерки, – и на жидкой от зноя поверхности пруда она, подминая пяточками воду, катается на своих коньках, прочеркивая во все стороны быстрые короткие черточки. Если же водомерка своими рывками решит продвигаться по прямой, то это – ровнейшие стежки на поверхности тишайшего муслина и не надо подкладывать под ножку машинки шершавую и сухую газетную полоску.
Но может быть, к вечеру, может быть, к вечеру станет прохладней, выдохнется чуть-чуть жара и хоть немного черная мгла и мрак избавят от духоты. И хотя теперь совсем уже – если не избавят – некуда деться, и понятно, как будет, когда растрескается земля, но надо уйти в парусиновых туфлях и белеющих брюках из низкой комнаты к пруду и постоять возле него, пытаясь на своем дыхании в тысячный раз отладить неуловленный тогда ритм впустую растраченной кислородной подушки – воз-дух, воз-дух, воз-дух, добавивший к удушью удушья, ведь она же пыталась выдохнуть душный с в о й воздух, а ты в это время вдавливал навстречу другой, другой воздух…
Как вокруг темно, и прудовая вода уже кажется не теплой, как днем, и кажется, что вода – больше, а пруд в темноте – огромней, но краешек темной влаги безобиден настолько, что переступаешь его прямо в парусиновых туфлях, и они прохладно промокают, и в них удобнее ступать по вязкому дну. От намокающих брюк тоже стало прохладней – намокают они быстро. И насколько над водой больше духоты, чем под водой! Вот, например, рубашка еще не намокла, и она теплая, но вот и она намокла, а вода уже дошла до горла, и, когда дошла до рта, стало совсем прохладно и, можно сказать, приятно, и ты открываешь рот, так что вода, стоящая на его уровне, вплывает в него, как в воронку, и ты просто как бы пьешь, а сам делаешь вдох, и к тебе в рот вплывает спящая водомерка – великий мастер ровной строчки по муслину; в горле от нее и от проскользнувшего на втекающем муслине тополиного пуха делается шершаво, нутро твое дергается, чтобы зачем-то выкинуть воду, которая влилась, троекратно содрогается, выкашливает, выкидывает водомерку назад в глотку, и насекомое взбегает в гортани, и возникает в горле за языком… И поскольку ничего, кроме стежка, ты не умеешь делать как следует: плавать, дышать, спасаться, давать дыхание другим, выхаркивать водомерок, беспорядочно бить по воде слабыми своими ладонями, то успей хоть, вспомни хоть адрес Генерал-губернаторство, Люблин, Гродская, 19, владение Ваксмана – потом, решив было выдернуться из воды назад, поставь парусиновую туфлю свою спешно и дальше вперед и – утони.
Всё. Ты утопился. К утру ты заплаваешь на воде остывшим лицом вниз, ссутулившись, стоя и опустив холодные руки ко дну, и на тебя будет изумленно глядеть искупавшийся в теплой пыли воробей, но его вскоре поймают дети в расчесах, насыпав ему соли на хвост.
ПОКА И ПОСКОЛЬКУ
Всякое тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, п о к а и п о с к о л ь к у оно…
Тело учителя физики, находясь в покое, пребывало между тем и в состоянии равномерного прямолинейного движения, ибо земля, как заведено, облетала солнце. Но, так как последнее еще не встало, земля двигалась втемную по кривейшей своей стезе, которую п о к а можно считать прямолинейной, п о с к о л ь к у мыслим мы с вами в категориях приблизительной школьной премудрости.
Тело Самсон Есеича, лежа на спине, пребывало в состоянии покоя, п о с к о л ь к у накрытый лишенным пододеяльника ватным одеялом, он п о к а еще спал, почти не проминая плоскую подушку в слабо различимой спозаранку наволочке.
При дневном освещении наволочку тоже почти не различишь, но не потому что не стираная, – она стираная и даже очень! – а потому что бязевая, и этим все сказано.
Бязь занимает в видимой части спектра особое место. Одним она кажется желтоватой, другим – сероватой, а причина тому – утолщенные кое-где нитки, всклоченные узлы и всякий сор типа конского волоса в обрывках, полова или разные чешуйки спорыньи, умело вработанные в ткань.
Третьим – сказанная бязь кажется и вовсе чесучой, или «чечунчой», как писал Чехов, но это уже дело Чехова, как писать, чтобы словам было тесно.
Ибо в тесноте, да не в обиде будь сказано.
Ноги спящего находились в чем-то тускло посвечивавшем и явно цинковом. Однако это не значит, что учитель был двумя ногами в чем-то неотвратимом, скажем, в оцинкованном – не дай Боже! – гробу. Нет! Оно и покороче, и приглядитесь! – видом скорее усеченный конус. Неужто ведро? Да. Цинковое. А Самсон Есеич, дай Бог ему здоровья, спит, и пускай по ходу повествования ничто могильное, как гангрена, не ползет от его ступней к замечательной кучерявой голове, неумолимо превращаясь в оцинкованный футляр смерти.
Что же касается ведра – оно просто-напросто набито мягкой паклей, в которую зарылись сейчас теплые-теплые концы ног педагога.
Однако это не всё, что из ведра можно выжать в постели.
В назначенный час, по своей еще бакинской привычке, спящий повернется (такое за ночь случается однажды и всегда поутру), а с ним перекатится и ведро, звякнув о железный прут коечной спинки.
Ясно теперь?
Образовавшийся звук спящего разбудит, и тот бодро встанет, заранее, конечно, вынув из ведра ноги, ибо иначе можно загреметь в прямом и переносном смысле (если читатель не простит мне столь нарочитую игру слов, я попрошу его встать спросонья, имея на обеих ногах оцинкованное ведро).
Ночью, конечно, можно согревать ноги о другие – милые сердцу – ноги, но Самсон Есеич – холостяк, и постоянного уюта в его постели нету. «Хорошо! скажете вы. – Не надо женщин. Но не надо и ведра. Можно устроить продолговатый (не оцинкованный!) ящик в ширину постели!» «Ящик не перекатится!» – отвечу я. «Ладно! – не отстаете вы. – Можно тою же паклей набить бязевую наволочку и укладывать получившуюся подушку на ноги!» «Она не брякнет!» – скажу я, и этим будет все сказано, тем более что спящий повернулся, ведро брякнуло, спящий проснулся и, вытащив ступни из пакли, встал на ноги.
Был он совсем голый, хотя в суконной ушанке, которую на загадочной бязи мы не разглядели. Но вот снял он лишнюю теперь ушанку, и в свете слабого утра мы видим крепкого невысокого мужчину, у которого все, что мы видим, мощно и увесисто.
Переведемте взгляд на его лицо. Оно немного носасто, немного губасто, немного великоваты глазные яблоки. Чистый армяшка, потому что по происхождению Самсон Есеич – тат. Это такая кавказская народность, исповедующая Моисеево Пятикнижие, и у нации ихней, если они таты без обмана, черты лица не орлиные и сухие, а мясистые и крупные; и лица от этого получаются, хотя гордые, но добрые, а большие белки карих глаз сидят на своих местах, включая прожилки, влажно и выпукло.
Кстати, о татах. Народность эта наводила на подозрение все паспортные столы, ибо, не допуская никаких каких-либо сокращений в личных документах, а уж в паспортах подавно, столы требовали от татских граждан не ловчить, а писать нацию полностью – татарин, и всё! И много терпения нужно было, чтобы обратить взоры этих придир к висящей на стене пестрой карте многонационального государства СССР.
Самсон же Есеич был тат подлинный, и напрасно некоторые, у кого нация тоже плачет над Моисеевым Пятикнижием, считали, что он совершил святотатство, переведясь в татство (опять непереводимая игра слов!) – это было неправдой, и все, говоря по правде, знали это. К тому же Самсон Есеич не избегал, а скорей, предпочитал водиться с собратьями по вероучению, здорово, впрочем, отошедшими от общих преданий, впрочем, как и он сам.
И вот встал человек с постели и стоит, аки тат в ночи… Опять каламбуры! Всё! Встал – и хватит! Покончив со словесным портретом, прекратим и словесные игры. Места и времени мало, тем более что совсем вскорости к нашему герою должна прийти новая знакомая по имени Тата.
Но где жил Самсон Есеич? Где проснулся, чтобы жить дальше и преподавать физику в школе взрослых плюс прирабатывать одним делом, про которое, конечно, расскажем?
Жил он в первом этаже барака Пушкинского студгородка, каковой в литературе описан, так что интересующиеся найдут. Что же насчет физики, так это всего-навсего профессия, ибо по сути Самсон Есеич был провидцем, гигиенистом и гением.
Шутка? Красивые слова? Нет. Не шутка. Хотя слова действительно красивые. Сейчас увидите.
Если, скажем, жизнь в бараке считать каменным веком условно (хотя это безусловно), то Самсон Есеич был существом века бронзового, причем совершенно одиноким предтечей грядущей цивилизации.
А это значит – одному, без спутников, сплавать за руном в Колхиду; обмануть Минотавра; сочинить, прослыв незрячим, «Илиаду»; сидеть и плакать на реках Вавилонских; поставить пирамиды; уличить царицу Савскую, доведя приятелям, что у нее волосатые ноги; проделать под псевдонимом Ксенофонт гениальный анабазис; выпить цикуту; научить финикийцев вести себя на Средиземном море, как одесситы на Черном; подметить, что все, оказывается, течет; изваять Нефертити, обнаружив, что мозги у нее кубиком; засекретить греческий огонь так, что впредь ни одна разведка мира не догадается, ч т о именно у греков горело; написать фаюмские портреты; измыслить рычаги первого и второго рода; из рода в род проклясть кой-кого… Причем всё в одиночку, всё в одиночку… И только с помощью Коптевского рынка сотворить из ничего Архимедов винт…
Преувеличение? Нет! Во-первых, с помощью Коптевского рынка сотворить из ничего Архимедов винт было можно, иначе бы рынок не разогнали. Во-вторых, Самсон Есеич отколол номер почище – он соорудил и заставил работать вообще удивительно что. И это – в каменном веке! Один как перст, если не считать, конечно, перста судьбы.
Правда, совершенно лишенный родственников Самсон Есеич в описываемое время был по-человечески не одинок. Кроме Таты, которая, как было сказано, обязательно появится, кроме ходившей за ним старухи тети Дуси, завелся у него друг, быстрый умом подросток, ради дружбы не жалевший своей новенькой смекалки, чем и высвобождал мозг Самсон Есеича для бронзовечного служения.
Это ему, подростку этому, искренне тогда горевавшему со всеми и пораженному дерзостью прорицания, Самсон Есеич скажет: «Вот он умер, но погоди! Вскорости они станут пинать его в усы и вынесут вон из гробницы!» И подросток не поверит. А зря. Всегда верь тому, у кого перочинный ножик из бронзы, если у тебя он пока что кремневый.
А подросток блестяще свидетельствовал свою сообразительность. Это ему принадлежала небывалая для той эпохи и той округи идея, разузнав номера по междугородной справочной, дозвониться до ленинградских фотомагазинов, расспросить об ассортименте, вечером выехать, утром доехать, тут же на вокзале взять обратный билет, закупить фотобумагу 40 х 50, матовую, нормальную, № 3, поглядеть на твоих оград узор чугунный, октябрьский крейсер и клодтовских жеребцов… Вечером выехать, утром вернуться…
Финансировал всё Самсон Есеич, включая суточные в сумме червонца, то есть рубля по нынешним деньгам. Бросок был задуман так неслыханно, что даже мать подростка, учинявшая крики по поводу сыновних отлучек даже на Сретенку в кино «Уран», тихо всплеснула руками.
Но это совершился феномен века железного, ибо в деле была железная дорога. Однако подростку такое в голову не пришло, а его старший друг, санкционируя безумный план, хотя и догадывался, но дефинировать не стал, будучи снова озабочен своим гигиеническим состоянием, о чем расскажем, когда придется к слову.
Разговор же о формате 40 х 50 зашел вот почему.
Если вы, читатель, желаете иметь свой портрет, увеличенный с вашей единственной фотографии, где вы в гробу, то нам, которые этот портрет изготовим, обязательно нужна бумага 40 х 50, матовая, нормальная, № 3, а гроб мы упраздним вам сами, отворив заодно о эти черные ваши глаза.
Вот они пробираются всюду и повсюду, неконкретные мужчины в башлыках и огромных валенках, на каковые натянуты склеенные из шин и камер неснимаемые галоши. И этим, явившимся невесть откуда чужакам, отдают самое дорогое: выцветшие, сломанные, засиженные мухами или бурые, но всегда единственные фотокарточки. Умерших, сгинувших, пропавших без вести, зарезанных на больших дорогах, самих себя прежних, самих себя в компании с не самими собой, самих себя неузнаваемых и, конечно, блудных сыновей, не говоря уже о проезжих корнетах.
Все рискуют самым дорогим во имя грядущего его – уж совсем драгоценного преображения, а ввалившиеся в морозном пару землепроходимцы суть сборщики-поставщики портретов, увеличенных с заветных тех фотокарточек.
При всем нашем отрицательном отношении к этим заговаривателям зубов и втирателям очков, при всем отвращении к их нахальству и наглости нельзя не сказать, что в забытых Богом хатах, в обводняемой степи и в остепеняемых диких полях бывали они невольными разносчиками радости, привозя заказ, которому впредь и навсегда висеть на самом видном месте в жилище заказчика, сверля с неподвижного лица отретушированными византийскими глазами тех, кто пока еще не портрет…
Смысл деятельности людей с морозу был набрать по липовым квитанциям побольше заказов сверх плана. Излишки они по приезде сдавали забеливателям, те – лаборантам, а те, пересняв карточку, изготавливали слабый, едва различимый отпечаток (бумага 40 х 50, матовая, нормальная, № 3) и передавали его ретушерам, завершавшим весь преступный процесс.
Потом землепроходимцы увозили портреты и привозили рубли. План при этом был планом, а все остальное – всем остальным, ибо в стране нашей хозяйство сверхплановое.
В артельной иерархии надомных тихушников каждый получал свою долю, а обитатели медвежьих углов, волчьих троп и полуострова Ямал обретали обещанные изображения и бывали изумлены их совершенством и лестными сюрпризами.
На заказчике, стеснявшемся своей телогрейки, появлялся п и н ж а к-б у к л е, кривоглазость устранялась новым глазом, тетка-стрелочница с глухого разъезда, брошенная в молодости залеткой, побеждала событие, получив монтаж себя с нахалом, склонившим к ее головке свой нахальный висок, причем Бог видит не обидит, задним числом бессовестный был-таки привлечен к венцу, ибо на ней была фата, а он – при гаврилке.
А это скромные забеливатели, не сговариваясь с незнакомыми – на случай милицейских неприятностей – ретушерами, убирали с фотографий то лишнее, что было лишним, а решительные ретушеры добавляли то лишнее, какое считали нелишним.
Можно было прикрепить военные свои ордена к фотографии, хотя и довоенной, но удачной, незаконно пририсовать значок «Гвардия», распустить губы в улыбке или, наоборот, сурово сжать их и глядеть немигающим взглядом фаюмского портрета; шайка-лейка навешивала серьги и кулоны, причем гарантированной девяносто третьей пробы, пришпиливала брошки-бегемотики, вставляла самописки в карманы свинопасов, брила небритых, напяливала на арестантскую стрижку велюровые шляпы, меняла даже диоптрию в очках – словом, делала все, что ни пожелает заказчик, а если он не сообразил пожелать, то по своему художественному усмотрению.
Случалось, что по бурому снимку нельзя было даже угадать пол изображенного (а сборщик не поинтересовался), тогда бывали изготовляемы два портрета разнополых, причем ретушер использовал лукавый прием – модели придавались как бы черты какого-нибудь знаменитого человека. А п о к а и п о с к о л ь к у самыми знаменитыми были ясно кто, то кого-то из них, исключая, конечно, двух самых знаменитых. Оторопевший было заказчик сразу кивал, когда ему намекали, что тот или та, кто на портрете, очень похож или похожа на того-то и того-то или ту-то и ту-то.
Вот какой это был вдохновенный труд, и вот какие приносил он добрые плоды! И скоро-скоро то время, когда ведущие галереи мира будут ценить Портреты С Немигающим Взглядом одинаково с фаюмскими, ибо чем наши-то хуже? Фаюмские же тоже работали проходимцы-кустари, а что бронзового века – так оно сюда не касается.
К чему я все это рассекретил? А к тому, что Самсон Есеич тайком выдавал под ретушь блеклые изображения формата 40х50, и хотя рисковал, но дополнить учитель-скую зарплату было необходимо, иначе провидец, гигиенист и гений, триединые в нем, ели бы не доедали, пили бы не допивали, а пить – было одним из приятнейших удовольствий его жизни.
Он любил прохладительные напитки. Таковое пристрастие да еще память о кировых кровлях (его отец был «кирщик» – человек, покрывающий кровли своеобразным гудроном – отходами нефтяной промышленности) – вот и все, что осталось в нем от жителя Баку, откуда прибыл он в столицу, дабы стать втузовцем.
Свое туземное пристрастие Самсон Есеич не изжил и в Москве. Но напиток можно заиметь практически всегда; скажем, берем вчерашний чай с лимоном. А вот как его прохладить? Тут нужен лед. А где взять? Как где? На Пушкинском рынке брать его!
…На Пушкинском рынке был айсберг, вернее, видимая глазу часть, утесистой громадой воздвигшаяся на стареньком асфальте и оберегаемая от летнего солнца толстым слоем опилок (некоторые утверждают, что их надо смешивать с торфом, но на Пушкинском рынке опилки были чистые – сосновые).
Видимой частью айсберга громадная гора названа потому, что невидимая работа по ее воздвижению была и вовсе грандиозна. К зиме, уже с первых заморозков, из черной положенной на землю кишки начинала бежать водопроводная вода. Она растекалась по асфальту, стылому и лунному на ощупь, каким бывает всякий асфальт в канун декабрей, – не то что в июле, когда он спекшийся, мягкий, горячий и похож на кир; но про июль после, а сейчас студеная вода растекается по студеному же асфальту и примерзает своими прозрачными молекулами к окоченевшим на низком ветру серым молекулам последнего, и асфальт покрывается стеклом забвения, ибо в стекло это вмерзли мелкие остатки летней жизни, до сих пор считавшиеся всяким сором, а теперь ставшие объектом, вмерзшим в лед. А вода из кишки все растекается, на лед наслаивается новый лед, и стекло забвения постепенно теряет прозрачность и мутнеет.




