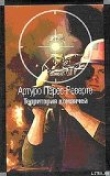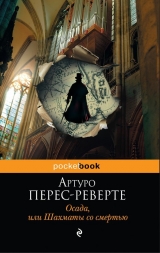
Текст книги "Осада, или Шахматы со смертью"
Автор книги: Артуро Перес-Реверте
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– Ну, вот один – молодой чернокожий невольник… Беглый. Его вроде ищут. Он, кажется, свистнул у своего хозяина все столовое серебро.
– Ну и ладно, хватит о нем. Сколько разговоров из-за одного негра.
Тисон произносит эти слова, но мысленно уже все взял на заметку. Он слышал об этом – неделю назад маркиз де Торре-Пачеко заявил о том, что невольник обокрал его и скрылся. И сведения кабатчика могут оказаться нелишними. Просто он давно уже научился полезному свойству – не проявлять чрезмерный интерес к тому, что ему рассказывают. Ибо это повышает цену, а он переплачивать не любит.
– Расскажи чего-нибудь поинтересней.
Горец смотрит на жену, которая вроде бы целиком сосредоточена на посуде. Потом, чуть понизив голос, говорит, что наведывался сюда один чиновник из Мадрида с семейством – женой и пятью детьми: сидит в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария и хочет попасть в Кадис, готов заплатить за вид на жительство, если таковой ему предоставят.
– И сколько же?
– Тысячу с лишним. Я так понял.
Комиссар усмехается про себя. Он устроил бы дело мадридца и за половину этой суммы. Может, еще, и устроит, если столкуются. Одно из его бесчисленных преимуществ перед этим малым с черной повязкой на глазу – в том, что его услуга обходятся несравненно дешевле, просто, можно сказать, за бесценок идут. Да еще и обеспечены его официальной должностью, подлинной печатью. И к тому же – ничего не стоят ему самому. Ибо именно он, комиссар Тисон, и есть та последняя инстанция, которая признает или не признает документы законными.
– Ну, еще о чем они толковали?
– Да больше, пожалуй, ни о чем таком… Поминали какого-то мулата.
– Вот как? Вечер темнокожих, как я погляжу… Ну так и что этот мулат?
– Плавает туда-сюда… Отсюда в Эль-Пуэрто и обратно.
Рохелио Тисон снимает шляпу и утирает пот со лба, а между тем откладывает это сведение в память. Ему уже приходилось раньше слышать о каком-то мулате, который на собственном баркасе гоняет контрабанду с берега на берег. Как и многие другие. Но людей вроде не перевозит… Надо будет получше разузнать о нем… На что живет и чем дышит, с кем знакомство водит и прочее.
– Ну и о чем же речь шла?
Горец неопределенно разводит руками:
– Кто-то хочет воссоединиться с семьей, а семья у него – там, на том берегу. Я так понял, что – военный.
– Здешний? Из Кадиса?
– Судя по всему.
– Офицер, рядовой?
– Офицер, кажется.
– Ого… Это уже кое-что… Имя слышал?
– Нет.
Тисон ерошит усы. Офицер, намеревающийся перебраться на территорию, занятую неприятелем, представляет собой немалую опасность. От дезертирства до измены – полшага: попадет на ту сторону, развяжет язык, чтоб понравиться. И хотя дезертиры – это в ведении военной юстиции, все, что касается утечки сведений или прямого шпионажа, прямо касается и его. Особенно сейчас, когда лазутчики и шпионы – чуть ли не на каждом углу. В Кадисе и в Исла-де-Леоне судовладельцам и лодочникам под страхом суровой кары запрещено перевозить дезертиров и высаживать на берег любого беженца, переселенца, эмигранта, пока тот не пройдет через плавучий таможенный пост, стоящий в бухте на якоре. Это – что касается моря, а на суше – всякий содержатель гостиницы, постоялого двора или частного дома, сдаваемого в аренду, обязан докладывать о новых постояльцах, а тем для передвижения по городу следует выправить себе удостоверение личности. Тисон знает, что губернатор Вильявисенсио уже изготовил, но покуда еще не опубликовал декрет, где за серьезные нарушения предусмотрена смертная казнь. В данных обстоятельствах применить такой закон к делу значило бы половину Кадиса казнить, а другую половину – посадить.
– Ну хорошо, дружок… Если опять появятся у тебя, слушай в оба уха, о чем будут говорить, и потом мне расскажешь. Понял? И уж постарайся закрывать свою лавочку не позднее установленного часа. Торгуешь вином – торгуй, а к азартным играм не суйся.
– Так как же будет со штрафом, сеньор комиссар?
– Повезло тебе сегодня несказанно. Остановимся на сорока четырех реалах.
…От кадисского пекла нет спасения ни в какой тени, и комиссар сразу почувствовал это, как только вышел на улицу Сан-Хуан-де-Дьос и направился к себе на службу – к старинному зданию с решетками на окнах, прилепившемуся к монастырю Санта-Мария невдалеке от Королевской тюрьмы. Скоро полдень, но вокруг лотков, торгующих фруктами, зеленью, рыбой, под полотняными навесами, протянутыми от консистории до самого Бокете и ворот мола, вился и клубился народ. На выставленные товары роями слетелись мухи. Тисон ослабил стягивавший шею галстук и обмахивается шляпой. Он с огромным облегчением скинул бы сюртук и остался в одном жилете поверх сорочки, уже насквозь промокшей от пота, даром что из тонкого полотна, однако есть такое, что кабальеро и полицейский комиссар позволить себе не может. К кабальеро он отношения не имеет да и не претендует на него, но должность, как ни крути, налагает кое-какие обязательства. Ибо не одни розы на этой стезе, встречаются и шипы.
Едва лишь завернув за угол, Рохелио Тисон сразу и еще издали заметил своего помощника Кадальсо и с ним – секретаря. Должно быть, они уже давно поджидали его, потому что опрометью кинулись к нему с видом людей, которым не терпится сообщить важную новость. Да уж наверняка важную, сообразил комиссар, если даже секретарь, эта канцелярская крыса, отъявленный враг солнечного света, выскочил на улицу.
– Ну, что стряслось? – спросил он, когда они подбежали вплотную.
Оба наперебой начали докладывать. И Тисон, как только услышал, что еще одна девушка обнаружена мертвой, вдруг будто рухнул в ледяной колодец. С трудом шевеля одеревеневшими, словно от стужи, губами, он еле выговорил:
– Мертвой?
– Да, сеньор комиссар. Кляп во рту, спина разодрана кнутом…
Он смотрел на них в растерянности, силясь осознать услышанное. Этого не может быть. Он пытался заставить себя думать – и не мог. Мысли разбредались и путались.
– Где это произошло?
– Совсем рядом. В патио заброшенного дома в конце улицы Вьенто, у поворота… Нашли ее какие-то мальчишки.
– Этого не может быть, – повторил он вслух.
Секретарь и стражник смотрели на своего начальника во все глаза. Один поправлял очки на носу другой собрал морщинами свой низенький лоб.
– Тем не менее, сеньор комиссар, – сказал Кадальсо. – Тем не менее это так. Ей было шестнадцать лет, жила в этом квартале… Семья искала ее со вчерашней ночи.
Тисон помотал головой, словно отказываясь, хоть и сам бы не смог объяснить – от чего отказывается. Отдаленный рокот моря, бьющегося о подножье стены, вдруг приблизился, сделался так оглушителен, словно оно ревет вот здесь – у самых его ног в начищенных сапогах. И оттого мысли путаются еще сильнее. Странный озноб сотрясает все тело, пронимает до костей.
– А я вам говорю: этого не может быть.
Его бьет дрожь, и он понимает, что подчиненные видят это. Внезапно и остро чувствует, что надо сесть. Медленно все обдумать. Медленно, не спеша, в одиночестве.
– Это точно, что ее убили, как других?
– Совершенно так же, – говорит Кадальсо. – Я только что осмотрел труп… Пытались вас найти, но не смогли… Я распорядился оцепить место, никого не пропускать и ничего не трогать.
Тисон не слушает. Этого не может быть, твердит он сквозь зубы. Это совершенно невозможно. Кадальсо смотрит на него растерянно:
– Почему вы это повторяете, сеньор комиссар?
Тисон смотрит на него как на безнадежного дурачка:
– Туда никогда еще не падало ни одной бомбы.
В голосе его будто слышится протест, и оттого эти слова звучат особенно нелепо. Он и сам, со стороны услышав себя, осознал это. И не удивляется, заметив, как тревожно переглянулись секретарь и Кадальсо.
– Кроме того, – добавляет он, – город вот уже несколько недель вообще не обстреливают.
Маленький караван – четыре повозки, запряженные мулами, – грохоча колесами, переезжает через второй плавучий мост на левый берег реки Сан-Педро и движется в сторону Трокадеро. Капитан Симон Дефоссё сидит, свесив ноги, на задке последнего фургона – единственного, что снабжен парусиновым верхом, – держа саблю между колен, а лицо обвязав платком от пыли из-под копыт, и смотрит, как скрываются из виду окраинные белые домики Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Следуя изгибу берега, дорога идет по дуге меж примыкающим к реке пустынным плоскогорьем и морем: открыты сузившееся из-за отлива устье, чуть подальше – широкий, подернутый зеленой ряской рукав реки с отмелью Сан-Педро и в глубине, в синеве неподвижной воды, – изготовившийся к обороне Кадис в кольце своих стен.
Дефоссё, в сущности, всем доволен. На подводах лежит именно то, что ему нужно, а сам он провел два приятных дня в Эль-Пуэрто, наслаждаясь кое-какими прелестями второго эшелона: спал в постели и ел что-то пристойное, отдыхая от обычного своего дневного рациона – осточертевший черный хлеб, полфунта жесткого мяса да квартилья [29]29
Квартилья – мера жидкости, равная 4,032 л.
[Закрыть]кислого вина, – пока дожидался, когда прибудет транспорт, неспешно двигающийся из Севильи под охраной драгун и пехоты. Это, впрочем, не избавило его от двух нападений геррильеров: первое произошло рядом с вентой Бискайца, у подножья Хибальбинской сьерры, второе – под Хересом, на берегу реки Валадехо. Вчера наконец обоз с эскортом добрался до пункта назначения, и почти без потерь: двое было ранено, а один, юный корнет, – убит. И при следующих прискорбных обстоятельствах: пошел с флягами к ручью за водой – и пропал, а наутро обнаружили его раздетый донага и привязанный к дереву труп, причем по виду его можно было судить, что смерть корнету досталась не скорая и не легкая.
Лейтенант Бертольди, который ехал на головной повозке, выныривает из придорожных кустов у обочины, на ходу застегивая штаны. Он с непокрытой головой, без сабли, в распахнутом мундире и расстегнутом до пупа жилете – зной стоит палящий. Лицо и руки у лейтенанта – красные, словно у гурона какого-нибудь.
– Составь компанию, – предлагает ему Дефоссё.
Он протягивает руку и помогает лейтенанту устроиться на задке фургона, под навесом, дающим благодатную тень. Поблагодарив, Бертольди усаживается и первым делом закрывает рот и нос грязным платком, сдернутым с шеи.
– Мы похожи на разбойников с большой дороги, – говорит капитан: голос его звучит из-под платка глуховато.
Бертольди смеется в ответ:
– В Испании все на них похожи.
Он не без грусти провожает глазами скрывающееся вдали предместье, потому что тоже провел двое суток в блаженной праздности. Вполне можно было обойтись и без лейтенанта, однако Дефоссё потребовал, чтобы откомандировали и его тоже, поскольку был уверен, что тому полезно будет отдохнуть от контрбатарейного огня испанских орудий, и задача в эти дни будет у него одна-единственная – не сбиться с пути, когда пойдет домой, нагрузившись несколькими бутылками вина. По сведениям капитана, так все и было. Одну из отпущенных ему ночей Бертольди провел в кабачке, вторую – в офицерском заведении с девицами на площади Эмбаркадеро.
– Ох, какие же твари эти испанки… – предается он воспоминаниям. – Раздеваются, а сами бормочут: «Мразь французская… Лягушатники…» – и готовы выцарапать тебе глаза. Национальное чувство взыгрывает, а, капитан? Вот ведь стервы безмозглые… с этими своими веерами и четками. Чумазые, хуже цыганок, а с клиента дерут, как герцогини… Потаскухи, одно слово.
Дефоссё рассеянно смотрит по сторонам. Думает о своем. Время от времени оборачивается и любовно, как заботливая наседка только что выведенных цыплят, оглядывает поклажу, укутанную толстой парусиной, пересыпанную соломой и опилками. Лейтенант тоже бросает на нее взгляд и улыбается под платком:
– Дождались.
Капитан кивает. Что ж, ради этого стоило ждать так долго – ну или ему так кажется. Обоз везет на полуостров Трокадеро пятьдесят две бомбы, изготовленные на Севильском литейном дворе специально для «Фанфана»: круглые, без «ушей», тщательнейшим образом откалиброванные и отшлифованные снаряды к 10-дюймовым гаубицам Вильянтруа-Рюти. Два вида, обозначенные как «альфа» и «бета». Первых – восемнадцать, вторых – тридцать два. «Альфа» – обычная бомба, весом 72 фунта, с отверстием– очкомдля зажигательной трубки, начиненная порохом и свинцом. «Бета» – идеально сферической формы, без запальной трубки, заполнена слоями свинца, а между ними – песком, отчего при попадании разлетается на большее число осколков и потому больше и весит – 80 фунтов. Эти новые бомбы, а вернее, гранаты – итоги неустанных трудов и вычислений, которые несколько месяцев кряду вел Дефоссё на батарее Кабесуэлы, результаты долгих наблюдений, бессонных ночей, преодоленных неудач и частичных успехов, ныне воплощенные в этой клади. Пять новых 10-дюймовых гаубиц по образцу «Фанфана», но с небольшими усовершенствованиями изготавливают сейчас на Севильском литейном дворе.
– Порох будем использовать чуть-чуть влажный… – вдруг произносит капитан.
Бертольди смотрит на него с удивлением:
– Ты что, голове своей никогда отдыха не даешь?
Дефоссё показывает на клубящуюся из-под колес пыль. Это она навела его на счастливую мысль. Опустив платок к подбородку, он широко улыбается.
– Как я, дурак, раньше-то не догадался!
Лейтенант в раздумье сдвигает брови, стараясь ухватить мысль.
– Да, в этом есть смысл…
Ну разумеется, отвечает Дефоссё. Снаряд полетит через восьмифутовый канал ствола. Будь он короче, разницы бы не было, и во всяком случае сухой порох был бы лучше. Однако применительно к длинноствольным бронзовым гаубицам большого калибра – типа «Фанфана» и его будущих братьев – дело обстоит так давление пороховых газов на снаряд до момента его вылета из ствола должно распределяться равномерно, а порох сгорать – не мгновенно, а в течение того времени, что снаряд проходит канал. Начальная скорость возрастает.
– Теперь остается только проверить это на практике, а? За неимением мортир сойдет и отсыревший порох.
Они смеются, как школяры за спиной учителя. Никто и никогда не разубедит Симона Дефоссё в том, что замена мортир на гаубицы позволит добиться лучших показателей и покрывать огнем всю территорию Кадиса. Однако само слово мортира в главном штабе маршала Виктора к употреблению запрещено. Капитан тем не менее непреложно убежден, что для достижения его целей нужны орудия с диаметром ствола большим, чем у гаубиц. Он язык обмозолил, доказывая, что дюжина 14-дюймовых мортир с цилиндрической каморой и столько же 40-фунтовых орудий, стреляющих бомбами и правильными, такими, как Господь заповедал, гранатами, которые снабжены трубками и взрываются не раньше, чем долетят до цели, способны будут разнести Кадис, вызвать панику у населения и в результате – принудить правительство инсургентов искать убежища где-нибудь еще. Будут выполнены его требования – он гарантирует, что уже через месяц методических бомбардировок начнется повальное бегство из города. Тогда был бы толк. Но его не желают слушать. Маршал Виктор, следуя прямому приказу императора, переданному бездельниками из генерального штаба, по малодушию неспособными оспорить самый вздорный каприз Наполеона, требует применять против Кадиса только гаубицы. А это, как неустанно твердит маршал на каждом военном совете, означает, что снаряды должны долетать до города, а разорвутся они или нет – неважно. Ради того, чтобы в парижских и мадридских газетах появлялись соответствующие заголовки: «Наша артиллерия подвергает центр Кадиса систематическим обстрелам» или что-то в этом роде – маршал жертвует действенностью во имя трескотни. Однако Симон Дефоссё, которого в жизни не занимает ровно ничего, кроме вычерчивания парабол навесного артиллерийского огня, всерьез полагает, что и трескотни-то никакой не будет. А равно и что «Фанфан» с братьями, хоть ты забей их стволы всеми буквами греческого алфавита, не сумеют удовлетворить начальственные притязания. Даже с этими новыми севильскими бомбами едва ли будет достигнута идеальная дальность – 3000 туазов. По прикидкам капитана, при сильном восточном ветре, при соответствующей температуре и всех прочих благоприятных условиях можно будет покрыть не более четырех пятых этой дистанции. Дотянуться до центра Кадиса – это уже будет нечто чрезвычайное. От позиции «Фанфана» до колокольни на площади Сан-Антонио – ровно 2870 туазов, вымеренных капитаном на плане города и запечатленных в его мозгу, кажется, навеки.
Рохелио Тисон, словно бесами обуянный, ходит взад-вперед, останавливается, идет назад по собственным следам. Он уже несколько часов обследует каждую подворотню, каждый угол, каждую пядь этой улицы. И похож при этом на человека, который что-то потерял и теперь ищет повсюду, беспрестанно роется в карманах и ящиках, снова и снова возвращается на прежнее место, надеясь, что вот-вот обнаружится примета искомого, вспомнится, где и при каких обстоятельствах оно потеряно. Скоро закат: в самых низких и узких уголках улицы Вьенто уже стали сгущаться тени. Полдесятка кошек разлеглось на куче отбросов и мусора перед домом с выщербленным от времени лепным дворянским гербом, красующимся над развешанным на веревках бельем. Это – моряцкий квартал, бедняцкий квартал. Расположенный в верхней, самой старой части города, неподалеку от Пуэрта-де-Тьерра, он знавал иные времена, но от былого великолепия ныне и следа не осталось: родовые особняки обратились в подобие бараков, где вповалку ютится обремененное бесчисленным потомством простонародье, а теперь, с началом войны, еще и солдаты, и самые неимущие из эмигрантов.
Дом, где обнаружили убитую, один из последних на улице, стоит почти у самой площади – маленькой, расширяющейся вниз по склону к улице Санта-Мария и монастырю под тем же именем. Тисон разворачивается, медленно бредет назад, снова поглядывая налево и направо. Прежняя его версия, представлявшаяся такой убедительной, рухнула самым плачевным образом, и теперь он не знает, как заново выстроить умозаключения. Несколько часов кряду он убеждался в обескураживающем обстоятельстве: сюда за все время осады не упало ни одной бомбы. Ближайшие очаги поражения – в трехстах варах отсюда, на улице Торно и возле церкви Мерсед. А стало быть, нельзя, не насилуя порядок вещей, усмотреть связь между гибелью девушки и падением французской бомбы. Ничего удивительного, печально упрекнул себя комиссар: веских доказательств, что эта связь существует, не имелось и раньше. Следы на песке, не более того. Взбрыки воображения, отпускающего порой и не такие шуточки. При мысли о профессоре Барруле Тисон помрачнел еще больше: его неизменный партнер лопнет со смеху, когда узнает обо всем.
Комиссар входит в ворота, где пахнет запустением и грязью. День меркнет стремительно: проход во двор уже тонет в темноте. Но прямоугольник света еще остается в патио, окруженном двумя этажами с окнами без стекол и галереей, с которой давным-давно выломали железную витую ограду. На выщербленных плитах несколько бурых пятен засохшей крови указывают, где была обнаружена убитая. Труп унесли около полудня, после того как Тисон произвел опознание и первичный опрос. Все – как в трех предшествующих случаях: руки связаны за спиной, рот заткнут кляпом, спина оголена и искромсана кнутом так, что обнажились спинной хребет от поясницы до лопаток и реберные дуги. Но на этот раз убийца постарался как-то по-особенному: казалось, какой-то остервенившийся от крови дикий зверь вырывал клыками кожу и куски мяса со спины. Когда вынимали кляп, оказалось, что жертва в предсмертных конвульсиях переломала себе зубы. Зрелище, надо сказать… Рядом с коркой подсохшей крови на плитах растеклась желтая, еще остро пахнущая лужа. Кого-то из людей Тисона – а они видали всякие виды и к зверству привыкли – при одном взгляде на это вывернуло наизнанку.
Девица, подтвердила тетка Перехиль. Как и все остальные. И на этот раз не обнаружилось искомого. Удалось выяснить, что девушка исчезла вчера, в первом часу ночи, когда возвращалась домой, на улицу Игера, после того, как навестила захворавшего родственника, жившего на улице Сопранис, и купила по дороге бутылку вина для отца. Преступление, похоже, было тщательно подготовлено: девушка выходила от родственника в одно и то же время каждый день. И убийца, вероятно, следил за ней сколько-то дней, а вчера, двинувшись следом, напал на нее, когда она проходила мимо заброшенного дома, и втащил в патио – в воротах обнаружена разбитая бутылка вина. Он, вне всякого сомнения, знал это место, изучил и подготовил его в соответствии со своими намерениями. На улице Вьенто обычно бывает малолюдно, но все же прохожие и здесь встречаются. Да и любопытный сосед мог бы заметить злоумышленника, так что действиями своими он выказал немалую дерзость. Просто отчаянную дерзость и отменное хладнокровие. Связать жертву, заткнуть ей рот и вслед за тем засечь до смерти – на все это нужно никак не меньше десяти-пятнадцати минут.
Что-то такое витает в воздухе, хотя комиссар с опозданием осознал, что именно заинтересовало его. Именно – в воздухе, в атмосфере, а верней сказать – в отсутствии ее. Кажется, будто в некой точке пространства температура, звуки и даже запахи замерли, зависли, исчезли. Это похоже на то, как перейдешь неожиданно с места на место – и, проходя, минуешь точку, где воздух неподвижен. Странное, что и говорить, ощущение, тем паче что возникает оно на улице, которая названа – и не случайно, благо выходит к крепостной стене, стоящей совсем близко к морю и открытой сильным ветрам, – улицей Вьенто. [30]30
Viento (исп.) – ветер.
[Закрыть]Коты, выбравшиеся следом за Тисоном из патио, отвлекли его от этих размышлений. Приблизились молча и сторожко, уставились на него внимательными глазами охотников. Это их заповедная территория – здесь во множестве водятся крысы, о чем свидетельствуют следы укусов на теле девушки. Один кот хочет потереться о сапоги Тисона, комиссар отгоняет его тростью. Отойдя, тот вместе с остальными лижет засохшую кровь на каменных плитах. Присев на выщербленные ступени полуразрушенной мраморной лестницы, Тисон закуривает сигару. Когда же мысли его возвращаются к тому странному ощущению, оно уже исчезло.
Четыре трупа – и ни единой зацепки. Кроме того, дело осложняется. Ну хорошо, в прежних случаях Тисон платил родным убитой девушки за молчание и удавалось затыкать им рот – однако на этот раз несколько обитателей квартала видели труп. И слухи уже пошли гулять по округе. И как назло, словно бы затем, чтобы все окончательно запутать, появился на сцене новый и нежелательный персонаж – Мариано Сафра, владелец, издатель и редактор одной из многочисленных газет, в неимоверном количестве расплодившихся в Кадисе с того черного, по мнению комиссара, дня, как была провозглашена свобода печати. Этот самый Сафра исповедует самые радикальные идеи, а то, что имеет возможность проповедовать их в печати, объясняется только царящей в городе неразберихой. Его газетка «Эль-Хакобино илюстрадо» выходит раз в неделю на четырех страничках, где отчеты о заседаниях кортесов идут вперемежку с городскими новостями и сплетнями, а те вываливаются, как есть, в рубрику «Калье Анча» – такую же бестолковую, суматошную, настырную и зловредную, как и ее ведущий. А тот сначала был сторонником Годоя, после его падения – горячим приверженцем короля Фердинанда, до недавнего времени – стойким защитником престола и Церкви, а потом, как только депутаты этого крыла обрели поддержку населения Кадиса, сделался самым рьяным либералом. То есть стремительно эволюционирует от приспособленчества к полнейшему бесстыдству. Его памфлеты не слишком сильно воздействуют на общественное мнение, однако имеют успех в тавернах сомнительного квартала Бокете, где он живет, в тех кофейнях, где читают все без разбору, и у тех депутатов, которые жадно глотают любые сведения о себе и готовы горячо рукоплескать или столь же неистово возмущаться, смотря по тому, превозносят их или поносят. И все же «Хакобино», хоть это и антипод серьезных, респектабельных изданий вроде «Диарио меркантиль», «Консисо» или «Семанарио патриотико», какой-никакой, а орган печати. Публицистика – новоявленная богиня нашего времени. И потому власти предержащие – губернатор Вильявисенсио, например, и начальник полиции Гарсия Пико – проявляют поразительную снисходительность по отношению к пасквилям, которые печатает этот Сафра. Его по причине крайне радикальных взглядов – недели не проходит, чтобы со страниц его газетенки не раздавались призывы отправить аристократию на гильотину, генералов поставить к стенке, а всю власть передать народным представителям, – острословы из кофеен давно уж прозвали «Робеспьером из Бокете». [31]31
Игра слов: одно из значений слова «бокете» (boquete) – дыра (исп.).
[Закрыть]
А дело-то все в том, что в первом часу дня, когда труп еще не успели убрать, а Тисон бродил по двору, ища какой-нибудь след, Кадальсо доложил, что на месте происшествия появился Мариано Сафра и спрашивает, что случилось. Комиссар вышел наружу, велел отогнать любопытных, журналиста отвел в сторонку и без околичностей попросил не лезть, куда не просят.
– Убита девушка, – отвечал тот, нимало не смутившись. – И уже не первая. Прежде было уже по крайней мере два таких случая.
– Смотреть тут не на что.
Тисон почти дружески взял его под руку и повлек вниз по улице, чтобы увести подальше от людей, толпившихся у ворот. Дружелюбие это не могло бы обмануть никого и прежде всего – самого Сафру. Не сразу, но все же он высвободился и взглянул комиссару прямо в глаза:
– Ну а я придерживаюсь на сей счет иного мнения. И полагаю – есть на что.
Тисон сверху вниз оглядел его – приземистого, в заштопанных чулках и нечищеных башмаках с латунными пряжками. Галстук заколот булавкой с топазом – фальшивым, без сомнения. Мятая шляпа сбита на затылок, пальцы в чернилах, из карманов бутылочно-зеленого сюртука торчат бумаги. Глаза какие-то блеклые, словно бы выцветшие, но очень неглупые.
– И на чем же вы основываете свое вздорное суждение?
– Птичка напела, на хвосте принесла.
Тисон, не теряя ни всегдашнего своего хладнокровия, ни душевного равновесия, оценил положение. Ясное дело, кто-то выболтал. Рано или поздно это должно было случиться. С другой стороны, сам по себе Мариано Сафра особенной опасности не представляет – доверие к его писаниям ничтожно, однако неприятные последствия публикации очень даже возможны. Вот только и не хватало сейчас в Кадисе, чтобы подтвердилось, что длительное время некто безнаказанно убивает юных девушек, да еще и было рассказано, как именно он это делает. Начнется паника, и какого-нибудь бедолагу, оказавшегося под подозрением, просто растерзают. Не говоря уж о том, что начнется разбирательство: а кто это знал о преступлениях и молчал? А кто это у нас неспособен раскрыть их? И прочая, и прочая. Серьезные газеты не замедлят подтянуться и начать раскручивать историю.
– Давайте попробуем, милейший сеньор Сафра, подойти к этому делу более ответственно. А вести себя – потише.
Так сказал ему комиссар и тотчас по высокомерному лицу своего собеседника понял, что взял неверный тон. Допустил тактическую ошибку. Робеспьер относился к числу тех, кто от промаха противника прибавляет в росте. На целую пядь.
– Комиссар, не надо морочить мне голову. Народ Кадиса имеет право знать правду.
– Оставим эту чушь о народных правах и прочем. Взглянем на дело с практической точки зрения.
– На каком основании вы призываете меня к этому?
Тисон оглядел улицу из конца в конец, словно бы в поисках человека, способного подтвердить его полномочия. Или – чтобы убедиться: разговор проходит без свидетелей.
– На основании того, что могу проломить вам голову. Или превратить вашу жизнь в кошмар.
Газетчик вздрогнул. Чуть попятился. Тревожно метнул быстрый взгляд туда же, куда минуту назад смотрел Тисон.
– Кажется, вы мне угрожаете, комиссар?
– Не кажется.
– Я буду жаловаться.
Тут Тисон позволил себе смешок. Отрывистый и сухой. Блеск золотой искорки во рту подбавил ему доброжелательности:
– Куда? В полицию? Полиция – это я.
– Я добьюсь правосудия.
– Правосудие, в сущности, – тоже я. Так что нарываться не надо.
На этот раз пауза была дольше. Секунд на пятнадцать. Комиссар молчал выжидательно, газетчик – задумчиво.
– Друг мой, будемте рассуждать здраво. Вы же меня знаете – и очень хорошо. И я вас не хуже.
Сказано было примирительным тоном. Примерно так, протягивая морковку, обратился бы погонщик мулов к своему питомцу, которого только что излупцевал палкой. Или – собрался это сделать. Так, по крайней мере, истолковал это Сафра.
– Наверно, знаете и то, что у нас свобода печати, – сказал он.
Впрочем, прозвучали его слова не без должной твердости. Вот ведь крыса, подумал Тисон, однако не трус. Надо признать, завершил он свою мысль, что есть отважные крысы. Способные сожрать человека заживо.
– Ну, хватит разглагольствовать. Мы ведь в Кадисе. И ваша газетка, как и прочие, получает поддержку от правительства и от кортесов… И я не могу вам запретить печатать все, что вы пожелаете. Но зато твердо могу обещать очень неприятные последствия.
Сафра воздел испачканный типографской краской палец.
– Я вас не боюсь. Меня и раньше пытались запугать и зажать рот, которым выражают свои чаяния простые люди… Не вышло! Настанет день и…
Он даже привстал на носках своих нечищеных башмаков. Тисон прервал его, отмахнувшись с усталой досадой. И прибавил, что на него слюни можно не тратить. Он хочет предложить сделку. Услышав последнее слово, Сафра поглядел на него недоверчиво, а потом прижал руку к сердцу:
– Я не вступаю в сделки со слепыми орудиями власти!
– Да полноте вам пылить, в самом-то деле!.. Я вам предлагаю разумный компромисс.
И вкратце объяснил свой замысел. В случае надобности он готов предоставить редактору «Хакобино» нужные сведения. Ему одному. Он расскажет во всех подробностях все, что можно будет рассказать, умолчав лишь о том, что способно застопорить ход дознания.
– А за это вы меня немножко приголубите. Самую малость.
Сафра поглядел на него опасливо:
– Что-что? Это в каком смысле?
– Похвалите. Расскажете, сколь проницателен и неутомим комиссар Тисон, как насущно необходим он для сохранения гражданского мира и так далее. И что расследование подвигается успешно и скоро будут сюрпризы… Ну, короче говоря, вам лучше знать… Вы пишете, вам и карты в руки. Полиция бдит неусыпно, днем и ночью, Кадис – под надежной защитой. Что-то в этом роде.
– Вы издеваетесь?
– Вовсе нет. Я рассказываю, как мы с вами поведем дело.
– Знаете, я предпочитаю все же свободу печати. И мою собственную.
– На свободу печати я, видит бог, не покушаюсь. А вот второй, если мы с вами не договоримся, придется туго.
– Объяснитесь.
Комиссар задумчиво скосил глаза на массивный бронзовый набалдашник своей трости. Таким можно с одного удара раскроить череп. Газетчик, не меняясь в лице, проследил направление его взгляда. Не трус, мысленно признал Тисон. Да, справедливости ради следует отметить, что воззрения свои Сафра, может быть, и менял в соответствии с требованиями рынка, но те, каких придерживается в настоящую минуту, защищает с неподдельной яростью. И может даже снискать себе уважение – правда, лишь у тех, кто не знал его. Преимущество Тисона в том, что он – знал.