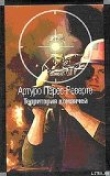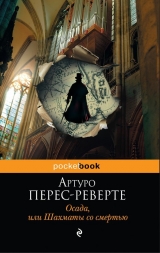
Текст книги "Осада, или Шахматы со смертью"
Автор книги: Артуро Перес-Реверте
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
В глубине души Дефоссё знает, что севильская неудача не сильно меняет дело. За время, проведенное под стенами Кадиса, капитан успел убедиться: особые условия осады не позволяют должным образом использовать ни полевые орудия, ни гаубицы. Изучив схожие случаи – вот, например, осаду Гибралтара в 1782 году, – он принялся горячо ратовать за введение самых крупных калибров, то есть за применение мортир, но никто из начальства этой идеей не проникся. А тот единственный человек, которого ему удалось склонить на свою сторону, – командующий артиллерией генерал Александр Юро, барон де Сенармон, – поддержать его уже не может. Отличившийся в сражениях при Маренго, Фридланде и Сомосьерре генерал был чересчур самоуверен, испанцев – не отличаясь, впрочем, в этом отношении от всех французов – иначе как шпанойне называл и в грош не ставил. Это его и погубило: инспектируя батарею Вильятте, расположенную со стороны Чикланы напротив Исла-де-Леона, он пожелал лично опробовать новые лафеты. Появившись на редуте в сопровождении полковника Дежермона, батарейного командира капитана Пиндонелля и Дефоссё, он приказал всем шести орудиям начать обстрел испанских позиций в Гальинерасе, а на возражения Пиндонелля, принявшегося доказывать, что неприятель в этом месте хорошо укрепился, пристрелялся и немедля даст ответный залп, – снял шляпу и заявил, что именно ею поймает каждую гранату, что прилетит с той стороны.
– Так что отставить пререкания и открыть огонь.
Пиндонеллю ничего не оставалось, как подчиниться и отдать команду. И очень скоро выяснилось, что генерал Юро, пусть и всего на несколько дюймов, ошибся в своих расчетах со шляпой: первая же испанская бомба, разорвавшись как раз между ним, Пиндонеллем и Дежермоном, положила всех троих на месте. Дефоссё спасся чудом и потому лишь, что по малой нужде отошел в сторонку, за туры с землей – они-то и приняли на себя осколки. Вместе с бароном де Сенармоном, как и остальные преданным земле возле скита Санта-Ана, похоронена оказалась и надежда капитана Дефоссё на применение под Кадисом тяжелых мортир. Впрочем, одно то, что он имеет возможность горевать об этом, должно служить ему утешением – и немалым.
– Голубь, – сказал Бертольди.
Дефоссё повел глазами по небу в том направлении, куда показывал его помощник. Да, так и есть. Со стороны Кадиса по прямой летел голубь: вот он пересек бухту, прошел высоко над неприметной голубятней, стоявшей возле казармы артиллеристов, и скрылся где-то за Пуэрто-Реалем.
– Не наш.
Офицеры переглянулись, и лейтенант с понимающей улыбкой тотчас отвел глаза. Бертольди – единственный, с кем Дефоссё делится профессиональными секретами. И один из них – в том, что без почтовых голубей невозможно было бы ставить на плане Кадиса черные и красные кружочки.
Корабли на картинах по стенам, корабли в стеклянных витринках – целый флот, кажется, собрался в сумраке маленького, обставленного красным деревом кабинета вокруг женщины, которая пишет за своим рабочим столом в прямоугольном пятне света – узкий солнечный луч проникает сквозь неплотно задернутые шторы. Женщину зовут Лолита Пальма, ей тридцать два года – к этому возрасту любая мало-мальски здравомыслящая жительница Кадиса уже расстается со всякой надеждой выйти замуж. Так или иначе, но брак уже довольно давно не владеет ее помыслами целиком – да и частично тоже. Занимает ее совсем иное. Например, в котором часу начнется прилив. Или где сейчас рыщет французский корсар, уже не раз замеченный между Ротой и бухтой Санлукар. То и другое связано с прибытием долгожданного корабля, за которым стоящий на террасе доверенный слуга наблюдает в телескоп с той минуты, как с башни Тавира оповестили, что некое судно приближается с запада на всех парусах и в двух милях к югу от Роты разворачивается для входа в бухту. Дай бог, чтобы это оказался «Марк Брут» и эта 280-тонная четырехпушечная бригантина с грузом кофе, какао, кошенили и прочего товара на общую сумму 15 300 песо вернулась наконец, пусть и с двухнедельным опозданием, из Веракруса и Гаваны и была вычеркнута из особой, лишающей арматоров сна и покоя ведомости, где все торговые суда, приписанные к порту Кадиса и не прибывшие к сроку, значатся в одном из четырех ее разрядов: «запаздывает», «сведений не имеется», «пропал без вести», «затонул». Иногда запись в одной из последних двух граф сопровождается комментарием окончательным и беспощадным: «со всем экипажем».
Лолита Пальма, склонившись над листом почтовой бумаги, пишет письмо по-английски, иногда останавливаясь и сверяясь с цифрами, значащимися на той или иной странице толстого справочника валют, мер и весов, что лежит на столе рядом с чернильницей, остро очинёнными перьями в серебряном стаканчике, песочницей, палочкой сургуча. Кожаный, еще отцовский бювар украшен монограммой «ТП» – Том а с Пальма, а вверху листа стоит фирменный гриф «Компании Пальма и сыновья», основанной и зарегистрированной еще в 1754 году. Письмо будет отправлено в Североамериканские Штаты и сообщит о перебоях с поставками – 1210 фанег [9]9
Фанега – мера сыпучих тел, неодинаковая в различных областях Испании; в Кастилии равна 55,5 л.
[Закрыть]муки, отправленные из Балтимора в трюмах шхуны «Нуэва Соледад», прибыли в Кадис лишь неделю назад, то есть с полуторамесячной задержкой. Мука, перегруженная на другие суда, сейчас уже плывет к берегам Валенсии и Мурсии, где из-за нехватки продовольствия будет на вес золота.
Среди кораблей, что украшают кабинет, нет безымянных, и Лолита Пальма знает их все: одни – проданные, разобранные или затонувшие задолго до ее рождения – только понаслышке; на палубу других она поднималась еще девочкой вместе с братьями, видела, как, распустив паруса, они входили в бухту или отправлялись в плаванье, слышала, как в семейных разговорах беспрестанно упоминались их звучные, иногда загадочные названия – «Бирроньо», «Белла Мерседес», «Амор де Дьос»: этот запаздывает прибытием, того сильно потрепало штормом, третий между Азорами и Сан-Висенте нарвался на корсаров. И все это сопровождалось перечислением портов и товаров: медь из Веракруса, табак из Филадельфии, кожи из Монтевидео, хлопок из Ла-Гуайры… Диковинные имена заморских стран и далеких городов были так же привычны в этом доме, как названия кадисских улиц соборов или проспектов – Калье-Нуэва, Сан-Франсиско, Аламеда. Коммерческая корреспонденция, фактуры, накладные и расписки грузополучателей, складываясь в толстые папки, заполняли главное хранилище, расположенное в полуподвале, рядом со складом. Сколько помнит себя Лолита Пальма, в именах кораблей, в названиях портов всегда звучали надежда или тревога. Ей ли не знать, что от этих кораблей, от того, будет ли сопутствовать их плаванью удача, как поведут они себя в штормах и штилях, насколько отважно и умело будут отражать их команды бесчисленные опасности на море и на суше, зависит благополучие вот уже третьего поколения ее семьи. Тем более что один из кораблей был назван в ее честь и носил имя «Ховен Долорес». [10]10
«Юная Долорес» (исп.). Лолита – уменьшительное от Долорес. Названия кораблей и судов в тексте по традиции не переводятся.
[Закрыть]Теперь уже не носит. Но судьба ему все же выпала счастливая: верой и правдой, с доходом и прибылью отслужив сперва британскому торговцу углем, а потом – семейству Пальма, благополучно избежав и ярости ураганов, и алчности пиратов, каперов или неприятеля, не принеся скорбной вести о гибели отца или мужа в семью ни единого из членов своих экипажей, которых на своем морском веку сменил немало, он безмятежно доживает его теперь, без имени и флага, на свалке кораблей в Карраке.
Стоящие сбоку от дверей английские часы-барометр в ореховом футляре глуховатым баском отбили три удара, и почти немедля звонче и серебристей отозвались им по всему дому другие. Лолита Пальма, дописав письмо, посыпала песком последние строки, дождалась, когда высохнут чернила. Потом, сложив вчетверо и разрезным ножом загладив по сгибам лист белой плотной бумаги – валенсианской, высшего качества, – написала на лицевой стороне адрес, капнула растопленным сургучом, осторожно вдавила печать. Неторопливо и очень тщательно – как и все, что она делает. Потом отложила письмо на деревянный, отделанный китовой костью поднос, поднялась со стула, прошуршав китайским набивным шелком домашнего халата с Филиппин – темного, длиной до пят, до атласных туфелек, – наступив при этом на свежий номер «Диарио Меркантиль», оброненный на чикланский ковер-циновку, который покрывает пол. Подобрала газету, положила ее на столик в кипу других – «Редактор Хенераль», «Эль Консисо» и еще одну иностранную, английскую или португальскую, за какое-то давнее число.
Слышно, как внизу, в патио, распевает молоденькая служанка – таскает воду из колодца с мраморной закраиной, поливает герани и папоротник. Приятный голос. Песенка – в Кадисе сейчас в большой моде эти куплеты, повествующие о любви маркизы к патриоту-контрабандисту, – звучит ясней и отчетливей, когда Лолита Пальма покидает свой кабинет, проходит по застекленной галерее второго этажа и по беломраморной лестнице поднимается на плоскую крышу. Контраст с царящим внутри дома полумраком поистине разителен: послеполуденное солнце ослепительно играет на выбеленных известкой стенах, калит керамические плиты пола, а вокруг исполинским хлопотливым ульем раскинулся, глубоко вдвинувшись в море, белый город. Дверь, ведущая в угловую башню, открыта, и Лолита Пальма, поднявшись по деревянным ступеням еще одной, на этот раз винтовой лестницы, оказывается на самом верху – на смотровой вышке, какие имеются во многих кадисских домах, ибо жизнь их хозяев – арматоров, купцов, комиссионеров – неразрывно связана с портом и морской торговлей. Отсюда можно заметить приближающиеся к гавани суда, а еще через некоторое время – даже рассмотреть в подзорную трубу, что за флажные сигналы подняты на реях: капитаны своим личным кодом уведомляют владельцев судна или груза, как проходило плавание, что лежит в трюмах. В городе, который, подобно Кадису живет торговлей, в городе у моря, и в мирные дни, и во время войны остающегося столбовой дорогой, главным, если не единственным источником снабжения, в городе, где по внезапной прихоти судьбы, по стечению обстоятельств делаются или теряются целые состояния и можно в полчаса разориться или, напротив, разбогатеть, если всего лишь узнать, кому принадлежит возвращающийся корабль, и что он возвещает своими сигналами.
– Нет, вроде бы не «Марк Брут», – говорит наблюдатель.
Это старый Сантос, который служит в доме с незапамятных времен, начав еще при дедушке Энрико, и на одном из его кораблей проплавал девять лет матросом. Правая рука у него искалечена, но глаза сохранили прежнюю зоркость прирожденного моряка, способного определить капитана по одной лишь манере брасопить рей, когда корабль лавирует, огибая отмели Пуэркаса. Лолита Пальма принимает из рук слуги длиннотелую подзорную трубу из золотисто-желтой меди – отличную английскую «Дикси», опирает ее на подоконник, следя за сближающимися кораблями: один, поставив все паруса, ловит свежий вест в правый борт, чтобы прибавить ходу и успеть прорваться в гавань, прежде чем другой выскочит ему наперерез.
– Корсарская фелюга? – спрашивает Лолита Пальма, показывая на преследователя.
Сантос кивает, козырьком приставив к глазам покалеченную руку – на кисти не хватает мизинца и безымянного. На запястье рядом с давним шрамом смутно виднеется выцветшая от солнца и лет татуировка.
– Да, французы заметили его на подходе и, сами видите, погнались во весь дух, хотят отсечь от гавани. Однако думаю, не выйдет у них. Он уже слишком близко.
– Ветер может перемениться.
– Уж простите, донья Лолита, не соглашусь с вами… Ему осталось-то самое большее три четверти мили. Успеет проскочить в бухту… Я так полагаю, француз минут через пятнадцать отстанет.
Лолита Пальма разглядывает обнажившиеся отливом рифы на входе в бухту. Справа, поближе к берегу, между бастионами Сан-Фелипе и Пуэрта-де-Мар, стоят на якорях английские и испанские корабли: паруса на них убраны, реи спущены.
– Так ты считаешь, это не наша бригантина?
– Да нет, не наша. – Сантос мотает головой, не сводя глаз с моря. – Это скорее шебека.
Лолита Пальма снова смотрит в трубу. Видимость благодаря восточному ветру хороша, но различить флажки на гафеле не удается. По расположению обеих мачт, у которых на таком расстоянии марсов не разглядеть, по прямоугольным, «греческим» парусам понятно одно – это не бригантина и, значит, не «Марк Брут». Куда ж он запропастился, с горьким разочарованием думает Лолита, отводя от глаза окуляр. Слишком высоки ставки в этой игре. Потеря корабля со всем, естественно, грузом нанесет ей сильнейший удар – причем уже второй за последние три месяца, тем паче что из-за осады прежний порядок страховки пересмотрен и никакая премия убытков не покроет.
– Я пойду, а ты стой и смотри, пока не убедишься наверное.
– Слушаю, донья Лолита.
Сантос, как и остальные старые слуги в доме и служащие компании, продолжает звать ее уменьшительным именем, а те, кто помоложе, – доньей Долорес или сеньоритой. А для кадисского общества, знающего ее с малолетства, она по-прежнему Лолита Пальма, внучка старого дона Энрико. Дочь Томаса Пальмы. Так представляют ее на вечеринках и приемах, так окликают на прогулках по Аламеде, по Калье-Анча, на воскресной полдневной мессе в соборе Святого Франциска: мужчины снимают шляпы, дамы слегка наклоняют головы в мантильях, не в меру расфранченные беженцы смотрят с любопытством – завидная партия… барышня из первой дюжины… в силу трагических обстоятельств вынуждена была впрячься в этот воз, тащить на себе компанию и дом. Ну разумеется, с хорошим образованием. Как и почти все здешние барышни из порядочных семей. Скромна и некичлива. Уверяю вас, ничего общего с родовитыми пустышками, которые только и знают, что заполнять именами кавалеров бальные книжки да наряжаться в ожидании того часа, когда папа продаст их вместе с титулом тому, кто больше заплатит. Потому что в этом городе видные, старинные фамилии гордятся не деньгами, а налаженным делом. У нас единственным видом знатности, говорят здесь, почитается увенчанный успехом труд, и своих дочерей мы воспитываем, как Господь заповедал: с малолетства прививаем им чувство ответственности за братьев, учим быть благочестивыми без ханжества, учим практическим навыкам и иностранным языкам. Потому что никогда не узнаешь наперед, не придется ли им помогать в семейном деле, вести корреспонденцию и что-то в этом роде; не доведется ли им, выйдя замуж или овдовев, брать в руки дело, которое кормит многие и многие рты, обеспечивая благополучие стольких семей, не говоря уж о процветании самого Кадиса. Да, и вот еще что, раз уж речь зашла о нашей Лолите… Дед ее был в городе человек известный, синдик и депутат муниципального округа, отец, что доподлинно известно, обучил ее и математике, и двойной бухгалтерии, и всяким премудростям насчет перевода мер, весов и валют из одной системы в другую… Помимо этого она говорит, пишет и читает по-английски, да и по-французски тоже. Уверяют даже, что и в ботанике разбирается, ну там, во всяких цветочках и растениях и прочем… Такая жалость, что женишок ей так и не сыскался…
Последняя фраза произносится обычно под занавес и как бы позволяет кадисскому бомондуне без известной доли злорадства взять небольшой реванш у Лолиты Пальма, сколь бы выдающимися ни были ее дарования главы компании, хозяйки дома и члена общества: видное положение в мире коммерции, как всякому известно, плохо согласуется с тем, что принято называть «женским счастьем». Череда утрат лишь недавно позволила ей снять траур по отцу, два года назад унесенному последней эпидемией желтой лихорадки, и единственному брату, который самим Богом предназначен был возглавить семейное дело, да, к несчастью, пал в сражении при Байлене. Есть младшая сестра, рано, еще при жизни отца, вышедшая замуж за местного коммерсанта. Есть, разумеется, и мать. Ох, о матери разговор особый…
Лолита Пальма спускается с террасы. На площадке второго этажа с портрета на отделанной португальскими изразцами стене ей ласково и чуть насмешливо улыбается щеголеватый молодой человек во фраке с высоким воротом, с черным широким галстуком. Это друг ее отца, он представлял в Кадисе крупную французскую фирму и в 1807-м утонул в Трафальгарском проливе, когда его корабль разбился на отмелях Асейтеры.
Лолита Пальма, не спуская глаз с портрета, шагает по ступеням, легко скользит пальцами по мраморным, с едва заметными белыми прожилками перилам. Прошло уже пять лет со дня его гибели, но она не забыла этого юношу. Не забыла. Его звали Мигель Манфреди, и он улыбался в точности так же, как сейчас на полотне.
Внизу девушка по имени Мари-Пас – при Лолите она отправляет должность горничной – только что полила последние цветы. В четырехэтажном доме по улице Балуарте, в двух шагах от самого центра Кадиса, царит тишина. Толстые стены сложены из ракушечника; двойные, отделанные позолоченной бронзой двери с дверными молотками, отлитыми в форме кораблей, обычно открыты в просторный и прохладный мраморный вестибюль, ведущий в патио, вокруг которого размещаются магазин и контора, где в рабочие часы сидят служащие компании. Заботы по дому возложены на семерых слуг – старого Сантоса, кухарку, дворецкого, кучера, чернокожую невольницу, Мари-Пас и еще одну горничную.
– Как ты чувствуешь себя сегодня, мама?
– Как обычно.
В окутанной приятным полумраком спальне летом прохладно, зимой – тепло. Слоновой кости распятие над белой железной кроватью, большое «французское» окно с решетчатым балконом, а на нем – ленты папоротника, горшки с геранями и базиликом. Туалетный столик с зеркалом, другое зеркало, почти во всю стену, и еще зеркальный шкаф. Много зеркал, много красного дерева, то и другое – вполне в духе Кадиса. Классика. Образ Пречистой Девы дель Росарио над низким книжным шкафом – тоже красного дерева, – где стоит полный комплект альманаха «Коррео де лас дамас». Шестнадцать томиков ин-октаво. Да, шестнадцать. Семнадцатый раскрыт и лежит на коленях женщины, которая, приподнявшись с подушек, подставляет дочери щеку для поцелуя. Пахнет миндальным притиранием для рук «Макасар» и пудрой «Франжипан».
– Ты что-то поздно сегодня. Я уже давно проснулась.
– Было много работы, мама.
– У тебя всегда много работы.
Лолита Пальма, поправив матери подушки, пододвигает стул и садится возле ее кровати. Терпения ей не занимать стать. На миг вспоминается, как в детстве она мечтала странствовать по свету на одном из тех белых кораблей, что медленно скользили по глади бухты. Потом мысли ее возвращаются к бригу, шебеке… или какой там еще парусник мчится сейчас на всех парусах, уходя от корсара?
Пепе Лобо, держась за вантину бизань-мачты, зорко наблюдает за маневрами фелюги, которая так и рвется наперехват, режет путь в бухту. И остальные девятнадцать моряков, сгрудившись на носу и у мачт, на которых подняты все паруса, не сводят глаз с француза. И если бы Пепе, капитан шебеки, пять суток назад вышедшей из Лиссабона с грузом соленой трески, сыра и масла, не знал столь досконально, на какие фокусы и трюки способно море, он, надо полагать, был бы поспокойней. Потому что француз еще далеко, а «Рисуэнья» идет очень ходко, благо волна и свежий ветер бьют ей в правый борт, по которому она, если ничего непредвиденного не случится, оставит вскоре Пуэркас и проскользнет в бухту под защиту крепостных орудий Санта-Каталины и Канделарии.
– Поспеваем, с запасом… – говорит помощник.
У него изжелта-зеленоватая нечистая кожа, шерстяной колпак на голове, недельная щетина. Время от времени он бдительно посматривает через плечо на рулевых у штурвала.
– Проскочим, проскочим… – настойчиво, как заклинание, повторяет он сквозь зубы.
Пепе Лобо предостерегающе вскидывает руку:
– Помолчи, сглазишь… Забыл закон корриды: «От хвоста до рога – недалека дорога»?
Второй сплевывает за борт раздраженно, если не со злобой:
– Я не суеверен.
– Зато я суеверен. Так что заткнись, будь добр.
Повисает краткое молчание. Краткое и напряженное.
Только слышно, как плещет вода, обтекая корпус. Шумит ветер в снастях, от килевой качки потрескивают мачты, гудят туго натянутые ванты. Капитан по-прежнему неотрывно глядит на корсара. А помощник – на него:
– Мне слышать такое оскорбительно. И я не допущу, чтобы…
– Заткнись, я сказал. Не то я сам заткну.
– Угрожаете?
– Именно.
Капитан произносит это как нечто само собой разумеющееся, по-прежнему не сводя глаз с французского парусника, а сам меж тем расстегивает как бы невзначай золотые пуговицы синего суконного бушлата. Ибо знает, сколько его матросов сейчас, подталкивая друг друга локтями, навострили уши, чтобы не пропустить ни словечка.
– Это нетерпимо! – говорит помощник. – Как причалим, рапорт на вас подам. Команда подтвердит…
Пепе Лобо пожимает плечами:
– Команда подтвердит, что мозги тебе вышибли за то, что пререкался с капитаном, имея на хвосте корсара.
За черным кушаком, обхватывающим поясницу, блеснула бронзой и полированным деревом рукоять пистолета. Оружие предназначено не для того, чтобы отбиваться от преследователей, а для поддержания порядка на собственном судне. Так бывает часто: кто-то из команды теряет голову – и как раз в тот самый миг, когда выполняется сложный маневр. И не впервые Пепе приходится приводить людей в чувство зуботычиной или пулей. Его помощник – человек беспокойный, недобрый, дерзкий – исключительно скверно переносит то обстоятельство, что командовать шебекой поставлен не он. Уже в четырех рейсах он нарывался на самую настоящую трепку, которую ни один морской трибунал не счел бы неправомерной, особенно если – вот как сейчас – неприятель в буквальном смысле наступает на пятки.
Вантина, за которую держался Пепе, стала дрожать и позванивать иначе. Менее ритмично. И ветер в парусине над головой зашуршал по-другому.
– Займись лучше своим делом. Брамсель полощется, не слышишь, что ли?
Капитан ни на миг, чем бы ни был занят, не спускает глаз с фелюги – тонн сто водоизмещением, узкий, будто заточенный, корпус, позволяющий идти в крутой бейдевинд, одна мачта наклонена к носу, другая – к корме, косые паруса и кливер надуты до каменной твердости. Как и на «Рисуэнье», на гафеле не вьется флаг, позволяющий судить о государственной принадлежности, однако сомнений нет: француз. Намерения у этого пса вполне определенные: корсар давно уже рыскал на подходе к бухте, хоронясь за Ротой, – и вот подстерег. С такой артиллерией и командой, как у него на борту, шебеку он уделает шутя: сумеет сблизиться на выстрел – пиши пропало. 170-тонная «Рисуэнья» – судно торговое, «купец», вооруженный всего лишь двумя 4-фунтовыми орудиями, не считая аркебуз и сабель у экипажа, и противопоставить паре 12-фунтовых карронад да полудюжине 6-фунтовых пушек, которыми, по слухам, располагает француз, нечего. А подвиги его хорошо известны. До того как три недели назад «Рисуэнья» отправилась в Лиссабон, на счету корсара уже числились испанская шебека с богатым грузом, где среди прочего было 900 кинталов [11]11
Кинтал – мера веса, равная 100 фунтам, или 46 кг.
[Закрыть]пороха, и североамериканский бриг, захваченный через тридцать два дня после того, как вышел из Род-Айленда в Кадис, везя в трюме рис и табак. Как видно, требования кадисских негоциантов положить предел такому безнаказанному бесчинству действия не возымели. Пепе Лобо знает, что испанских и английских военных кораблей немного и заняты они тем, что охраняют акваторию порта, эскортируют караваны, перевозят войска и оружие. Что же касается канонерских лодок и других маломерных судов, от них при свежем ветре и приливе вообще толку никакого. Тем более что их используют для защиты пролива Трокадеро, либо отряжают по ночам сторожить бухту, либо отправляют в составе конвоев в Уэльву Айамонте, Тарифу, Альхесирас. Между бухтой Санлукар и побережьем Кадиса крейсирует один лишь испанский корвет под бортовым номером 38 – и с мизерными, надо сказать, результатами. Ибо корсару ничего не стоит, утром отправившись на разведку, отойти всего на лигу от места своей укромной стоянки, обнаружить, если повезет, добычу, захватить ее и вместе с ней стремительно и безнаказанно юркнуть назад, к материковому побережью, на всем его протяжении занятому французами. Ну в точности как паук, сидящий в центре своей паутины.
Пепе Лобо посмотрел наконец вперед – на окруженный кольцом буроватых крепостных стен город с бесчисленными шпилями колоколен и смотровых вышек, торчащих над белыми домами, с замком Сан-Себастьян, с маяком – и в очередной раз удивился тому, как схож Кадис с севшим на мель парусником. До Пуэркаса и Диаманте – четыре мили, прикинул он, мысленно прочертив прямую от города к мысу Рота. «Грязные воды» – много подводных камней, особенно опасных при сильном отливе… Но ветер сейчас благоприятный, и когда шебека, тем же курсом пройдя меж отмелей и начав лавировать внутри бухты и гавани, окажется под прикрытием береговых батарей и стоящих на якоре британских и испанских военных кораблей – скоро уж покажутся верхушки их мачт, – будет «полная вода».
Союзники… Хотя Испания уже четвертый год воюет с Наполеоном, от слова «союзники» применительно к британцам лицо Пепе Лобо перекривливается. Он отдает им должное как морякам, но саму эту нацию терпеть не может. Другое дело, если бы капитан принадлежал к ней – был бы так же спесив и вероломен, – тогда, конечно, как говорится, и горюшка мало. Но судьба – или кто там еще заведует делами такого рода? – распорядилась так, что он родился испанцем, от галисийца-отца, оттужившего в старших боцманах на королевском военно-морском флоте, и матери-креолки; и на свет появился в Гаване, и чуть ли не с первого дня жизни видел море, и первые свои шаги сделал по палубе. Сейчас ему тридцать один год, а плавает он с одиннадцати лет, то есть б о льшую часть жизни: сперва юнгой на китобое, потом марсовым, потом помощником и наконец, ценой многих жертв и усилий добыв себе патент, – капитаном; и все это время ждал каверз и подлостей от беспощадных пиратов, осененных «Юнион Джеком». И нигде, ни в одном море мира нельзя считать себя в безопасности. Да уж, ему ли не знать англичан – алчных, высокомерных, неизменно готовых найти подходящий предлог, чтобы цинично нарушить любой договор и преступить клятву. Он на своей шкуре познал, до чего ж это бессовестная нация. И ровно ничего не меняет то обстоятельство, что из-за переменчивых обстоятельств войны и политических хитросплетений Англия сделалась союзницей Испании, воюющей с Наполеоном. Для него, Пепе Лобо, англичане – что в мирное время, что в громе орудийной пальбы – все равно всегда враги. Были и есть. Он дважды побывал у них в плену – сидел в плавучей тюрьме сперва в Портсмуте, а потом на Гибралтаре. И ничего им не забыл.
– Отстает, капитан.
– Вижу.
Ага, все же страх пересиливает досаду. Голос звучит едва ли не примирительно. Пепе Лобо краем глаза видит, как помощник, с беспокойством взглянув на вымпел, указывающий направление ветра, тотчас выжидающе смотрит на него.
– Думаю, нам стоило бы…
– Помолчи.
Капитан поднимает голову к парусам, потом оборачивается к рулевым:
– Полборта влево!.. Так держать. Помощник! Ослеп? Или оглох? Выбрать слабину у шкота!
Впрочем, в столь скверном настроении Пепе пребывает не из-за англичан. И даже не из-за фелюги, которая в последнем отчаянном усилии догнать «Рисуэнью» забирает круче к ветру, заходит к юго-востоку, надеясь то ли на удачный залп, то ли на перемену ветра, а может, на то, что при неумело выполненном маневре у шебеки порвется какая-нибудь снасть. Все это Пепе не беспокоит. Он так уверен, что оторвался от корсара, что даже не приказывает изготовиться к стрельбе: впрочем, обе его пукалки все равно не способны дать отпор врагу, которому один раз шарахнуть из своей карронады – и будет на палубе пусто и чисто. Команда «к бою!» вконец обескуражит его матросов, а они и так мало на что пригодны: опытных моряков дай бог чтобы набралось полдесятка, все прочие же – портовая шваль, навербованная чуть что не за одни харчи. Лобо однажды уже пришлось видеть, как в самой горячке боя эти, с позволения сказать, моряки полезли спасаться в трюм. В девяносто седьмом году ему это стоило потери судна и полного разорения, не говоря уж о портсмутских понтонах. [12]12
Зд. – разоруженное палубное судно, служившее местом заключения военнопленных.
[Закрыть]Так что сегодня пусть лучше никто ничего не ждет, а просто делает свое дело. И очень славно было бы, ошвартовавшись сегодня у причальной стенки в Кадисе, никогда больше не видеть эту рвань.
Потому что начинается новая жизнь. Капитан знает, что идет на «Рисуэнье» в последний раз. Отношения с ее владельцем, Игнасио Усселем, арматором с улицы Консуладо, и девятнадцать дней назад, когда отправлялся в рейс, были натянутые, а теперь если он сам или клиент, зафрахтовавший шебеку, заглянет в коносамент, то, пожалуй, и вовсе разорвутся. Потому что плохое вышло плаванье, на редкость неудачное: сначала попали в полосу почти полного безветрия, потом сильно трепало у Сан-Висенте, потом сломался ахтерштевень и пришлось больше суток отстаиваться у мыса Синее, потом начались всяческие неприятности с портовыми властями в Лиссабоне – и вот в итоге «Рисуэнья» возвращается домой с опозданием и груза у нее в трюмах вполовину меньше ожидаемого. Эта капля переполнит чашу терпения. Компания Усселя, как и многие прочие, служившая в Кадисе «крышей» для нескольких французских торговых домов – до самого недавнего времени иностранцы не могли напрямую торговать с портами испанской Америки, – с начала войны испытывает значительные трудности. И сеньор Уссель, вздумав воспользоваться теми преимуществами, какие предоставляет война дельцам, не отягощенным излишней щепетильностью и избыточной совестливостью, решил на грош пятаков наменять и сократить расходы за счет своих служащих: урезал и стал под разнообразными предлогами задерживать жалованье. Так что арматор с капитаном в последнее время раздружились. И едва лишь «Рисуэнья» отдаст якорь на четырех-пяти морских саженях глубины, придется Пепе Лобо добывать себе хлеб насущный на другом судне. А найти новую работу в переполненном беженцами Кадисе, хоть там и выходят в море на всем, что может плавать, включая самое гнилое деревянное корыто, будет нелегко: капитанов – переизбыток, зато большая нехватка хороших матросов и кораблей, так что в портовых тавернах, досуха выдоенных всеобщей мобилизацией, можно отыскать только самый отъявленный сброд, готовый наняться за сколько дадут.
– Француз поворачивает!.. Отстал!
Шебека от носа до кормы огласилась торжествующим «ура!», рукоплесканиями, радостными криками. Даже помощник стащил с головы свой шерстяной колпак, с облегчением вытер пот со лба. Столпясь на бакборте, вся команда наблюдала, как корсар прекращает гонку: вот кливер прилег на мгновенье к длинному бушприту – и, развернувшись с сильным креном на правый борт, фелюга двинулась назад, к мысу Рота. При повороте свет упал на нее под другим углом, позволив рассмотреть в подробностях длинную рею грот-мачты и весь черный, стройный, с низким кормовым свесом корпус этого стремительного и опасного корабля. Говорили, будто это португальский «купец», о прошлом годе захваченный французами у мыса Чипиона.