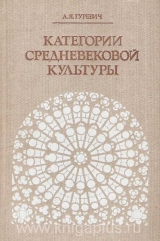
Текст книги "Категории средневековой культуры"
Автор книги: Арон Гуревич
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Вряд ли было бы справедливо применительно к этой эпохе говорить о «неразвитости» сознания, о «примитивности» средств осмысления природы или о неудовлетворительности донаучного мышления,– все эти сравнительные оценки не способствуют пониманию специфики средневековой культуры. Для нас эти способы постижения действительности, разумеется, нелепы и неприемлемы,– но людям средних веков современные способы научного объяснения были бы столь же чужды: ясные ныне преимущества науки не показались бы таковыми же людям с теоцентрической концепцией мира. Мир этот не нуждался в объяснении,– он непосредственно воспринимался. Этот способ духовного освоения действительности и связей ее во многом мистичен.
Но мистика и логика не противопоставлялись одна другой: логика служила мистическому раскрытию «тайны божией»– устройства вселенной и места, занимаемого в ней человеком.
Средневековая форма символического отношения к миру – христианский неоплатонизм. Однако, как мы имели возможность убедиться, символизм, неизмеримо более грубый и наивный, был присущ и мировосприятию варваров задолго до их христианизации. Да и в средине века наряду с утонченной символикой теологов существовали бесчисленные символические представления, ритуалы и формулы, которые восходили к верованиям и обрядам эпохи варварства или возникали вновь, отражая более глубинный, нежели христианство, пласт средневекового сознания. Многие судебные обычаи, ордалии, поединки, заклятия, колдовство, знахарство и т. п. не имели ничего общего с христианством или получили от него лишь поверхностную окраску.
Символическое сознание средних веков не порождено христианством,– это разновидность архаического, «первобытного» сознания, которое встречается у самых различных народов на стадии доклассового и раннеклассового общества. Социальная практика феодализма – великолепная почва не только для сохранения, но и для нового, могучего развития символизма.
Символическое восприятие пространства и, времени, ритуализованность всех отношений между сеньорами и вассалами, включая рыцарскую службу, обмен подарками и даже куртуазную любовь, знаковая функция Богатства, предельный формализм права, признававшего законными и действительными только те постановления и акты, которые были приняты при строжайшем соблюдение всех обрядовых действий и присяг,– таковы проявления всеобъемлющего средневекового символизма, рассмотренные нами выше. Христианство способствовало закреплению и философской сублимации некоторых символов, привычных для средневекового человека, и привнесло в этот разнородный комплекс представлений новые элементы.
Социальный символизм столь же общеобязателен и общезначим, как и символизм, «объясняющий» мир. Социальный символизм и ритуальность поведения средневекового человека порождаются специфическим отношением индивида и группы, положением личности в обществе. Ныне уже невозможно придерживаться господствовавшей еще несколько десятков лет назад точки зрения, что в средние века, до Возрождения, якобы не существовало человеческой личности, что индивид всецело поглощался социумом, был ему полностью подчинен. Действительно, в средние века не было той личности, которая складывается в Европе в новое время, в эпоху атомизации общества, не было такой индивидуальности, которая питает иллюзию своей полной автономности и суверенности по отношению к обществу. Но это – исторически конкретный тип личности, а не единственно возможная ее ипостась. На протяжении всей истории человеческая личность так или иначе осознает себя; обособляясь в группе или растворяя себя в ней, человек никогда не был безликой особью в стаде себе подобных. Маркс подчеркивал, что человек – «не только животное, которому свойственно общение, но животное, которое только в обществе и может обособляться» (2, т. 12, 710).
Следует, прежде всего, отметить, что как раз в эпоху средневековья окончательно складывается понятие личности. В древности у греков и римлян πρόσωπον, persona обозначала первоначально театральную маску или маску религиозного ритуала. Личность здесь понимается как «личина», маска не есть лицо человека, но между маской и ее носителем существует сложная связь. То, что у самых разных народов мира в наиболее важные моменты индивидуальной и общественной жизни или даже постоянно лицо прячется за личиной (надеваемой, татуируемой, рисуемой), имеет прямое отношение к пониманию этими народами человеческой индивидуальности. Однако эта тема выходит за рамки нашего рассмотрения. Достаточно упомянуть, что именно в Риме понятие persona превращается в понятие суверенной личности, прежде всего – в сфере права, Римские юристы учили, что в праве имеются лишь лица (pe rsonae), вещи и действия. Римский гражданин – юридическая и религиозная персона, обладатель предков, имени, собственности; поэтому раб, не владеющий своим телом и не имеющий других признаков свободного, не имел персоны (servus non habet personam). Однако при всем развитии свободной личности в античном полисе мы не найдем у древних философов ее определения. Переход от театральной маски к моральной личности, обладающей внутренним единством, завершился в христианстве. «Персона» получила также и душу, являющуюся основой человеческой индивидуальности и неуничтожимым, метафизическим ядром личности.
Определение личности, которое дал в начале VI века Боэций,– «рациональная неделимая сущность» (rationaIIs naturae individua substantia, PL, t. 64, 1343) —оставалось в силе на протяжении всего средневековья.
Распространенная в средние века этимология слова persona– «per se una» («единая сама по себе»). Человек создан по образу и подобию божьему.
Понятие «персона» связано с представлением о Боге, о троичности персоны Бога, и рассуждения Фомы Аквинского о личности и о том, что «персоной» называется совершеннейшее во всей природе, то есть заключающееся в разумной природе (persona significat id, quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rational! natura),– эти рассуждения касаются прямо и непосредственно persona divina. Имя persona в наибольшей степени подобает именно Богу (ST, I, quaest. 29, art. 3). Религиозная окраска этого понятия обнаруживается и в обозначении приходского священника (англ, parson от латин. persona). Реальная антропологическая проблематика, как и всё в средние века, переносится в «высший» план.
Христианство создает противоречивую ситуацию, в которой находится личность. С одной стороны, человек провозглашается подобным Богу – своему творцу. В средние века наблюдается переход от теории, согласно которой люди созданы вместо падших ангелов и должны занять их место, к концепции о самостоятельном достоинстве человека, сотворенного ради него самого. Не человек создан для чего-либо иного, но весь мир создан для человека, являющегося завершением вселенной (120, 52 и след.). Поскольку мир сотворен ради человека, в человеке можно найти весь мир и его единство.
В самом деле, другие творения либо существуют, но не живут (например, камни); иные существуют и живут, но не имеют ощущений (растения); третьи и существуют, и живут, и имеют ощущения, но не обладают разумом (животные). Человек разделяет с остальным земным тварным миром способность существовать, жить и чувствовать, но вместе с тем он разделяет с ангелами способность понимать и рассуждать. Человек – венец творения.
С другой стороны, человек – раб божий. Служение Богу не унижает, а, напротив, возвышает и спасает человека. Но служение требует смирения, подавления личных склонностей, противоречащих ригористичным идеалам христианства; поскольку искупление и завершение человека возможно лишь в ином мире, то свободное развитие личности исключено. Свобода воли, провозглашаемая христианством, оборачивается заповедью избегать всего, что может помешать спасению души. И хотя теологи подчеркивали, что личность человеческая представляет собой единство души и тела, все заботы христианина должны были направляться на первый компонент его личности, даже к явному ущербу второго компонента. Ибо душа и тело пребывают в разных измерениях – душа принадлежит вечности, а тело подвержено порче времени.
Однако опять-таки не одному христианскому учению обязана личность средневекового человека своей специфичностью и исторической ограниченностью. Подобно христианскому символизму, христианский «персонализм» оказался во многом соответствующим степени развития человеческой личности в средневековой Европе. Выйдя из стадии «родовой личности» эпохи варварства, люди феодального общества включились в новые коллективы, подчинявшие их себе не только материально и политически, но и социально-психологически. Человек в феодальном обществе – сословная личность. В той или иной степени он ищет интеграции в группе, к которой принадлежит, принимая ее стандарты жизни, идеалы и ценности, навыки мышления, формы поведения и присущий им символизм. Рассмотренные выше категории средневековой «модели мира» наряду со многими другими представлениями и понятиями образовывали ту форму, которая служила для «отливки» человеческой индивидуальности,– разумеется, всякий раз социально определенной.
Все изученные нами элементы культуры средних веков – время, пространство, право, труд, Богатство – интересовали нас, прежде всего, именно с этой точки зрения: как своего рода «параметры» человеческой личности, ориентиры ее мировосприятия и поведения, как средства самосознания человека. Но, конечно, один лишь анализ таких категорий не дает характеристики личности,– самое большее, он может способствовать приближению к постановке проблемы личности. Поэтому здесь, в Заключении, мы не чувствуем себя вправе сколько-нибудь подробно говорить о человеке средневековья. Ограничимся лишь отдельными замечаниями.
Способы институционализации личности в разных социальных системах неодинаковы: включение индивидов в общественное целое и образующие его группы происходит при посредстве механизмов, обусловленных социально– культурной природой общества. Первым условием социализации человека в средние века было его приобщение к числу христиан. Акту крещения придавалось исключительное сакраментальное значение, и душа человека, не подвергшегося этому таинству, не могла попасть в рай, даже если то была душа безгрешного младенца. Поэтому души некрещеных новорожденных детей Данте помещает в преддверие ада, вместе с душами великих мужей языческой античности: …эти не грешили; не спасут Одни заслуги, если нет крещенья, Которым к вере истинной идут… (Ад, IV, 34—36).
Родителей, не позаботившихся своевременно окрестить новорожденного, и в особенности священников, которые пренебрегли этой своей обязанностью, сурово карали. (Впрочем, Ф. Ариес (98) утверждает, что до XIII—XIV веков детей порой крестили не сразу после рождения, а по истечении длительного срока.) Как уже отмечалось, обряд крещения имел не только религиозный смысл. При посредстве акта крещения человек переживал как бы второе рождение, обновление – из природного существа он становился членом общества, в которое, естественно, могли входить одни христиане, крещеные. Со времен раннего христианства подчеркивался резкий контраст между homo carnis или homo naturalis «естественным человеком», и homo Christianus, членом общины верующих. В крещении видели метаморфозу, целиком затрагивавшую человеческое существо; отныне вся его жизненная ориентация должна была определяться не его врожденными склонностями и задатками, а причастностью к социальной общности, которая вместе с тем была и сакральной, поскольку приобщение к числу верующих означало приобщение к Богу – ведь общество состояло, по средневековым представлениям, не из одних людей, оно объединяло их с Богом. Соответственно в учении апостола Павла, равно как и в учении Августина, естественному человеку нет места. Член общества – Christianus. Августин ищет самопознания. Но на вопрос, обращенный к нему: «Что ты жаждешь знать?», он отвечает: «Бога и душу». «И более ничего?» – «Совершенно ничего» (Soliloquia, 1, 2). Следовательно, лишь та сторона личности, которая является сверхиндивидуальной, связанной общением с Богом, заслуживает внимания.
Вступая в число христиан и получая возможность спасения, человек вместе с тем отказывался от собственной индивидуальности. Отныне он был подчинен данному ему закону и должен был оставаться верным ему. Мы уже видели выше, сколь существенное место в средневековом сознании занимала категория верности, имевшая одновременно и религиозное и социально-политическое содержание. Fides, fidelitas – это и вера в Бога, и верность господину, олицетворявшему на земле Богом данный закон. Человек не осознает себя как автономную индивидуальность, он принадлежит к целому и должен выполнять в его рамках отведенную ему роль. Социальные роли в феодальном обществе строго фиксированы и целиком поглощают человека. Социальная роль, предназначенная для человека, рассматривалась как его призвание (vocatio),– высшею силою он призван выполнять это призвание и всецело соответствовать своей роли. Его личные способности направлены на то, чтобы с наибольшим успехом осуществлять свое социальное предназначение.
Не оригинальность, не отличие от других, но, напротив, максимальное деятельное включение в социальную группу, корпорацию, в Богоустановленный порядок, огdo,– такова общественная доблесть, требовавшаяся от индивида. Выдающийся человек – тот, кто полнее других воплощает в себе христианские добродетели, кто, иначе говоря, в наибольшей мере соответствует установленному канону поведения и принятому в обществе типу человеческой личности. Индивидуальные качества, отклонявшиеся от санкционированной нормы, подавлялись не только потому, что консервативное общество с недоверием и предубеждением смотрит на «оригинала», но и потому, прежде всего, что связанные с такими качествами умонастроения и поступки считались противоречащими христианским образцам и опасными для веры. Поэтому в ограничении индивидуальной воли и мнения в средние века не видели нарушения прав и достоинства человека. Публичное высказывание мнений, противоречивших установленной вере, было ересью. Преступность еретика, как разъяснял важнейший памятник канонического права – «Декрет» Грациана, заключается в том, что он обнаруживает интеллектуальное высокомерие, предпочитая собственное мнение мнению тех, кто специально уполномочен высказываться в делах веры. Хотя грех представлял собой угрозу для души индивида, считалось, что он опасен для общества, а потому прихожане следили друг за другом, нередко обращаясь к священнику с жалобой на впавших в грех соседей.
Понятие excommuniсatio – «отлучение», так же, как понятия «крещение», «вера», «верность», «призвание», имело одновременно и сакральный и социально-политический характер. Отлучение еретика от числа христиан было равнозначно исключению его из общества. Он ставился вне религии и вне земных законов. Существенно иметь в виду социальные аспекты всех этих понятий: religio – «связь», communio – «общность», «святое причастие», excommtmicatio – «исключение из связей», расторжение всех социальных коммуникаций.
Таковы некоторые механизмы воздействия феодального общества на индивида и подчинения его господствующей системе. Однако дело заключалось не в одном подавлении индивида обществом. В какой мере сознавала себя сама личность? Понятие «человек средних веков», разумеется, представляет собой абстракцию. Весь вопрос заключается в том, допустима ли подобная абстракция. Если исходить из здравого рассуждения, что люди – всегда разные, а средневековье – почти тысячелетняя эпоха, на протяжении которой Европа и населявшие ее народы совершенно изменили свой облик, то абстракция «человек средневековья» может показаться пустой и неправомерной. Но мы изучаем не конкретные типы человеческой личности и не процессы изменения этих типов в указанный огромный по длительности и содержанию период. Мы пытаемся выявить характерные черты культуры, которая при всех изменениях и трансформациях сохраняла свои основные «параметры» и доминировала в средневековой Европе. Не есть ли культура – самовыражение общественного человека, человека в обществе, обнаружение его внутренней сущности? В таком случае изучение особенностей средневековой культуры неизбежно ведет нас к постановке вопроса о типах личности, которые соответствовали данному типу культуры, находили в ней свое идеальное воплощение, формировались в ее лоне, получая от нее свой неизгладимый отпечаток. И здесь можно отважиться на некоторые обобщения.
Человек средневековья, как правило, не видел в самом себе центра и нерасторжимого единства актов, направленных на другие личности. Сущность человека легче было определить через его общественное положение, сословный статус, род занятий, нежели исходя из его индивидуальных качеств. Не эти качества были решающим критерием. Грешник, который является духовным лицом и в качестве такового распределяет божественную благодать,– казалось бы, что может быть более противоречивым и противоестественным? Однако священнический сан, не спасая его собственную душу, гарантировал действенность выполняемых им сакраментальных актов.
Внутренняя жизнь индивида не образовывала самостоятельной целостности.
К такому выводу приводит, в частности, изучение автобиографий средневековья.
Собственно говоря, автобиографии как осоБого жанра не существовало. Те немногие сочинения, которые в какой-то степени приближаются к этому жанру,– исповеди, письма, содержащие сведения об их авторе и попытки самохарактеристики,– создают лишь фрагментарное представление о характере человека. Отдельные его качества трудно объединить в целостную картину; главное же, эти черты характера не индивидуальны, они, скорее, типичны: монах или другой человек, пишущий о себе, осознает свою личность в категориях некого типа – грешника, праведника, духовного лица и т. д.,– но обычно не пытается сосредоточить свое внимание на признаках, которые были бы его индивидуальными свойствами, их он не находит либо не ищет, не подозревает об их существовании. В результате человек в своем собственном изображении выступает в виде конгломерата разрозненных черт.
Г. Миш, автор обширного и широко фундированного исследования истории автобиографий, с основанием говорит о «несобранности» личности средневекового человека; для той эпохи характерна индивидуализация не «органическая», а «морфологическая» или типическая: индивид показывает себя лишь через общее, присущее целой категории людей, а не через организующий центр своей индивидуальной внутренней жизни. При этом описание духовного пути личности производится при посредстве литературных штампов, а нравственные оценки, оказываются не самостоятельным выводом автора, но простым заимствованием из расхожей морали. Г. Миш противопоставляет способы изображения человеческой индивидуальности в эпоху Возрождения и в средние века: выдающиеся люди Ренессанса утверждали собственную личность «центростремительно», вбирая в себя мир, тогда как люди предшествующей эпохи утверждали себя «центробежно»: они проецировали свое «я» в окружающий мир, так что он абсорбировал личность. Аббат Сугерий, стремясь себя возвеличить, растворял собственное ego в своем аббатстве. Характерным для; христиански ориентированной личности средних веков приемом самоутверждения было самоуничижение, самоотрицание. В тех же редких случаях, когда современникам ярко выраженной индивидуальности не удавалось втиснуть ее в готовые понятия и полностью подогнать под знакомый тип, они отказывались ее характеризовать. Друзья Абеляра вырезали надгробную надпись над его могилой: «Он один мог знать, чем он был» (210, III, 529).
Такое же впечатление оставляет и чтение житий святых: они не представляют собой анализа внутренней, духовной жизни человека, который постепенно и последовательно переходил бы от состояния греха к состоянию святости. Мы уже говорили ранее о том, что этот переход совершается внезапно, никак не подготовленный психологически: грешник вдруг раскаивается и начинает; вести праведную жизнь «образцового» святого, либо святость чудесным образом в нем раскрывается, причем это внутреннее перерождение выступает в виде физической болезни и выздоровления или борьбы сил зла и добра на внутренне пассивной арене человеческой души.
Зачастую герой жития обладает святостью от рождения, в отдельных случаях ее признаки обнаруживаются еще и до его появления на свет. Автор жития мог подметить и запечатлеть отдельные индивидуальные черты святого, но задачи, которые преследовались агиографическим жанром – дать образец святости,– уже сами по себе исключал возможность высокой оценки неповторимости и отхода от канона. Эта приверженность к литературной условности – симптом невнимания авторов житий к индивидуальному. Более того, индивидуальное отпугивает их как нечто неподобающее. В житии, написанном Одоном Клюнийским, последний употребляет местоимение «я», и сто лет спустя новый редактор этого произведения старательно искореняет это «я» (117, 103—116).
В средневековых хрониках действуют люди. Но и историки, проявляя живой интерес к человеческому роду, не обращают осоБого внимания на индивидуальных людей. Индивиды для них – прежде всего носители определенных качест: гордости, смелости, благородства, либо трусости, подлости, злонамеренности. Не столько конкретные личности, сколько персонифицированные моральные ценности фигурируют в исторических повествованиях. Понятие persona в средние века уже не было связано с театральной маской, как в древности, и тем не менее персонажи хроник – актеры, серьезной старательно играющие свои роли. Все их действия публичны, поэтому зависят от публики и не определяются индивидуальными намерениями и склонностями, а ориентированы на норму, принятую в соответствующей социальной среде. Поведение рыцаря строится в расчете на зрителей, он исходит из требований, предъявляемых к нему заданной ролью; он предпочтет попасть в плен, но не будет спешить, покидая поле битвы, дабы никто не заподозрил его в трусости. Поэтому и хронисты объясняют человеческие поступки не личными особенностями своих героев, а основными мотивами, которыми должен руководствоваться благородный согласно принятому в рыцарском обществе кодексу поведения. У. Брэндт не без основания пишет, что «персонализм средневековых аристократов был очень безличен» (113, 109). Эти люди были озабочены в первую очередь своей репутацией, славой, тем, чтобы добиться определенного положения в своем классе. Человеческие качества могли приниматься здесь в расчет лишь в той мере, в какой они сообразовывались с социальной ролью их носителей. Существенными были не эти индивидуальные качества, а обязательные атрибуты рыцаря. Различие между «актером» и ролью, которую он играл, не осознавалось. Он как бы срастался с позой, которую постоянно принимал в социальной игре. Другая специфическая черта изображения человеческих поступков в хрониках, в особенности в церковных, заключается в том, что эти поступки приписываются не самим людям, а соответствующим их качествам: отдельный поступок вытекает из отдельного качества человека. Между собою эти качества остаются не связанными, следовательно, причиной действий героя рассказа является не целостная личность, но некая совокупность разрозненных качеств и сил, действующих самостоятельно.
Средневековый реализм персонифицировал пороки и добродетели, как и всякие другие абстракции, придавая им самостоятельность. Таким образом, действуют отдельные атрибуты человека, а не единый характер,– вместо него церковный хронист видит пучок качеств, выступающих попеременно.
Эти качества легко отделимы от человеческого характера. Недаром в средние века так любили изображать персонифицированные добродетели и пороки. Доброта и Жадность, Гордыня и Мудрость, Кротость и Справедливость, подобно Времени, Старости и т. п., постоянно олицетворяются в образе человеческих фигур, •самостоятельно движущихся и действующих на страницах романов и поэм, в красочных миниатюрах и скульптурных изображениях. Эти аллегорические существа выступают в роли руководителей и учителей человека: они его побуждают на те или иные поступки, внушают ему соответствующие чувства,– человек, собственно, оказывается в положении марионетки, жизнь которой придают эти воплощенные качества. Как правило, в определенный момент человек находится во власти какой-либо одной из этих нравственных сил, под влиянием которой он и совершает свои поступки. Инициатива исходит от этих сил, а не коренится в ядре целостной личности. В человеческой душе борются различные силы, но их источник находится вне личности. Поэтому и сами эти силы или нравственные качества безличны, и добродетели и пороки суть общие понятия. Они не получают индивидуальной окраски от того человека, в котором помещаются,– напротив, их присутствие в нем определяет его умонастроение и поведение. Они вселяются в него, подобно тому как в человека мог вселиться бес, и покидают его, точно так же как покидала человеческую оболочку нечистая сила. Средневековые моралисты уподобляли душу человека крепости, в которой добродетели осаждены нападающими на них пороками. Образ человека – «сосуда», наполняемого разным, внешним по отношению к его сущности содержанием, как нельзя лучшe раскрывает отсутствие в ту эпоху представления о нравственной неповторимости индивидуальной и суверенной личности (26, 236).
Разумеется, неверно было бы упускать из виду специфику литературных жанров, анализ которых приводит к подобным выводам. Литература средних веков отнюдь не отражала «зеркально» жизненных отношений и воплощала идеальные представления о личности, типизировала действительность, отбирая из нее преимущественно лишь то, что соответствовало взглядам авторов, в задачу которых входило извлечение из истории или из жизни святого назидательных примеров, и то, что отвечало требованиям жанра. Поэтому приведенный материал дает нам, скорее, идеалы, которыми руководствовалось общество. Реальность была неизмеримо Богаче и многообразнее. Но, вновь подчеркнем, идеал выполнял существенную социальную функцию и выражал действительную тенденцию жизни средневекового общества, ориентированного на высшие цели.
Полностью обрести и осознать себя средневековый человек мог лишь в рамках коллектива, через принадлежность к нему он приобщался к ценностям, господствовавшим в данной социальной среде. Его знания, навыки, опыт, убеждения, формы поведения являлись его личными характеристиками постольку, поскольку они были приняты его общественной средой, группой.
Человеку редко приходилось действовать вполне индивидуально. Группа, к которой он принадлежал, постоянно присутствовала в его сознании. Поступать противно групповым целям и нормам значило вести себя предосудительно.
Голосование в тех случаях, когда оно применялось, не было способом установления соотношения индивидуальных воль. Подчас вообще требовалось единодушие либо решение принималось в соответствии с волей «большей и лучшей части» участников голосования, то есть в расчет брали не только, может быть, и не Столько число лиц, сколько их «качества», социальную привилегированность, статус. Противопоставлять себя группе, обществу значило проявлять непростительный грех гордыни. Утверждение индивидом своей личности заключалось в единении с группой.
Таким образом, средневековье имело ясную идею человеческой личности, ответственной перед Богом и обладающей метафизическим неуничтожимым ядром – душою, но с трудом осваивалось с представлением oб индивидуальности. Установка на всеобщность, типичность, на универсалии, на деконкретизацию противоречила формированию четкого понятия индивида.
Как и физический мир, духовный мир человека в глазах средневекового писателя неподвижен и дискретен. Человек не развивается, а переходит из одного возраста в другой. Это не постепенно подготовляемая эволюция, приводящая к качественным сдвигам, а последовательность внутренне не связанных состояний. В средние века на ребёнка смотрели, как на маленького взрослого, и не возникало никакой проблемы развития и становления, человеческой личности. Изучив вопрос об отношении к ребенку в Европе в средние века и в начальный период, нового времени, Ф. Ариес утверждает, что средневековье, не знало категории детства как осоБого качественного состояния человека. В детстве видели краткий переходный этап к взрослому состоянию. Детей мало ценили, нередки были случаи детоубийства, об умерших младенцах (а детская смертность была чрезвычайно высока) не особенно сокрушались. Средневековая цивилизация, пишет Ариес,– цивилизация взрослых (98). Изобразительное искусство видит в детях взрослых уменьшенного размера, одетых так же, как взрослые, и сложенных подобно им. Образование не сообразуется с возрастными особенностями, и вместе обучали взрослых и подростков. Ученичество, связанное с длительным отторжением ребенка от родителей, играло большую роль, чем школа, и социализация ребенка, передача ему ценностей и знаний не определялись и не контролировались семьей. Игры, прежде чем стать детскими, были играми, рыцарскими. Ребенок, подросток считался естественным компаньоном взрослого.
Не все утверждения Ариеса в равной мере убедительны. В частности, едва ли справедлива его мысль о неразвитости эмоционального отношения к детям: в источниках зафиксированы родительская любовь и чувству горя, вызванное смертью ребенка. Не следует упускать из виду, что бесчисленные изображения Христа-младенца должны были внушать мысль об избранности детей, не отягченных грехами взрослых. Но вместе с тем дети в средние века нередко приравнивались к умалишенным, к неполноценным, маргинальным элементам общества. Отношение средневековья к детству, видимо, отличалось двойственностью (см. 140; 146; 162), Уйдя от возрастных классов первобытности1 и забыв принципы воспитания античности, средневековое общество долгое время игнорировало детство и переход от него к взрослому состоянию. Семья была образующей ячейкой общества, однако чувство семьи в средние века, по-видимому, обладало известными особенностями.
Воспевая любовь, куртуазная поэзия противопоставляла ее брачным отношениям. Со своей стороны христианские моралисты предостерегали против излишней страстности в отношениях между супругами и видели в половой любви опасное явление, которое нужно обуздывать, коль скоро его невозможно полностью избежать. Лишь с переходом к новому времени семью начинают рассматривать не как союз между супругами, а как ячейку, на которую возложены социально важные функции по воспитанию детей. И, собственно, только в XV– XVI веках семья становится предметом иконографии; появляется семейный портрет в интерьере – симптом возросшего значения интимной, частной жизни. Бытовые сцены переносятся из пленера в помещение. Происходит, по выражению Ариеса, «приватизация пространства». Семья уходит внутрь дома, от улицы, площади, вообще от коллективной жизни – дом отгораживается от вторжений извне. В средневековом искусстве бытовые сцены не изображались или, во всяком случае, не локализовались вокруг домашнего очага.








