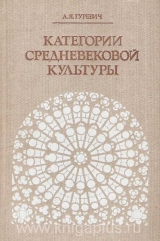
Текст книги "Категории средневековой культуры"
Автор книги: Арон Гуревич
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
«Божественная Комедия» превращает время в трагедийное воплощение вечности (чем она обязана средневековому христианству), но делает вместе с тем из времени вечности диалектически связанные, взаимно необходимые и равноправные принципы единой исторической жизни, что позволяет говорить о возникновении качественно нового – в сравнении со средневековым – способа художественного осознания мира» (7, 212).
Отмеченная выше особенность восприятия времени – слияние библейского времени с временем собственной жизни,– свидетельствующая об «антиисторизме» средневекового мышления (в нашем понимании историзма), вместе с тем яснее всего обнажает его принципиальную, неустранимую историчность. В самом деле, человек ощущает, осознает себя сразу в двух временных планах: в плане локальной преходящей жизни и в плане общеисторических, решающих для судеб мира событий – сотворения мира, рождества и страстей Христовых Быстротечная и ничтожная жизнь каждого человека проходит на фоне всемирно– исторической драмы, вплетается в нее, получая от нее новый, высший и непреходящий смысл. Эта двойственность восприятия времени – неотъемлемое качество сознания средневекового человека. Он никогда не живет в одном лишь земном времени, он не может отрешиться от сознания сакральной истории, и это сознание коренным образом воздействует на него как на личность, ибо спасение его души зависит от его приобщения к сакральной истории. Всемирно-историческая борьба между добром и злом – личное дело каждого верующего. Эта причастность к мировой истории одновременно и исторична и антиисторична.
Указанная напряженность в переживании времени изначально заложена в христианстве. Тем не менее противоречивое сочетание «историзма» и «антиисторизма» в западной и восточной его ветвях было, по-видимому, неодинаковым. В частности, различным было отношение к библейской истории: в изображении сцен страстей Христовых византийцы никогда не соблюдали исторической последовательности, руководствуясь исключительно символическим, а не историческим их смыслом, тогда как на Западе эта последовательность неуклонно соблюдалась. Православная литургия лишена движения во времени в гораздо большей степени, чем католическая, это явствует хотя бы из характера религиозных песнопений (о специфике понимания истории в византийско-православном регионе см. 6, 93—104).
Специфическое отношение к времени можно обнаружить в любой сфере средневековой жизни. Его нетрудно вскрыть и в юридической практике эпохи.
С одной стороны, в качестве субъекта права мог выступать не только живой человек, но и покойник,– за умершими признавали определенную правоспособность, поскольку смерть не исторгала окончательно человека из коллектива и общества. С другой же стороны, правовые акты, обычно провозглашавшиеся «навечно», на самом деле имели силу только в течение ограниченного срока, не превышавшего длительности человеческой жизни, и формула «аd pегреtuum» не гарантировала вечной действенности этих актов, требовавших все нового и нового подтверждения. Привилегии государей носили личный характер и возобновлялись при каждой смене на престоле.
Пожалования земель и иных Богатств церкви и монастырям нуждались в подтверждении и возобновлении, несмотря на то, что дарения в пользу духовенства делались на праве «мертвой руки» и подаренное ему владение считалось неотчуждаемым. Французская монархия была наследственной, тем не менее короли еще при жизни старались провозгласить своих сыновей соправителями. Со смертью вассала его наследник должен был вновь приносить присягу верности сеньору, точно так же как смерть последнего вызывала необходимость повторения вассалами омажа новому господину.
Очевидно, человек не мог распространить свою волю на время, превышавшее длительность его собственного существования. Эта неспособность создать акты, которые обладали бы постоянной юридической силой, обязательной во всех поколениях, по-видимому, препятствовала внедрению идеи завещания, ибо оно основывается на принципе, что воля человека имеет силу и после его смерти. Поэтому дарения делались при жизни (248). Человек не был властен над временем, которого он сам не мог переживать.
Человек не властен над временем, потому что оно – собственность Бога.
Этот аргумент использовался церковью как основание для осуждения ростовщической наживы. Богатые люди ссужают деньги под проценты на том только основании, что должники пользуются этими средствами в течение некоторого срока,– следовательно, прибыль ростовщика связана с накоплением времени. Торговля временем или «надеждой на время» незаконна, так как оно принадлежит всем существам и дано им Богом. Ростовщик наносит своей деятельностью ущерб всем божьим творениям. Продавая время, то есть день и ночь, ростовщики продают тем самым свет и отдых: ведь день – это время света, а ночь – время отдыха. Поэтому было бы несправедливым, чтобы сами ростовщики пользовались вечным светом и отдыхом, они осуждены как грешники. Такие аргументы неоднократно приводились Богословами в XIII и XIV веках. «Время купцов» оказывалось в конфликте с «библейским временем». Первое считалось «временем греха», тогда как второе было «временем спасения». Сознание горожан стремилось преодолеть этот конфликт; постепенно и церковь в какой-то мере пошла на компромисс с жизненной практикой (195, 46—65). Но в принципе временная ориентация купцов, ростовщиков, предпринимателей не соответствовала теологической концепции времени н должна была впоследствии привести к его секуляризации и рационализации.
Охарактеризованные выше аспекты отношения к времени в средневековой Европе—аграрное время, родовое (или генеалогическое и династическое), библейское (или литургическое), циклическое и, наконец, время историческое – весьма различны и даже взаимно противоречивы.
Циклическое восприятие жизни, определяемое природными ритмами, сменами годичных сезонов, лежало в основе остальных систем отсчета времени. Представление о времени как о повторяющемся цикле сохранилось в средние века также в популярном образе колеса судьбы. На протяжении всей этой эпохи сознание возвращается к Даме Фортуне, которая «правила, правит и будет править» миром. Гностические секты придерживались пифагорейской доктрины о переселении душ и круговом времени вплоть до VII века. Идея циклического времени неоднократно возрождалась в средние века под влиянием неоплатонизма и аверроизма. В XIII веке идея об аналогичных фазах, которые повторяются в жизни человечества, как и в небесных вращениях, была распространена среди парижских аверроистов, в частности, идеи циркуляции времени в вечном мире развивал Сигер Брабантский, навлекший на себя церковное осуждение (90, 60, 95 и др.).
Но представление о циклическом времени проявило устойчивость не только на уровне ученых теорий, но и в народной среде. Аграрное общество жило в ритме, навязанном ему естественным окружением. Как и во внешней природе, в жизни человека последовательно сменяются периоды зарождения, расцвета, зрелости, увядания и смерти, регулярно повторяющиеся из поколения в поколение. И сельскохозяйственные сезоны И поколения людей – это кольца на одном и том же древе жизни. Генеалогический принцип исчисления времени придавал его восприятию антропоморфный характер.
Локальные религиозные культы, доминировавшие в языческую эпоху, но не изжитые и после христианизации (вспомним поклонение святым и реликвиям), воспроизводили мифологическое восприятие времени, сопряженное с ритуалом, празднеством, жертвоприношением.
Социальная и имущественная неустойчивость значительной части членов феодального общества, усиливавшаяся по мере развития присущих ему противоречий, увековечивала веру в судьбу. На бесчисленных рисунках изображалось колесо Фортуны; сама она в венце «повелительницы мира» восседала в центре диска, приводя его неустанно во вращение; цепляясь за колесо, поднимается ввысь полный надежд юноша; на вершине колеса торжественно водрузился на троне государь; далее стремительно низвергается человек, которого влечет за собой колесо судьбы; внизу распростерта фигура жертвы переменчивого счастья. Идея Фортуны, заимствованная средневековьем у древности, подверглась христианизации. Фортуна оказалась подчиненной Богу, который отдал ей в управление «мирской блеск», по выражению Данте.
Фортуна, «правительница судеб», «крутит свой шар, блаженна и светла», и перемещает, «в свой час, пустое счастье // Из рода в род и из краев в края, II В том смертной воле возбранив участье» (Ад, VII, 77—81, 96). Но идея судьбы, многократно привлекавшая поэтов и философов средневековья, была ассимилирована христианской мыслью далеко не целиком и встречала противодействие таких видных теологов, как Петр Дамиани, Ансельм Кентерберийский, Бернард Клервоский. Тем не менее в XIV—XV веках, возможно, в связи с глубоким кризисом европейского общества, который охватил все сферы, от экономики до духовной жизни, Фортуна пережила свое новое возрождение и в литературе и в искусстве.
Церковь и христианская идеология, преодолевая разобщенность бесчисленных темпоральных шкал локальных и семейных групп, налагали на них свое понимание времени, подчиняя земное время небесной «вечности».
Время как проблема, как чистое понятие существовало в тот период лишь для теологов и философов,– массою же общества оно переживалось преимущественно в указанных выше формах природного и родового времени, испытывавших на себе влияние христианской концепции времени, которая порождала особое отношение к истории, специфический средневековый историзм, связывавший смертную человеческую единицу с целым – с родом человеческим – и придававший жизни новый смысл.
Как уже подчеркивалось, время в средневековом обществе – медленно текущее, неторопливое, длительное время. Его не берегут. Для средневекового отношения к времени характерно то, что Генрих Бёлль подметил в Ирландии.
«Когда Бог создавал время,– говорят ирландцы,– он сотворил его достаточно». В той мере, в какой время циклично и мифологично, оно ориентировано на прошлое. Прошлое как бы постоянно возвращается и тем придает солидность, весомость, непреходящий характер настоящему.
Христианство принесло в этом отношении существенный новый момент.
Наряду с возрождением библейского прошлого в молитве и таинствах оно создало также и перспективу. Открытая христианством связь времен придавала истории телеологический, финалистский смысл. Настоящее в этом плане не приобретало самостоятельного значения: включаясь во всемирно-историческую драму, оно вместе с тем как бы и обесценивалось, ожиданием близящегося Страшного суда и окрашивалось сложным комплексом чувств – надежды на искупление и боязни расплаты за грехи. Тем самым осознание времени приобретало небывалую до того напряженность и делалось предметом внутреннего переживания каждого христианина.
Страхи и надежды, связанные с ожиданием расплаты в потустороннем мире, порождали особое отношение к мертвым. Верили в то, что поминовение усопших, молитвы и мессы способны повлиять на их участь, способствовать тому, что душа на том свете может быть очищена от грехов, совершенных при жизни, и сподобиться райского блаженства. С этой целью создавались поминальные братства, содержавшие на свой счет бедняков, которые возносили молитвы за покойных родственников и близких людей членов братств; Богоугодные дела должны были помочь и живым удостоиться включения « книгу жизни» и спасения в будущей жизни. В сохранившихся «поминальных книгах» и «некрологах» соседствуют сотни и тысячи, даже десятки тысяч имен умерших и живых – средневековый человек был уверен в том, что живые и мертвые образуют единое сообщество (238;237; 269). В «поминальных книгах» зальцбургского монастыря (VIII век) и Ньюминстера (XI век) перечням имен умерших и живых лиц разного звания (от епископов и аббатов до монахов и простых мирян) предшествуют имена библейских патриархов, пророков, апостолов, мучеников и святых (234). Ж. Дюби (135, 55) называет христианство периода около 1000 года «религией мертвых». Здесь опять-таки проявляется особое отношение к времени: время для человека не завершается вместе сего физическим существованием, поскольку душа бессмертна. Однако идея вечности плохо давалась простолюдину, и он моделировал потусторонний мир по образу и подобия земного мира, перенося на тот свет свои представления о течении времени.
Нужно согласиться с мыслью Ж. Ле Гоффа об отсутствии в средние века единого представления о времени и о множественности времен как реальности средневекового сознания (194, 223). Однако не в самом факте этой множественности времен, по-видимому, заключается особенность средневековой темпоральности. Социальное время различно не только для разных культур и обществ,– оно дифференцируется и в рамках каждой социально-культурной системы в зависимости от ее внутренней структуры.
Социальное время неодинаково протекает в сознании отдельных классов и групп: они по-своему воспринимают его и переживают, ритм функционирования этих общественных групп различен. Иными словами, в обществе всегда существует не какое-то единое «монолитное» время, а целый спектр социальных ритмов, обусловленных закономерностями различных процессов и природой отдельных человеческих коллективов. Однако подобно тому, как различные социальные явления, институты и совершающиеся в обществе процессы находятся во взаимной связи и группируются в целостную систему с преобладающим типом детерминизма, ритмы протекания этих процессов и функционирования социальных форм образуют иерархию социального времени данной системы. Общество не может существовать, не достигнув известной степени координации множественных социальных ритмов. Поэтому можно говорить о доминирующем ‘социальном времени в обществе. В антагонистической общественной системе социальное время господствующего класса, естественно, является определяющим до тех пор, пока этот класс не утратил реального контроля над общественной жизнью и остается влиятельной идеологической силой. Механизм социального контроля, находящийся в руках правящего класса, включает в себя в качестве важного компонента социальное время. И наоборот, одним из показателей утраты этим классом контроля над общественной жизнью является изменение структуры времени, по которому живет общество.
В средние века церковь держала социальное время под своим контролем, духовенство устанавливало и направляло все течение времени феодального общества, регулируя его ритмы. Всякие попытки выйти из-под церковного контроля времени неукоснительно пресекались: церковь запрещала трудиться в праздничные дни, причем соблюдение религиозных запретов представлялось ей более существенным, нежели получение дополнительной массы прибавочного продукта, который мог бы быть произведен в дни, объявленные запретными для труда и занимавшие более трети времени в году; церковь определяла состав пищи, которую можно было принимать в те или ‘иные отрезки времени, и строго карала за нарушение поста; она вмешивалась даже в сексуальную жизнь, предписывая, когда половой акт допустим и когда он греховен. С помощью заупокойных молитв и месс церковь могла сокращать сроки загробных мучений душ и, следовательно, осуществляла контроль не только над временем живых, но и над временем мертвых. В результате столь всеобъемлющего контроля над временем достигалось полное подчинение человека господствовавшей общественной и идеологической системе. Время индивида не являлось его индивидуальным временем, принадлежало не ему, а высшей силе, стоящей над ним. Поэтому и сопротивление господствующему классу в средние века выливалось в протест против его контроля над временем: эсхатологические секты, предрекая близящийся конец света и призывая к покаянию и отказу от благ земной жизни, ставили под сомнение ценность церковного времени.
Хилиазм – неотъемлемая принадлежность средних веков, форма, в которую отливались социальные чаяния угнетенных и обездоленных. Иногда ожидание конца света перерастало в панические массовые состояния, в эпидемии покаяний и самобичеваний. Хилиазм был своеобразной формой отношения к будущему, жизненно важным аспектом понятия времени ряда общественных групп.
Само течение истории милленарии толковали вразрез с официальной церковной доктриной, утверждая, что дню Страшного суда будет предшествовать тысячелетнее царство Христово на земле, отрицающее все феодальные и церковные учреждения, собственность и социальный строй.
Апокалипсическое ожидание скорейшего «конца времен» символизировало враждебность сектантов ортодоксальной концепции времени. Опасность эсхатологических сект (а средневековое сектантство, собственно, все так или иначе опиралось на эсхатологию) для господствующей церкви заключалась в том, что, предрекая и торопя непосредственное наступление конца света, они лишали внутреннего оправдания земной порядок, провозглашаемый церковью Богоустановленным (257; 141; 205; 120).
Но при всей их неортодоксальности отношение сектантов к отдаленному прошлому и к отдаленному будущему в одном существенном пункте совпадало с пониманием их церковью: и то и другое абсолютны в том смысле, что они, строго говоря, не подвластны течению времени. Абсолютное прошлое – сакральные моменты библейской истории – не отступает и может быть воспроизведено в литургии; абсолютное будущее – конец света – не приближается с течением времени, ибо царство божие может вторгнуться в настоящее в любой момент. Не ход времени ведет к его завершению – пришествию Христа, но божий промысел. Сектанты не торопят время, а отрицают его, предрекая скорейшее его прекращение. Между тем мистиками утверждалась возможность преодоления необратимости времени: Мейстер Эккарт утверждал, что можно «в единый миг» возвратиться к своему изначальному пребыванию в общении со Святой Троицей и в этот миг вернуть все «утраченное время» (202, 94 и след.).
Господство церковного времени могло длиться до тех пор, пока оно соответствовало медленному, размеренному ритму жизни феодального общества. Счет на поколения, царствования монархов и папские понтификаты имел больше смысла для людей той эпохи, чем точное исчисление кратких промежутков времени, не связанных с церковными или политическими событиями. В средние века не было необходимости в том, чтобы ценить и беречь время, точно измерять его и знать малые его доли. Эта эпическая неторопливость средневековой жизни обусловливалась преимущественно аграрной природой феодального общества. Но в нем сложился и развивался иной очаг общественной жизни, характеризовавшийся особым ритмом и нуждавшийся в более строгом измерении времени, в более бережном его расходовании,– город.
Производственные циклы ремесленников не определялись сменой времен года. Если земледелец был непосредственно включен в природный цикл и мог выделить себя из него лишь с трудом и не полностью, то горожанин– ремесленник был связан с природой более сложными и противоречивыми отношениями. Между ним и природой уже существовала созданная им искусственная среда – разнообразные орудия труда, всякого рода приспособления и механизмы, опосредовавшие его связи с естественным окружением. Человек, живший в условиях зарождавшейся городской цивилизации, в большей степени был подчинен порядку, созданному им самим, чем природным ритмам. Он более четко отделял себя от природы и относился к ней как к внешнему объекту.
Город становится носителем нового мироотношения и соответственно отношения к времени На городских башнях устанавливаются механические часы – они служат предметом гордости бюргеров за свой город, но вместе с тем удовлетворяют неслыханную прежде потребность – знать точное время суток. Ибо в городе формируется социальная среда, которая относится к времени совершенно иначе, нежели феодалы или крестьяне. Для купцов время – деньги, предприниматель нуждается в определении часов, когда функционирует его мастерская. Время становится мерой труда. Уже не перезвон церковных колоколов, зовущих к молитве, а бой башенных часов ратуши регламентирует жизнь горожан, хотя на протяжении нескольких столетий они будут продолжать попытки примирить и сочетать традиционное, «церковное время» с новым, мирским временем практической жизни. Время приобретает большую ценность, превращаясь в существенный фактор производства. Появление механических часов было вполне закономерным результатом и одновременно источником сдвигов во временной ориентации.
Механические часы были изобретены в конце XIII века. В XIV и XV веках башни ратуш многих городов Европы украшаются этими новыми часами. Неточные и лишенные минутной стрелки, городские башенные часы тем не менее знаменовали подлинную революцию в области социального времени Л Мамфорд утверждает, что ключом к пониманию промышленного мира нового времени является не паровая машина, а именно механические часы (213). С их появлением контроль над временем начал ускользать из рук духовенства Городская коммуна сделалась хозяйкой собственного времени, со своим особым ритмом (195, 66—79; 223, III, 67 и след.).
Но если мы будем рассматривать эти явления в более широкой культурно-исторической перспективе, то, пожалуй, не эмансипация городского времени от церковного контроля окажется наиболее существенным последствием изобретения механических часов. То обстоятельство, что на протяжении большей части человеческой истории не возникало потребности в постоянном и точном измерении времени, в расчленении его на равновеликие отрезки, объясняется не одним лишь отсутствием достаточных приспособлений для подобных измерений. Известно, что при наличии общественной потребности обычно находятся и средства ее удовлетворения.
Механические часы были установлены в европейских городах тогда, когда нужда в знании точного времени была осознана влиятельными социальными группами. Эти группы порывали (не сразу, но в тенденции) не только с «библейским временем», но и со всем мировосприятием, которое характеризовало аграрное традиционное общество. В системе этого старого мировосприятия время не представляло собой самостоятельной категории, осознаваемой независимо от своей реальной, предметной наполненности, оно не было «формой» существования мира – оно было неотчленимо от самого бытия. Время не существовало для сознания безотносительно к тому, что происходит во времени, и осознавалось в природных и антропоморфных понятиях. Отсюда качественная определенность времени, которое могло быть «добрым» и «дурным», сакральным и мирским. Понятие бескачественности времени (времени нейтрального по отношению к наполняющему его содержанию и не связанному с переживающими его субъектами, которые придают ему определенную эмоциональную и ценностную окраску) не воспринималось сознанием людей древности и средневековья. Поэтому и равномерное расчленение времени на соизмеримые и взаимозаменяемые отрезки было невозможно. Этому противоречил конкретно-вещественный характер восприятия времени, органической черты всех «вещей преходящих».
Создание механизма для измерения времени породило, наконец, условия для выработки нового отношения к нему – как к однообразному, униформированному потоку, который можно подразделять на равновеликие бескачественные единицы. В европейском городе впервые в истории начинается «отчуждение» времени как чистой формы от жизни, явления которой подлежат измерению.
О том, что причина заключалась не в изобретении механических часов, пожалуй, лучше всего свидетельствует такой факт. Появившись в Китае, европейцы, позаимствовавшие, как известно, немало древнекитайских изобретений, в свою очередь познакомили китайцев с кое-какими собственными открытиями. И хотя в средневековом Китае культивировалось недоверие и неприятие всего чужестранного, механические часы заинтересовали китайских правителей, но не как инструмент точного измерения времени, а как забавная игрушка! Не то на Западе. Здесь часы с механизмом, используемые знатью и городским патрициатом в качестве знака социального престижа, с самого начала служили практическим целям.
Европейское общество постепенно переходило от созерцания мира в аспекте вечности к активному отношению к нему в аспекте времени.
Получив средство точного измерения времени, последовательного его отсчета через одинаковые промежутки, европейцы не могли рано или поздно не обнаружить коренных перемен, которые произошли с этим понятием, перемен, подготовленных всем развитием общества, и города прежде всего. Впервые время окончательно «вытянулось» в прямую линию, идущую из прошлого в будущее через точку, называемую настоящим. Если в предшествовавшие эпохи различия между прошедшим, настоящим и будущим ременем были относительными и разделявшая их грань – подвижной (в религиозном ритуале, в моменты исполнения мифа прошедшее и будущее сливались в настоящем в непреходящий, исполненный высшего смысла миг), то с торжеством линейного времени эти различия сделались совершенно четкими, а настоящее время «сжалось» до точки, непрестанно скользящей по линии, которая ведет из прошлого в будущее, и превращающей будущее в прошлое. Настоящее время сделалось скоропреходящим, невозвратным и неуловимым. Человек впервые столкнулся с тем фактом, что время, ход которого он замечал лишь тогда, когда случались какие-то события, не останавливается и при отсутствии событий. Следовательно, время необходимо беречь, разумно использовать и стремиться наполнить его поступками, полезными для человека.
Равномерно раздающийся с городской башни бой курантов непрестанно напоминал о быстротечности жизни и призывал противопоставить этой быстротечности достойные деяния, сообщить времени позитивное содержание.
Переход к механическому отсчету времени способствовал выявлению тех его качеств, которые должны были привлечь особое внимание носителей нового способа производства—предпринимателей, мануфактуристов, купцов. Время было осознано как огромная ценность и как источник материальных ценностей. Нетрудно видеть, что понимание значимости времени пришло вместе с ростом самосознания личности, начавшей видеть в себе не родовое существо, а неповторимую индивидуальность, то есть личность, поставленную в конкретную временную перспективу и развертывающую свои способности на протяжении ограниченного отрезка времени, отпущенного в этой жизни. Механический отсчет времени происходит без прямого участия человека, который вынужден признать независимость времени от него. Мы сказали, что город стал хозяином собственного времени, и это верно в том смысле, что оно вышло из-под контроля церкви. Но верно и то, что именно в городе человек перестает быть хозяином времени, ибо, получив возможность протекать безотносительно к людям и событиям, время устанавливает свою тиранию, которой вынуждены подчиниться люди. Время навязывает им свой ритм, заставляя их действовать быстрее, спешить, не упускать момента. Место времени среди основных человеческих ценностей четко определил Леон Батиста Альберти: «Есть три вещи, которые человек может назвать принадлежащими ему»: это душа, тело и «самая драгоценная вещь. Она в большей мере моя, чем эти руки и глаза… это время» (94, 168—170). Из собственности Бога время превращается в собственность человека.
«Отчуждение» времени от его конкретного содержания создало возможность осознать его в качестве чистой категориальной формы, длительности, не «отягощенной» материей. Время в докапиталистическую эпоху всегда оставалось локальным. Не существовало единой шкалы времени для обширных территорий, не говоря уже о государствах или больших регионах. Партикуляризм общественной жизни проявлялся и в системах отсчета времени. Он еще долго не был изжит и после перехода к механическому измерению времени, каждый город имел свое время. Но этот новый способ определения времени.
Как и во многих иных случаях, мысль, высказанная автором эпохи средневековья или Ренессанса, на поверку оказывается пересказом или скрытой цитатой из произведения древнего автора. Слова Альберти перекликаются с обращением Сенеки к Луцилий: «Все у нас, Луцилий, чужое, одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владение природа, по и его кто хочет, тот и отнимает» (74, 5).
Впрочем, то, что эта идея была высказана на 1400 лет ранее, едва ли делает ее менее симптоматичной для характеристики духовного климата позднего средневековья и Ренессанса (9, 76—81) Новое отношение к времени с предельной силой обнаружилось в конце ренессансной эпохи, в поэмах Джона Донна и у Шекспира. «Время вывихнулось,– восклицает Гамлет,– О, проклятье, я был рожден для того, чтоб его вправить» ни содержал возможность унификации его, и с переходом контроля над временем к государственной власти она стала выдавать свои часы за единственно верные и навязывать их всем подданным. Локальное время разъединяло, тогда как общегосударственное, а затем и зональное время сделалось средством сплочения, усиления связей. Возникает единое темпоральное мышление.
Таким образом, в городе позднего средневековья оценка времени резко повышается. Однако неоднократно высказывавшаяся историками мысль о том, что предшествующий этап истории характеризовался «безразличием ко времени», приемлема лишь с оговоркой: средневековье было безразлично ко времени в нашем, современном его понимании, но оно имело свои специфические формы его переживания и осмысления.. Люди средних веков не безразличны ко времени, но они мало восприимчивы к изменению и развитию.
Стабильность, традиционность, повторяемость – в этих категориях двигалось их сознание, в них же осмыслялось то действительное историческое развитие, которого они так долго не могли ощутить.
Однако вместе с тем человеку средневековья было присуще напряженное переживание эсхатологии, его персональной включенности во всемирно– историческое движение, сознание, сопровождаемое противоречивым сочетанием надежды на спасение и страха перед гибелью. И в этом смысле психологическое ощущение времени достигало в средние века интенсивности, немыслимой для предшествующих эпох человеческой истории.
«На праве страна строится…» Давно установлено, что правовые отношения «не могут быть поняты из самих себя», но «коренятся в материальных жизненных отношениях» (2, т. 13, 6). Не менее ясно и то, что при феодальном строе традиция, обычай играли решающую роль в регулировании общественных производственных отношений (2, т. 25, 356—357). Но несравненно меньше внимания историки– медиевисты уделяют рассмотрению права как категории картины мира средневекового человека – категории, занимавшей в его сознании одно из центральных мест.








