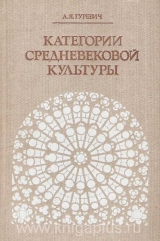
Текст книги "Категории средневековой культуры"
Автор книги: Арон Гуревич
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
На земле в свою очередь были места святые, праведные и места грешные.
Путешествие в средние века было прежде всего паломничеством к святым местам, стремлением удалиться от грешных мест в святые. Нравственное совершенствование принимало форму топографического перемещения (уход в пустынь или монастырь из «мира»). Достижение святости также осознавалось как движение в пространстве святой мог быть взят в рай, а грешник ниспровергался в преисподнюю. Локальное положение человека должно было соответствовать его нравственному статусу. В сознании людей средневековья земной и небесный миры постоянно смешивались (51). Не только индивид, ищущий спасения, но и вся церковь Христова изображалась в облике преследуемой диаволом странницы.
Изучение литературы западноевропейского средневековья позволяет наметить две стадии в развитии идеи движения– воплощения одновременно пространственного перемещения и изменения внутреннего состояния человека.
В раннее средневековье человека обычно мыслили как существо, осаждаемое силами зла н соблазнами,– под их угрозой он бежал от мира, уходил от друзей и родины. На этой стадии не характерны поиск нового опыта, приключения – то, что становится общим местом литературы с XII века. В этот период образ движения захватывает воображение авторов романов о рыцарях короля Артура, аллегорий любви, описаний восхождения души к Богу. Идея движения, естественно, стала очень популярна в эпоху крестовых походов. Простолюдины – участники первого крестового похода, подходя к какому-нибудь европейскому городу, который они впервые видели, вопрошали: «Не Иерусалим ли это?» Иерусалим для них был не просто географическим пунктом, расположение которого было им неизвестно, но местом страстен Спасителя, а Христа можно было обрести где угодно, для этого требовалось достичь состояния святости.
Религиозная концепция средневекового пространства выражалась также в делении его на мир христиан и мир неверных, нехристей. Хотя христианство мощно раздвинуло прежние представления о человеке, ограниченные горизонтом одного племени (у варваров), избранного народа (у иудеев) или единственного политического образования (Рим), провозгласив, что нет ни эллина, ни иудея, тем не менее средневековая антропология исключала из числа полноценных человеческих существ всех нехристиан, а также и часть христиан – еретиков, схизматиков. Культурным, благоустроенным миром, на который распространяется божье благословение, был лишь мир, украшенный христианской верою и подчиненный церкви. За его пределами пространство утрачивало свои позитивные качества, там начинались леса и пустоши варваров, на которые не распространялись божий мир и человеческие установления. Такое членение по религиозному признаку определяло поведение крестоносцев в пределах неверных: методы, недозволенные в христианских землях, были допустимы в походе против язычников. Однако поскольку Христос умер за всех, в том числе и за неверных, церковь полагала своей важной миссией обратить нехристей на путь истины, даже если они сами того не желали,– соmpell intгаге. Поэтому граница между христианским миром и миром нехристиан была подвижна.
Средневековое христианство – «открытая», миссионерская религия.
Благодаря усилиям церкви и ее воинства христианское пространство расширялось за счет морально-религиозной трансформации пространства, отнятого у сил зла.
Части пространства различались по степени своей сакральности.
Священные места – храмы, часовни, распятия на перекрестках больших дорог – находились под божественным покровительством, и преступления, в них пли близ них совершенные, карались особенно сурово.
Но место могло быть не только более пли менее священным,– подобно человеку, оно могло обладать благородством, пользоваться привилегией.
Как люди делились на знатных, свободных и зависимых, так и земельные владения приобретали подобную же юридическую квалификацию и даже были способны облагораживать своих обладателей. Пребывание на «свободной» земле облегчало положение или изменяло статус серва. Таким образом, место пользовалось правом так же, как и человек. Общество, государство, империя состояли из людей и земель.
В эпоху христианского средневековья подверглось известной перестройке и представление о соотношении локального микромирка и всего мира. Большинство населения по-прежнему жило в относительной изоляции, но тем не менее и большой мир уже включался в сознание человека. Это был мир христиан, сфера господства вселенской церкви, объединявшей разрозненные его части идеологически и организационно.
Космополитическая идея единства христианского мира была необходимым коррелятом хозяйственного и феодального партикуляризма и сепаратизма средневековья. В этом смысле поучительно сравнение трактовки пространства в эпосе и в рыцарском романе. Мир «Песни о Роланде» – однородный, легко локализуемый, хорошо известный ее героям. В рамках этого ограниченного мирка в западной части Франции действуют рыцари, выросшие на идеях верности сеньору и преданности христианской религии и сражающиеся против совершенно определенного врага – сарацинов.
Иной мир предстает в романах о «рыцарях Круглого стола». Здесь опасность рассеяна повсюду, во всем обширном мире, простирающемся от Англии вплоть до Константинополя. Это таинственный и многообразный мир, в котором охваченный любовью герой совершает подвиги в поисках возлюбленной. Расширяется и усложняется географическое пространство, а вместе с тем происходит освоение и внутреннего пространства человеческой души,– в ней обнаруживаются доселе неведомые Богатства.
Желая уяснить пространственные представления людей в средние века, мы оказались вынужденными затронуть более широкий круг проблем, казалось бы, не имеющих прямого отношения к категории пространства.
Объясняется это тем, что пространство не воспринимается как абстракция и не представляло собой во всех своих точках равноценной и подлежащей однородному расчленению протяженности. Пространственные представления средневековья неотделимы от осознания природы, с которой человек находился в специфических, интимных отношениях и которой он еще не был способен вполне четко себя противопоставить. Сообщая природе собственные черты и качества, он вместе с тем мыслил и себя самого во всем ей подобным. Человек ощущал свою внутреннюю связь с определенной частью пространства, находившейся в его обладании и являвшейся его родиной. Мы видели, что у германцев наследственное земельное владение семьи осмыслялось как «родина», «отчина». Этот «локализованный микрокосм» был соотнесен в германских верованиях с картиной мира, строившейся по его образцу. На эти присущие варварам представления накладывалось христианское учение, сливавшее пути земные с путями небесными и делавшее возможным смещение в одну плоскость посюстороннего и потустороннего, местного и библейского.
Как видно из изложенного, пространственные представления средневекового человека имели в значительной мере символический характер, понятия жизни и смерти, добра и зла, благостного и греховного, священного и мирского объединялись с понятиями верха и низа, с определенными странами света и частями мирового пространства, обладали топографическими координатами. Но символика средневекового пространства не исчерпывалась одною морально-религиозной стороной,– она имела и некоторые иные специфические черты. Символ не представлял собой лишь знака, обозначавшего какую-либо реальность или идею. Символ не только замещал эту реальность, но вместе с тем как бы и приобщался к ней. Когда при заключении сделки о передаче земельного владения не ограничивались составлением документа, но прибегали к обряду, заключавшемуся в публичном вручении прежним собственником новому владельцу куска дерна, то этот дери символизировал все владение, и считалось, что земля передана буквально «из рук в руки». Изображая святого – покровителя монастыря или церкви, живописец рисовал храм в руках: святого. Средневековый мастер, как и зритель, не видел здесь чистой условности,– изображение было сопричастно прототипу.
Символ в какой-то мере воспринимал свойства символизируемого, и на символизируемое переносились свойства символа. В сознании средневековых людей изображение было внутренне едино с изображаемым, духовному приписывались материальные свойства, а часть могла представлять целое.
Своеобразие средневековой символики непосредственно связано с особенностями восприятия пространства людьми той эпохи Участок земли простирается в определенных границах, а вместе с тем он может как бы и уместиться в куске дерна, передаваемого на судебном собрании одним владельцем другому. Известно, где расположен храм, каковы его объем и размеры, однако этот храм в то же время лежит и в руках святого, которому он посвящен. Эти примеры неоднородны, они восходят к двум весьма различным источникам средневекового символизма. Первый (передача земельной собственности посредством вручения куска дерна) берет начало в символизме мышления варваров. Второй пример (изображение храма на руках у святого покровителя) – образчик христианского символизма.
Остановимся на этих формах символического восприятия пространства.
Искусство германских народов было насквозь символично и условно.
«Звериный стиль» германцев в первом тысячелетии н. э. был очень далек от натуралистического изображения животных. Образы зверей на камне, дереве, металле, кости были совершенно фантастичны. Эти звери сказочны и совсем не похожи на реально существующих животных, хотя, конечно, авторам изображений нельзя отказать в наблюдательности. Одна из наиболее характерных черт изображений – отсутствие объективного масштаба. Члены зверя трактуются вне зависимости один от другого. Это свободное соотношение размеров приводит к смешению большого с малым, части с целым, главного с второстепенным. Голова зверя доминирует над туловищем, конечности не пропорциональны свернувшемуся в узел телу. Разительность диспропорций усиливается тем, что элементы изображения натуралистичны, тогда как фигура зверя в целом гротескна и фантастична. Изображение делается неестественным и крайне напряженным.
Эти же черты фантастичности и своеобразного понимания соотношения целого и частей выступают и в древнескандинавской поэзии Исландский или норвежский скальд не распространяет своего внимания равномерно на все описываемое в поэме событие или на всю личность воспеваемого вождя,– он полностью сосредоточивается на интенсивном выделении одной детали, частности, какого-либо одного качества героя или на отдельном эпизоде, и эта деталь должна представить целое. И в изобразительном и в поэтическом искусстве варваров часть символизирует целое, замещает его, изображения ее вполне достаточно для того, чтобы вызвать в сознании представление обо всем остальном. По-видимому, часть может занимать то же место в пространстве, какое принадлежит целому. Пространственная несовместимость целого и части не воспринималась сознанием варваров как очевидная.
Их сознание расчленяет мир особым образом. То, что представляется нам противоположным, для варваров может не быть таковым, и наоборот. Живая и мертвая природа, люди и звери, птицы, море и земля и т. д.– для нас разные ряды вещей, явлений и существ – не воспринимались варварами в такой же степени различными и обособленными, а, по-видимому, подвергались иной классификации. В скальдических кеннингах – специфических метафорах, которыми скальды насыщали свои песни и поэмы, море постоянно называется землею («земля рыб», «земля тюленей», «дом лососей»), а земля– морем («море оленей», «озеро елей», «фьорд кустарника»), дом называют «кораблем», рыбу – «змеей воды» Как и в звериных орнаментах, в поэзии скальдов смешиваются пропорции, большое в кеннинге приравнивается к малому, частное к общему, неподвижное сопоставляется с движущимся. Мифологические ассоциации в кеннингах создают впечатление недифференцированного восприятия мира применявшими их поэтами. Но на самом деле это, скорее, иной способ расчленения мира, своеобразная, отличная от привычной нам система классификации элементов действительности.
Скальдические кеннинги не содержат абстракций и общих понятий, но дают конкретное обозначение, «сиюминутное» изображение. Художественное обобщение достигается скальдом лишь путем соотнесения частного с мифологическим образом. Кеннинг подставлял микрокосм на место макрокосма, и в результате в воображении слушателя скальдической песни (они сочинялись и передавались устно и были записаны лишь несколько веков спустя) вставали наряду с реальными людьми, конкретными событиями весь мир Богов и великанов, борьба Богов с чудовищами, и факты земной жизни получали в этом контексте новое звучание, героизировались, более того, мифологизировались. Борьба героя с его врагами сливалась с космическими коллизиями, в которых участвовали Боги и другие сверхъестественные силы. Люди становились участниками этой борьбы, достигавшей в изображении скальдов размеров мировой катастрофы.
Эти черты изобразительного и поэтического искусства скандинавов в период раннего средневековья отражают, на наш взгляд, некоторые особенности символизирующего мышления варваров, восходящие к глубокой древности.
К весьма архаическому пласту сознания относятся, по-видимому, и параллельные явления, которые обнаруживаются в древнеисландском языке.
Большое место в нем занимали так называемые партитивные определения. В них часть определяется по целому либо целое определяется по части его, причем категории партитивности и причастности остаются неразграниченными. В песнях «Старшей Эдды» и в сагах зачастую встречаются такие своеобразные обозначения групп людей, как, например, VIT GUNNAR pair pori. Эти обозначения состоят из местоимения и имени собственного. Переводить их приходится не буквально: «мы Гуннар» пли «они Торир», что не имеет для нас смысла, но – «оба мы с Гуннаром», «Торир и его люди». Здесь группа людей названа по имени их предводителя, главы, старшего. Имя собственное в оборотах этого типа служит грамматическим атрибутом, смысл которого состоит в уточнении коллектива, расплывчато обозначаемого местоимением. К этому же близок тип обозначения родственной группы по названию одного из ее компонентов: feðgin (отец и мать), feðаr (отец и сын, отец и сыновья), maeðgin (мать и сыновья), maeðguг (мать и дочь, мать и дочери), syskin (братья и сестры). Здесь односторонне представлены родственные связи: родители обозначены через отца, отец с сыновьями – через отца, мать с сыновьями – через мать, также и мать с дочерьми, братья с сестрами – через сестру.
Комплексы, обозначаемые с помощью оборота типа þеiг Еgill, представляли собой, по наблюдению С. Д. Канцнельсона, не какие– либо случайные скопления лиц, а конкретные устойчивые множества. Так обозначалась группа, выступающая в сознании людей той исторической эпохи в виде нераздельного единства: супружеская чета, родители с детьми, родственники, семья с челядью, друзья, вождь с дружиной, спутники по походу или плаванию,– короче говоря, общественный коллектив.
То, что этот коллектив был постоянно объединен вокруг старшего – конунга, отца, штурмана корабля и т.п. – и делало возможным обозначение целого именем этого старшего. Мысль о целом доминирует здесь над мыслью об отдельных его частях. Коллектив в его постоянных границах предполагается каждый раз известным слушателям пли читателям. Перевод такого оборота вне контекста саги пли песни, в котором он употреблен, обычно невозможен: необходимо знать, о ком идет речь. Так, например, VIT Guðmundr в контексте саги значит «Гудмунд и Скапти», а VIT Вгоddi – «Бродди и Торстейн». Отношения в пределах такой группы представлялись сознанию этой эпохи столь тесными, что упоминания одного имени главы группы было вполне достаточно для того, чтобы вызвать в сознании мысль о группе в целом. По-видимому, отдельные лица, входившие в состав такого коллектива, постоянно мыслились только в отношении к нему, но не обособленно (40, 80– 81, 91—94).
Своеобразие древних партитивных оборотов С. Д. Кацнельсон видит в том, что часть не выступает в них как непосредственный субъект или объект определенного действия,– действие приписывалось целому, и только целое было носителем предикатов. Часть здесь не мыслится вне определенного конкретного множества ни как самостоятельная единица, ни в отношении к другим множествам. Поэтому на все множество переносятся определения, свойственные его отдельным частям, и, наоборот, на отдельные части множества переносят определения, присущие множеству в целом.
Подобное эллиптическое употребление местоимения с именем собственным присуще лишь древнескандинавскому языку и почти не встречается в других языках германской группы. Что же касается упомянутых выше особенностей изобразительного и поэтического искусства скандинавов, сливавших частное с целым пли подставлявших часть на место целого, то они находят себе параллели у других народов па сходной стадии развития. Но символизм такого рода не исчезает и в последующую эпоху. Его нетрудно обнаружить и в средневековом обществе. Сложная и разветвленная система ритуалов, формул, торжественных актов, правовых процедур, церемоний, регулировавшая и оформлявшая все течение феодальной общественной жизни, наполнявшая произведения искусства и литературы, впитала в себя немалую долю символического материала, который восходил нередко еще к варварской эпохе.
Другим источником символического восприятия и понимания пространства в средние века был христианский неоплатонизм, видевший подлинную реальность не в земных вещах и явлениях, а в их божественных небесных прототипах, дубликатами и символами которых они считались.
Христианский символизм «удваивал» мир, придавая пространству новое, дополнительное измерение, невидимое глазу, но постигаемое посредством целой серии интерпретаций. Эти многосмысленные толкования отправлялись от слов св. Павла: «Буква убивает, дух оживляет».
Соответственно каждый текст Писания истолковывался как буквально, так и духовно или мистически, причем мистическое толкование в свою очередь имело три смысла. Таким образом, текст в общей сложности получал четыре интерпретации. Во-первых, его следовало понимать с фактической стороны («историческое» толкование). Во-вторых, тот же факт рассматривался в качестве аналога иного события. Так, события, описываемые в Ветхом завете, наряду со своим непосредственным смыслом имели и другой – завуалированный, аллегорический, указывающий на события, о которых повествует Новый завет («аллегорическое» толкование).
Например, библейский рассказ о продаже Иосифа братьями, о его заключении в темницу и последовавшем возвышении следовало понимать как аллегорию преданного и покинутого учениками Христа, осужденного, распятого и вышедшего из гроба после воскресения. В-третьих, давалось нравоучительное толкование; данное событие рассматривалось как моральный образец поведения («хронологическое» толкование). Добрый самаритянин оказавший помощь жертве разбойников, и непокорный Авессалом – примеры, служившие для наставления христиан. В-четвертых, в событии раскрывалась сакраментальная религиозная истина («анагогическое», то есть возвышенное, толкование). Отдых седьмого дня, предписанный законом Моисеевым, интерпретировался применительно к христианам как вечное отдохновение в небесном покое. Идею этих интерпретаций выражал стих: Littera gesta docet, quid credes allegoria, Moralis quod agas, quo tendas, anagogia.
(«Буквальный смысл учит о происшедшем; о том, во что ты веруешь, учит аллегория; мораль наставляет, как поступать; твои же стремления открывает анагогия».) Уподобляя человеческую душу строению, Храбан Мавр писал, что «история», то есть буквальное понимание, составляет фундамент, тогда как три других толкования образуют стены, крышу и внутреннее убранство здания. В своем сочинении «Аллегории ко всему Священному писанию» этот Богослов каролингской эпохи дал обширный свод терминов, которые упоминаются в Ветхом и Новом заветах, и привел их аллегорические, тропологические («изменяющие направление речи») и анагогические интерпретации (РL, t. 112, 849 – 850). Одно и то же понятие могло быть истолковано по всем четырем смыслам. Иерусалим в буквальном значении – земной город; в аллегорическом – церковь; в тропологическом – праведная душа; в анагогическом – небесная родина. Будучи последовательно интерпретирован, Ветхий завет оказывался весь целиком сведенным к единому смыслу – к возвещению неминуемого рождества Христова и его подвига спасения.
Теологи применяли этот способ интерпретации только к Писанию, отвергая возможность подобного же истолкования мирских текстов. Но существовала тенденция распространить «четырехсмысленное» толкование и на художественные произведения. Данте в письме к Кан Гранде делла Скала утверждал, что его «Комедию» следует подвергнуть «многосмысленному» толкованию, «ибо одно дело – смысл, который несет буква, другое – смысл, который несут вещи, обозначенные буквой». Иллюстрируя этот способ интерпретации, он приводил отрывок из «Книги псалмов Давидовых» (113 а, 1 – 2): «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова – из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль владением Его».
«Таким образом, – комментировал этот стих Данте, – если мы посмотрим лишь в букву, мы увидим, что речь идет об исходе сынов Израилевых из Египта во времена Моисея; в аллегорическом смысле здесь речь идет о спасении, дарованном нам Христом; моральный смысл открывает переход души от плача и от тягости греха к блаженному состоянию; анагогический– переход святой души от рабства нынешнего разврата к свободе вечной славы.
И хотя эти таинственные смыслы называются по-разному, обо всех в целом о них можно говорить как об аллегорических, ибо они отличаются от смысла буквального или исторического» (30, 387; ср. 135—136).
Если символические толкования Писания были затруднительны для непосвященных и оставались по преимуществу «хлебом Богословов», то символизм церковных зданий, их устройства, оформления, всех без исключения деталей собора, а равно и совершавшихся в нем религиозных ритуалов и церемоний, был адресован всем христианам и должен был наставлять их в тайнах веры.
Средневековый реализм, в особенности если его рассматривать не в интерпретации Богословов и философов, а в вульгаризированном восприятии «среднего человека», был очень огрубленной параллелью платоновского понимания мира и имел с ним лишь внешнее сходство. Человек той эпохи был склонен к смешению духовного и физического планов и проявлял тенденцию толковать идеальное как материальное. Абстракция не мыслилась как таковая, вне ее зримого конкретного воплощения. И духовные сущности и их земные символы и отражения одинаково объективировались и мыслились в качестве вещей, которые поэтому вполне можно было сопоставлять, изображать с равной степенью отчетливости и натуралистичности.
Протяженность земных вещей, их местоположение, расстояния между ними утрачивали определенность, поскольку центр тяжести перемещался от них в мир сущностей. Средневековый человек допускает, что за единый миг можно покрыть огромный путь. Святой был способен тридцатидневный путь проделать за трое суток. Святая Бригитта совершила путешествие из Ирландии в Италию, успев лишь раз моргнуть, а святой Айдан из Англии в Рим и обратно обернулся за двадцать четыре часа. Сакетти приписывал «великому чернокнижнику» Абеляру способность за один час попасть из Рима в Вавилон (229, 87). Души же, исходящие из тел, «бегут столь быстро, что если бы какая-нибудь душа изошла из тела в Валенсии и вошла (в другое тело) в какой-нибудь деревне в графстве Фуа, и на всем пространстве между этими местами шел бы сильный дождь, то на нее попали бы едва ли три капли» (132, 151). Души, как и АНГЕЛЫ, одновременно пространственны и непространственны. Нет ничего неправдоподобного в возможности попасть в преисподнюю, странствуя по земле или по морю (как святой Брендан) Весь загробный мир одновременно и далек и рядом,– собственно, понятия «близкое» и «дальнее» , указывающие на расстояния, здесь неприменимы. В средневековом мире обнаруживаются некие «силовые линии», попадая в сферу действия которых человек как бы выходил из-под власти земных законов, в том числе и законов пространства и времени. Многое из воспринимаемого чувствами и сознанием или представляющегося воображению средневекового человека вообще не может быть локализовано в пространстве.
Представления человека о мире вместе с тем отражают его представления и о самом себе. Так и восприятие человеком пространства связано с его самооценкой. Какое место занимает он в универсуме? Что служит в нем точкой отсчета? Известно, что в эпоху Возрождения, когда человеческая личность решительно порывала с традиционными корпоративными и сословными связями и самоопределялась как автономный субъект воли и поведения, восприятие пространства изменилось: индивид стал ощущать себя в качестве центра, вокруг которого размещается остальной мир. Заново открытая художниками Ренессанса линейная перспектива предполагает наличие наблюдателя, из одной неподвижной точки созерцающего все части картины, видимые поэтому под определенным углом. Цельность и связность всем деталям и фрагментам картины и, следовательно, изображаемой ею реальности придает именно наличие этого предполагаемого зрителя. Части космоса изображены так, как они видны этому зрителю в известный момент времени, они соотнесены с ним как с центром, от которого ведется отсчет и измерение бесконечного о безграничного пространства, просвечивающего сквозь передний план картины (вспомним о fenestra aperta Альберти) (29).
Подобная субъективно-антропоцентрическая позиция, рационализирующая зрительное впечатление, не свойственна человеку средневековья. Скорее, следует говорить о геоцентрической «модели мира». Но Бог – не только центр мира, располагающегося в зависимости от него и вокруг него. Он присутствует повсеместно, во всех своих творениях. Символом совершенства считался круг. Идея круга и сферы служила образом Бога и мира. Таким представляется космос и поэту Данте и теологу Фоме Аквинскому. В анонимной рукописи (XII век?) среди определений Бога дается и следующее: «Бог есть интеллигибельная сфера, центр коей повсюду, а поверхность– нигде» (156, 174).
Соответствующие теоцентрической «модели мира» пространственные представления отчетливо прослеживаются в средневековом изобразительном искусстве. Линейную перспективу живопись этой эпохи отвергает. Отдельные фрагменты картины, иконы изображены каждый в своем ракурсе, не соотнесены перспективно друг с другом, подчас в картине вообще отсутствует глубина и все изображенное в ней как бы расположено в одной плоскости. Эта плоскость изображения Deus est sphaera intelligibilis , cuius centrum ubique circumferential nusquam )представляет собой непроницаемую поверхность, сквозь которую невидно внутреннего пространства Художников мало тревожит явное несоответствие пропорций: деревья или горы могут быть одного размера с фигурой человека; для того чтобы вместить в раму картины целиком все строение, дом изображают непропорционально маленьким.
Подчеркнутые контуром фигуры не пересекаются и даются полностью. Они выносятся нередко вперед из помещения, превращающегося в простой декоративный фон. Явно разные части пространства совмещаются в одном изображении. Эстетика средневековья ставила перед художником задачу не воссоздания иллюзии видимого мира, а, в соответствии с учением неоплатонизма, раскрытия «интеллектуального видения». Но подобному видению доступно многое такое, что не воспринимает глаз. Поэтому средневековая живопись вводит зрителя в особую ситуацию, которую можно назвать «драмой встречи двух миров» Мир чувственный и физически зримый соприкасается здесь с миром сверхчувственным. Средневековый человек, созерцая картину, икону, скульптуру, ощущал возможность перехода из одного плана в другой (29, 35 и след.).
Можно ли сомневаться в том, что человек и в средние века отличал близко и далеко от него расположенные предметы и знал подлинную их соразмерность? Однако эти простые жизненные наблюдения не переносились в живопись и эстетической ценности не получали, Центром, вокруг которого располагался мир, изображаемый средневековыми живописцами, был Бог.
Поскольку’ подлинной значимостью обладает не то, что видимо физическим зрением, а постигаемая духовными очами высшая реальность, средневековая живопись, отрицая самостоятельность видимого мира, подчиненного сверхчувственным высшим силам, одновременно исходит из презумпции недостоверности человеческого, земного созерцания. Зритель в средневековой картине не представляет собой центра, из которого рассматривается реальность. Картина предполагает наличие не одной единственной, но нескольких или многих точек наблюдения. Отсюда – «развернутое» изображение, диспропорция, «обратная перспектива». В картине возможно совмещение изображений двух или нескольких временных моментов живописного повествования. Ансамбль в картине организован на основе соседства, а не по правилам единства. Пространство не членится и не измеряется восприятиями индивида. В силу упомянутых особенностей оно не «втягивает» в себя зрителя, а «выталкивает» его из себя (85; ср. 72).
Однако особенности живописи средневековья не свидетельствуют об «уничтожении» пространства художниками той эпохи. Напротив, сравнение средневекового изобразительного искусства с искусством античности обнаруживает новую концепцию пространства. Искусство классической древности, знавшее перспективу, вместе с тем было лишено стремления к передаче единства изображаемого как внутренней связи элементов картины или пластического рельефа. По мнению Э. Панофского, для античного искусства характерно не системное пространство, как в искусстве нового времени, а агрегатное пространство, ибо чувство пространства древних, по-видимому, не требовало, чтобы изображаемые тела образовывали систему отношений (222,11О). Переход от античности к средневековью ознаменовался в области искусства распадом старых художественных форм и канонов. Торжествует плоскостное художественное мышление. Связь между фигурами становится нематериальной, основываясь на ритмической смене красок в живописи, освещенных и затемненных элементов в рельефах. Этот изобразительный принцип находит аналогию в философии неоплатоников: «Пространство – не что иное, как ярчайший свет» (Прокл). В романском искусстве и тела и пространство в равной мере сведены к. плоскости, но тем самым и реальный мир и художественное пространство понимаются как континуум. Отказавшись от стремления передавать иллюзию пространства, художники добиваются того, что художественное пространство становится гомогенным в силу своих световых качеств (116, III).








