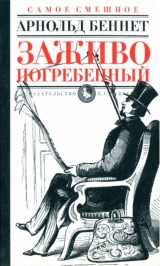
Текст книги "Заживо погребенный"
Автор книги: Арнольд Беннет
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Хозяин и слуга
– Теперь дознанье будет? – спросил Прайам Фарл в шесть часов утра.
Он рухнул в жесткое кресло на первом этаже. Незаменимый Генри Лик был утрачен для него навеки. Он не постигал, как будет теперь жить. Он не мог себе представить своего существования без Лика. И, – мало этого, надвигающийся ужас появления на люди в связи со смертью Лика был попросту непереносим.
– Нет! – обнадежил доктор. – Ах, нет! Я же присутствовал. Острая двусторонняя пневмония! Что ж, бывает! Я выдам свидетельство о смерти. Конечно, вам придется пойти его заверить.
И без дознанья дело принимало самый мучительный для Фарл а оборот. Он понял, что просто всего этого не вынесет, и спрятал лицо в ладонях.
– Где нам искать родственников мистера Фарла? – спросил доктор.
– Родственников мистера Фарла? – отозвался Прайам Фарл, не понимая.
И вдруг он понял. Доктор Кашмор считал, что фамилия Лика – Фарл! Вся душа застенчивого Прайама Фарла встрепенулась, и он ухватился за безумную возможность избежать всякого появления на люди в качестве Прайма Фарла. Да пусть себе считают, что это он, а не Генри Лик, скоропостижно скончался на Селвуд-Teppac в пять часов утра! И он тогда свободен, волен, как птица!
– Да, – подтвердил доктор. – Их следует известить, естественно.
Прайам быстро пробежал в уме каталог собственной родни. Но решительно никого не мог припомнить ближе некоего Дункана Фарла, троюродного брата.
– По-моему, у него их и не было, – ответил он, и голос у него дрожал от сознания собственной отваги. – Разве что дальние какие-то. Но мистер Фарл никогда про них не говорил.
Что было правдой.
Он с трудом из себя выдавливал эти два слова «мистер Фарл». Но когда они слетели-таки с его уст, он понял: дело сделано, возврата быть не может.
Доктор покосился на руки Прайама, трудовые, загрубелые руки художника, вечно возящегося с красками.
– Простите, – сказал доктор. – я полагаю, вы его слуга, или…
– Да, – сказал Прайам Фарл.
И точка была поставлена.
– Назовите полное имя вашего хозяина, – сказал доктор.
Прайам Фарл содрогнулся.
– Прайам Фарл, – почти прошептал он.
– Как! Не?.. – громко вскрикнул доктор, которого превратности жизни Лондона наконец-то потрясли.
Прайам кивнул.
– Ну и ну! – доктор дал волю своим чувствам. Говоря по правде, именно эта превратность жизни Лондона ему польстила, он ощутил свою значительность, сразу забыл усталость и обиды.
Он увидел, что халат бордо облекает человека, который букавально валится с ног, и с тем своим добродушием, какого не в силах были побороть никакие тяготы, вызвался помочь по части предварительных формальностей. И он ушел.
Месячное жалованье
Прайам Фарл не намеревался спать; он хотел обдумать положение, в которое так лихо себя поставил; но он заснул – и в этом жестком кресле! Разбудил его ужасный грохот, как будто дом бомбардируют и мимо ушей его несутся кирпичи.
Когда он наконец совсем очнулся, бомбардировка оказалась настойчивым, надсадным стуком в парадную дверь. Он встал, увидел заспанного, неумытого, лохматого бордового субьекта в грязном каминном зеркале. И, потянувшись, направил сонные свои стопы к парадной двери.
За дверью стоял доктор Кашмор и еще один пятидесятилетний субъект, чисто выбритый, строгий, в глубоком, полном трауре – и даже были на нем черные перчатки.
Это новое лицо холодно оглядело Прайама Фарла.
– Ах! – произнес скорбящий.
Зашел в дверь и последовал за доктором Кашмором.
Дойдя до края коврика в прихожей, скорбящий заметил белый квадратик на полу. Поднял, внимательно осмотрел и протянул Прайаму Фарлу:
– Повидимому, это вам, – сказал он.
Прайам взял конверт, увидел адрес: «Генри Лику, эсквайру, Селвуд-Teppac», – писаный женскою рукой.
– Это же вам, – наседал несгибаемым голосом скорбящий.
– Да-да, – промямлил Прайам.
– Я – мистер Дункан Фарл, адвокат, кузен вашего усопшего хозяина, – продолжал металлический голос, сквозь крупные, ровные белые зубы. – Что вы успели сделать за день?
Прайам, заикаясь, выговорил:
– Ничего. Я спал.
– Вам бы не мешло быть поучтивей, – заметил Дункан Фарл.
Ах, вот и он, троюродный братец, которого он видел только когда-то в детстве! В жизни он бы не узнал Дункана. Дункан явно и не думал узнавать его. Все мы имеем обыкновение через сорок лет делаться неузнаваемыми.
Дункан Фарл прошествовал по первому этажу, на пороге каждой комнаты восклицая «Ах!» или «Ха!» Потом они с доктором направились наверх. Прайам, в полном смятении, торчком стоял в прихожей.
Наконец Дункан Фарл спустился.
– Подите сюда, Лик, – сказал Дункан.
И Прайам малодушно ступил следом за ним в ту комнату, где стояло жесткое кресло. Дункан Фарл уселся в это жесткое кресло.
– Жалованье какое получали?
Прайам попытался вспомнить, сколько он платил Генри Лику.
– Сотня в год, – сказал он.
– А-а! Недурное жалованье. Когда получали в последний раз?
Прайам вспомнил, что платил Лику два дня тому назад.
– Третьего дня, – был его ответ.
– Снова повторяю: можно бы вести себя поучтивей, – заметил Дункан, вытаскивая блокнот. – Вот тут, однако ж, восемь фунтов, пять шиллингов, это вам за месяц. Складывайте вещи и извольте удалиться. В ваших услугах я более не нуждаюсь. От каких бы то ни было замечаний воздержусь. Но потрудитесь хотя бы одеться – сейчас три часа пополудни – и безотлагательно оставьте этот дом. Но предварительно дайте мне осмотреть ваш сундучок… или сундучки.
Через час, в сумерках, Прайам Фарл стоял позади собственной двери с жестяным чемоданом Генри Лика и его же котомкой, понимая, что события жизни подхватили его и несут с неимоверной быстротой. Он хотел быть свободным, и вот он свободен. Волен, как птица! Он только дивился тому, как столь многое, и в столь короткое время могло произойти всего лишь в результате мгновенного отклонения от истины.
Глава II
Помойное ведро
Из кармана плаща у Лика торчал сложенный «Дейли Телеграф». Прайам Фарл был отчасти денди и, как все уважающие себя денди и как все портные, не любил, чтоб укромные складки одежды кто-то портил неумеренным использованием карманов. Сам же плащ и костюм под ним были очень даже ничего себе; поскольку, принадлежа покойному Генри Лику, сидели на Прайаме Фарле, как влитые, да и были сшиты на него, поскольку Генри Лик имел обычай одеваться исключительно из гардероба своего хозяина. Наш денди рассеянно вытащил «Телеграф», и взгляд его упал на следующее: «Прекрасный частный отель самого высокого класса. Роскошная мебель. Чуткое внимание к удобствам клиента. Прекраснейшая во всем Лондоне репутация. Изысканная кухня. Тишина. Для лиц самого привилегированного положенья в обществе. Ванные комнаты. Электричество. Отдельные столики. Без унизительных чаевых. Однокомнатные номера от 2,5 гиней, двухкомнатные от 4 гиней в неделю. Квинс-Гейт, № 250.» Пониже было еще одно сообщение: «Не меблированные комнаты. Роскошный особняк. Сорок спален. Великолепные салоны. Повар из Парижа. Отдельные столики. Четыре ванных комнаты. Биллиардная, ломберная, просторный холл. Молодое, веселое, музыкальное общество. Бридж (по маленькой). Оздоровительные процедуры. Прекраснейшее место во всем Лондоне. Без унизительных чаевых. Однокомнатные номера от 2,5 гиней, двухкомнатные от 4 гиней в неделю, телефон 10, 073, особняк Трефузиса».
Тут как раз на Селвуд-Teppac показался кэб.
Прайам поскорей его окликнул.
– Слышь, хозяин, – сказал кэбмен, опытным глазом окинув Прайама Фарла и смекнув, что тот не привык возиться с багажом. – Дай вот этому медяк, уж он тебе подмогнет. Чего там в тебе и весу-то.
Маленький, тощий мальчонка, с историческими остатками сигареты во рту, не ожидая, пока его попросят, взбежал, как обезьянка, по ступеням, и вырвал из рук Прайама поклажу. Прайам за этот подвиг дал ему один из шестипенсовиков Лика, мальчишка щедро на монету поплевал, одновременно – фантастическая ловкость! – зажимая нижней губою сигарету. Потом извозчик благородным жестом приподнял поводья, Прайаму пришлось решиться, и он забрался в кэб.
– № 250 Квинс-Гейт, – сказал он.
Прижимаясь щекой к плечу, чтоб уклониться от поводьев, и, через крышу кэба, бросая это указанье во внимательное извозчичье ухо, вдруг он ощутил себя снова англичанином, англичанином до мозга костей, в истинно английской обстановке. Этот кэб был – как дом после странствий по пустыне.
№ 250 Квинс-Гейт он выбрал, приняв за оплот покоя и укромности. Он прямо предвкушал, как погрузится в этот № 250, как в пуховую постель. Другое место его устрашило. Он помнил ужасы континентальных отелей. В своих странствиях он довольно натерпелся от молодого, веселого, музыкального общества шикарных отелей и бридж (по маленькой) его не слишком привлекал.
Пока лошадка цокала по ущельям среди знакомой штукатурки, он продолжал изучать «Телеграф». И немало удивился, обнаружа там не одну колонку восхитительных дворцов, причем все обладали прекраснейшей репутацией в Лондоне; Лондон весь как будто был одним сплошным самым прекрасным местом. И как уж он был ласков, гостеприимен, Лондон, как жаждал он твоего покоя, удобства, заботился о твоей ванне, о твоем оздоровленье! Прайам вспомнил убогие меблирашки восьмидесятых. Все изменилось, изменилось к лучшему. «Телеграф» весь ломился, сочился, прыскал этим лучшим. Лучшее кричало с колонок на первой странице, парило даже над названием газеты. Там он, кстати, заприметил от названья слева, новую, утонченную кофейню на Пиккадилли-Серкус, принадлежащую благородной даме, (сама же она ею и управляла) где вы могли насладиться настоящим хлебом, настоящим маслом, настоящим кексом и настоящей гостиной. Поразительно!
Кэб остановился.
– Тут это? – спросил извозчик.
И это было тут. Но дом был непохож даже на скромную гостиницу. Он был в точности похож на самый обыкновенный дом, высокий, узкий, зажатый между своих же близнецов. Прайам Фарл недоумевал, покуда наконец его не осенило. «Ах, ну конечно, – сказал он сам себе, – тут покой, укромность. Мне тут понравится», – и выпрыгнул из кэба.
– Я вас оставляю, – бросил он извозчику, как положено, (гордый тем, что с юности запомнил эту фразу), будто извозчик – вещь, предложенная ему на пробу.
Перед ним было две кнопки. Он нажал одну и ждал, когда врата раздвинутся и представят взору роскошную меблировку. Никакого отклика! Он уже принялся проверять по «Телеграфу» номер дома, но тут дверь тихо подалась назад, разоблачив фигуру пожилой особы в черном шелке, которая смерила его мрачным, недоуменным взором.
– Прошу прощенья… – залепетал он, сраженный этой мрачной строгостью.
– Комнаты желали? – она спросила.
– Да, – признался он. – Желал. Нельзя ли посмотреть?
– Зайдете, может? – сказала особа. И в унылом лице, по четкому повеленью мозга, зародилось подражание улыбке, притом удивительно ловкое подражание. Просто непонятно, и как ей удалось так натренировать свои черты.
Прайам Фарл, краснея, шагнул на турецкий ковер, и его обступил мрак собора. Он было приуныл, но турецкий ковер несколько его ободрил. Когда глаз свыкся с освещением, стало ясно, что собор наредкость узок, а вместо хоров в нем лестница, тоже покрытая турецким ковром. На нижней ступеньке покоился предмет, которого природу он разгадал не сразу.
– Надолго вам? – выговорили губы напротив.
Его ответом – ответом нервной, застенчивой натуры – было тотчас выскочить вон из дворца. Он опознал предмет на лестнице. То было помойное ведро, венчанное крученой тряпкой.
Им овладел глубокий пессимизм. Все силы его оставили. Лондон сделался враждебным, черствым, жестоким, невозможным. Ах, как же он томился сейчас по Лику!
Чай
Час спустя, по любезному совету извозчика оставя вещи Лика в камере хранения на Саут-Кенсингтон-Стейшн, он пешком добрел от старого Лондона до центрального кольца нового Лондона, где делать никому решительно нечего, кроме как дышать воздухом в парках, рисоваться в клубных окнах, разъезжать в особенных экипажах, ловко обходясь без лошадей, покупать цветы, египетские сигареты, разглядывать картины, есть и пить. Почти все дома стали выше, чем были прежде, улицы стали шире; на расстоянии ста метров один от другого подъемные краны, царапая облака, бросая вызов закону тяготения, непрестанно вздымали кирпич и мрамор в высшие слои атмосферы. На каждом углу продавали фиалки, и воздух полон был пьянящим духом денатурата. Вот наконец он оказался перед фасадом с высокой аркой, помеченной единым словом: «Чай», и за аркой увидел множество лиц, потягивавших чай; рядом была другая арка, украшенная тем же словом, и за нею потягивало чай уже большее множество лиц; потом была еще арка, и еще; а потом он вышел на круглую площадь, показавшуюся ему смутно знакомой.
– Боже правый! – сказал он сам себе. – Да это же Пиккадилли-Серкус!
И в тот же миг взгляд его различил над узкой дверью образ зеленого дерева и слова «Зеленый вяз». То был вход в помещения «Зеленого вяза», о которых так сочувственно отзывался «Телеграф». Прайам Фарл, можно сказать, был человек передовой, с гуманными идеями, и мысль о благородно воспитанных дамах, оказавшихся в нужде и отважно борющихся за существование, вместо того, чтоб гибнуть с голоду, как прежде, задела в нем рыцарскую струнку. Он решился оказать им помощь и выпить чаю в гостиной, воспетой «Телеграфом». Собрав все свое мужество, он проник в коридор, освещенный розовым электричеством, потом поднялся по розовым ступеням. Наконец его остановила розовая дверь. Она могла б скрывать ужасные, сомнительные тайны, но кратко повелевала: «Толкнуть», и он толкнул бесстрашно… Он оказался в своего рода будуаре, густо населенном столиками и стульями. Мгновенное перемещение с шумной улицы в тишь гостиной его ошеломило: он содрал с головы шляпу так, будто шляпа раскалилась добела. Кроме двух стоящих бок о бок в дальнем конце будуара тонких, высоких фигур, никто здесь не нарушал покоя столов и стульев. Прайам уже готов был промямлить извиненья и спастись бегством, но тут одна из благородных дам, вонзивши в него взгляд, его пригвоздила к месту. Он сел. Дамы возобновили свою беседу. Он украдкой огляделся. Вязы, твердо укоренясь по краям циновки, с восточной роскошью росли вдоль стен, верхние ветки расплескав по потолку. Карточка на одном стволе гласила: «Собакам вход воспрещен», и это ободряло Фарла. Погодя одна из дам величаво подплыла, мельком на него глянула. Она ни слова не сказала, но твердый, суровый взор сказал без слов: «Смотрите у меня, чтобы вести себя прилично!»
Он готов был рыцарственно улыбнуться, но улыбка скоропостижно почила на его устах.
– Чаю, пожалуйста, – сказал он едва слышно, а робкий тон его договорил: – Если, конечно, это не слишком вас обременит.
– К чаю что желаете? – спросила дама кратко и, поскольку он явно пришел в смятение, пояснила: – Булочки, кекс?
– Кекс, – ответил он, хоть с детства ненавидел кекс. Но он перепугался.
«На сей раз ты легко отделался, – говорили складки муслиновых одежд, уплывая из виду. – Но без глупостей, пока меня не будет!»
Когда, молча и сурово, она метнула перед ним заказанное угощенье, он обнаружил, что все на столе, кроме ложечек и кекса, поросло вязами.
Одолев одну чашку и ломтик кекса, установив, что чай спитой и не пригоден для питья, кекс же – создан из материала, скорей предназначавшегося для изготовления охотничьих сапог, Фарл отчасти обрел присутствие духа и вспомнил, что никакого преступления, собственно, не совершил, войдя в этот будуар, он же гостиная, и попросив еды взамен на деньги. Меж тем дамы притворялись друг перед дружкой, что его не существует; никакой другой смельчак не рисковал спастись от голода в сем девственном вязовом лесу. Фарл начал рассуждать, рассужденья скоро приняли необычайный – для него – оборот, и он украдкой заглянул в бумажник Генри Лика, (прежде ему знакомый только с внешней стороны). Несколько лет уже он думать не думал о деньгах, но обнаружив, что после уплаты за храненье багажа в брючном кармане Лика сиротствовал один-единственный соверен, он догадался, что рано или поздно придется озаботиться финансовой стороной существования.
В бумажнике оказались две банкноты по десять фунтов, пять французских банкнот по тысяче франков, и несколько мелких итальянских банкнот: все вместе составляло двести тридцать фунтов, впрочем, нашлась еще свернутая рулетка, несколько почтовых марок и фотография приятной женщины лет сорока. Сумма не показалась ни крупной, ни мелкой Прайаму Фарлу. Просто представлялась чем-то, что позволит на некий неопределенный срок выбросить из головы всякую мысль о деньгах. Он даже не потрудился подивиться, на что понадобилось Лику таскать в бумажнике доход свой за два года. Он знал, во всяком случае, определенно догадывался, что Лик мошенник. И все же он прискорбно, он цинично привязался к Лику. И мысль о том, что никогда уж Лик его не побреет, не заявит тоном, не терпящим возражений, что пора постричься, не сдаст вещей в багаж, не закажет в дальний экспресс билета, наполняла его истинной тоской. Не то чтоб он жалел Лика, не то чтоб думал, тем более шептал бы «Бедный Лик!» Всякий, кто имел удовольствие знакомства с Ликом, знал, что главным содержаньем, наполненьем жизни Лика были заботы о Лике, и где б ни очутился Лик, ясно было, что он нигде не пропадет. И потому предметом жалости Прайама Фарла оставался исключительно Прайам Фарл.
И хотя достоинство его жестоко пострадало в последние минуты на Селдом-Террас, кой с чем он мог себя поздравить. Доктор, например, жал ему руку на прощанье; жал открыто, в присутствии Дункана Фарла: лестная дань личному его обаянию. Но главным утешением для Прайама Фарла было то, что он перечеркнул себя, он больше не существовал для мира. И, если честно, утешение это даже перевешивало скорбь. Он вздохнул – с невероятным облегчением. Ибо вдруг, чудом, он освободился от угрозы леди Софии Энтвистл. Спокойно оглядываясь назад, на недавний, в общем, эпизод, связанный с леди Энтвистл в Париже – истинную причину внезапного его бегства в Лондон – он сам поражался скрытой своей способности вдруг взять и отмочить ужаснейшую глупость. Как на всех робких людей, вдруг нападали на него приступы немыслимой отваги – особенно тогда, когда хотелось угодить даме, случайно встреченной в поезде (с женщинами он вообще гораздо меньше робел). Но предложить руку и сердце потрепанной завсегдатаице отелей вроде леди Софии Энтвистл, открыть ей свое имя, позволить ей его предложение принять – это уж не лезло ни в какие ворота!
И вот он свободен, свободен, ибо он покойник!
Холод у него прошелся по хребту, когда представилась ужасная судьба, которой он избегнул. Ему, пятидесятилетнему мужчине, со своими правилами, подобно дикому оленю привыкшему к свободе, – и склонить гордую выю под солидною обувкой леди Энтвистл!
Но нет худа без добра, и была, была определенно, оборотная, приятная сторона даже в перемещенье Лика в иную сферу деятельности.
Когда он клал в карман бумажник, рука наткнулась на письмо, доставленное Лику утром. После недолгого спора с самим собой о том, имеет ли он право вскрыть письмо, он его вскрыл. Письмо гласило: «Дорогой мистер Лик, я так рада, что вы мне написали, и фоточка такая симпатичная. Зря только вы на машинке печатаете. Не знаете, как это действует на женщину, не то бы не печатали. Но все равно я рада с вами познакомиться, как вы предлагаете. Может, сходим вместе в «Маскелин и Кук» завтра вечером (в субботу)? Только знаете, это теперь не в «Эджипт-Холле». Это в «Сент-Джордж-Холле» теперь, по-моему. Но вы в «Телеграфе» поглядите; и время там указано. Я подойду, к открытию. Вы меня по фоточке узнаете; и еще у меня красные розы будут на шляпке. Покамест au revoir. Искренне ваша. Элис Чаллис. P. S. Там в «Маскелин и Куке» много темных мест. Так что попрошу вас, чтобы вели себя как джентльмен. Вы уж извините, это я так, на всякий случай. Э. Ч.»
Пройдоха Лик! Хотя б отчасти, явилось объяснение крошечной пишущей машинке, которую его слуга везде таскал с собой, а теперь Прайам оставил на Селвуд-Террас.
Прайам бросил взгляд на фотографию, в бумажник; и, как ни странно, в «Телеграф».
Женщина с тремя детьми ворвалась в гостиную и тотчас заполнила собою все; дети, на разные голоса ликуя, орали: «Ма-а!» «Мамма!» «Ма-а-а-ма!» Когда одна из благородных дам плыла мимо него, он рискнул выговорить:
– Простите, сколько я вам должен?
Не отклоняясь от курса, она кинула на стол бумажку, и предупредила строго:
– В кассу заплатите.
Он отыскал кассу, скрытую в вязовых пущах, и тут уж увидел истинную аристократку – и даже не в муслине. Те, другие, были графские дочери, но эта – наследная княгиня в наряде для коктейля.
Он выложил соверен Лика.
– Помельче не нашли? – отрезала княгиня.
– Да, к сожалению, простите, – промямлил он в ответ.
Она брезгливо взяла соверен, повертела.
– Теперь с этим возись, – припечатала она.
Потом отперла один ящичек, другой, скрепя сердце, отсчитала восемнадцать шиллингов и шестипенсовик, и отдала все это Прайаму Фарлу, не глянув на него, не проронив ни слова.
– Благодарю вас, – сказал он, засовывая сдачу в карман.
И под крики «Ма-ама!», «Ма-а-а!», «Ма-а-ма-а!» он поспешил прочь, – отринутый – без сожаленья, гордо – хрупкими, тонкими созданьями, борющимися за существование в огромном городе.







