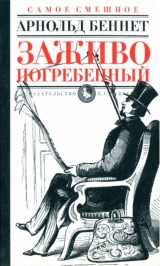
Текст книги "Заживо погребенный"
Автор книги: Арнольд Беннет
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Клуб
Прайам прежде никогда не бывал в клубе. Мое заявление вас может удивить, вы можете даже мне не поверить, но тем не менее это – сущая правда. Родину клубов он покинул еще в юности. Что же до английских клубов в иных городах Европы, они знакомы были ему по внешности, да по одобрительному лепету их приверженцев за tables d'hôte, и желание дальнейшего с ними ознакомления не было столь жарким, чтобы его сжигать. Вот он и не знал клубов.
Клуб мистера Оксфорда его встревожил, запугал – такой громадный, черный. На первый взгляд он напоминал ратушу какого-нибудь крупного промышленного города. Когда вы стоите на тротуаре перед пролетом гигантских ступеней, ведущим к первой паре вращающихся дверей, голова ваша оказывается определенно куда ниже ног существа, оглядывающего вас из-за стекла. Голова ваша куда ниже и подоконников могучих окон цокольного этажа. Потом – еще два этажа, а уж над ними выступает карниз резного камня, угрозой нависающий над вашим взором. Десятой части этой глыбы, да что там, всего осколка с краю хватило бы на то, чтоб раздавить слона. И весь фасад при этом черен, черен от вековых углеродных отложений. Мысль о том, что это здание – ратуша, используемая не по назначению, постепенно покидает вас, пока вы смотрите. Вы понимаете нелепость этой мысли. Вы ощущаете, что клуб мистера Оксфорда – памятник, реликт, остаток тех веков, когда ходили по земле гиганты, и он, неповрежденный, дошел до нас, пигмеев, старающихся его приспособить. Единственным потомком гигантов был, по-видимому, страж за дверью. Когда мистер Оксфорд и Прайам вскарабкались к дверям, этот единственный гигант с гигантской силой распахнул гигантскую дверь, они вошли, и дверь захлопнулась за ними, заметно всколыхнув воздух. Прайам оказался в огромном интерьере, под потолком, плывущим в дальней, дальней вышине, как небеса. Он смотрел, как мистер Оксфорд расписывается в гигантском томе под гигантскими часами. Покончив с этой процедурой, мистер Оксфорд, пройдя мимо бескрайних перспектив справа и слева, ввел его в очень длинную залу, обе длинных стены которой были утыканы несчетными огромными крюками – то там, то сям висело на крюке пальто, висел цилиндр. Мистер Оксфорд выбрал два крюка в этом пространстве, и когда они с Прайамом достаточно разоблачились, ввел его в еще другой огромнейший покой, по-видимому призванный напоминать о банях Каракаллы. Над гигантской чашей, выдолбленной из цельного гранита, Прайам почистил ногти такой громадной щеткой для ногтей, каких прежде не видывал даже и в ночных кошмарах, а служитель почистил его орудием, напоминавшим грозное оружие, некогда служившее Анаку[16]16
Анаки (Еноки) – древние гиганты, жившие в горах Палестины. См. Второзаконие, 1, 18: «…народ сей более и выше нас… да и сынов Еноковых видели мы там».
[Закрыть].
– Сразу отправимся к столу, – осведомился мистер Оксфорд, – или желаете сначала джина с агностурой?
Джин с ангостурой Прайам отклонил, и по впечатляющей лестнице темного мрамора, потом через другие апартаменты, они вошли в столовую, которую можно было успешно использовать для выездки лошадей. Здесь вы видели шесть гигантских окон в ряд, и на каждом занавес пышными каскадами стекал из незримости в зримость. Потолок тоже, вероятно, существовал. На каждой стене висели гигантские картины в тяжелых, узорных рамах, а в простенках стояли на базальтовых колоннах героические мраморные бюсты. Стулья нельзя бы было сдвинуть с места, если б не могучие ролики, но рядом со столами они казались изящными безделушками. В одном конце столовой стоял буфет, который не дрогнул бы под цельной бычьей тушей, в другом конце – пламя, над которым можно бы поджарить эту тушу в её целостности, плясало под каминною доской, до которой не дотянулся бы локтями Голиаф.
И – торжественная тишина. Полы, покрытые пушистыми коврами, глушили все шаги. Нигде ни звука. Звук, сам по себе, повидимому, здесь не поощрялся. Прайам уже прошел через широкий вход в освещенную залу, где все стены огромными буквами предупреждают: «Тихо!» И он заметил, что все кресла и диваны здесь пышны и обиты мягкой кожей, так что, сидя в них, вам не удастся произвести даже и самомалейший скрип, как ни старайтесь. На первый взгляд казалось, что здесь никого нет, но, приглядевшись повнимательней, вы замечали, что зала кишит лилипутиками, что они ходят, сидят в креслах, задуманных, очевидно, каждое для троих. Эти лилипуты были члены клуба, обращаемые в кукол его громадностью. Странная, мрачная порода! Повидимому, они достигли последних стадий разложенья, ибо повсюду, где могли они преклонить головы, было протянуто белое сукно, чтоб, не дай Бог, они не осквернили тех мест, которые освящены касанием могучих затылков, уж давно почивших. Редко они вступали в разговор друг с другом, только обменивались взорами, полными недоверья и вражды; а если вдруг случалось им заговорить, была в их тоне одна усталая брюзгливость. Впрочем, они довольно смутно различали один другого в унылом сумраке, – сумраке, на который не оказывал почти никакого действия желтоватый свет электрических ламп в огромных люстрах. Все заведение было погребено в прошедшем, погружено в сон о титаническом былом, когда, конечно, жили те великаны, которые могли собой заполнить эти кресла и покоить ноги на этих каминных решетках.
И в этой обстановке мистер Оксфорд потчевал Прайама, кормил-поил с обыкновенных крошечных тарелок, из самых обыкновенных мизерных бокалов. На вполне современное угощенье, отменное притом, памятная история клуба не наложила никакого отпечатка – разве что стилтоновский сыр как будто изготовили в гомерову цветущую эпоху и ввел его в употребленье сам Улисс. Едва ли следует упоминать, что все это вместе взятое произвело на Прайама самое гнетущее впечатление. (Но как, как мог дипломатичный мистер Оксфорд догадаться, что Прайам никогда в жизни не бывал в клубе?) Он впал в безмолвную тоску и отдал бы гигантскую сумму, такую же гигантскую, как этот клуб – да самый чек бы отдал, лежавший у него в кармане – за то, чтоб так и не встретить на своем пути мистера Оксфорда. Он был чересчур чувствителен для клубов, а настроений его никогда нельзя было предвидеть. Мистер Оксфорд не сумел предвидеть, какое действие окажет на Прайама этот клуб. Скоро он и сам понял свою ошибку.
– А не выпить ли нам кофейку в курительной? – предложил мистер Оксфорд.
Людная курительная была той частью клуба, где не считался преступлением обычный, не приглушенный разговор. Мистер Оксфорд нашел свободный от лилипутов уголок, там они расположились, и сигары, ликеры сопутствовали кофею. Здесь вы то и дело наблюдали, как карлики откровенно хохочут в волнах дыма; еще чуть-чуть, и гомон мог обратиться в гвалт; время от времени некий малютка входил и, надрывая горло, выкликал имя какого-нибудь карлика. Вдруг Прайам ободрился, и зоркий мистер Оксфорд тотчас это заприметил.
Мистер Оксфорд поскорей заглотнул свой кофий, потом перегнулся через стол, приблизил свою физиономию к лицу Прайама, пристроил поудобней ноги под столом, выдохнул внушительное облако дыма из своей сигары. То была явная прелюдия к разговору по душам; близилась развязка, к которой уже несколько часов он вел.
У Прайама упало сердце.
– Каково ваше мнение, мэтр, – осведомился мистер Оксфорд, – сколько максимум могут стоить полотна Фарла?
Прайам терзался. Мистер Оксфорд был само внимание, любезность, и он ждал ответа. Но Прайам не знал, что тут сказать. Он только знал, что бы он сделал, достань у него на это храбрости: без церемоний, без оглядки кинулся бы вон из этого клуба.
– Я… я не знаю, – промямлил Прайам, заметно побледнев.
– Потому что в свое время я порядком поднакупил Фарлов, – продолжал мистер Оксфорд, – и, должен признаться, недурно сбыл. Одну только картину себе оставил, которую утром вам показывал. Вот я и думаю: попридержать, пока цена еще подскочит, или же прямо сейчас сбагрить.
– И за сколько бы вы могли ее сбагрить? – бормотнул Прайам.
– А что? Не буду от вас скрывать, – ответил мистер Оксфорд, – да вот, пожалуй, что и за пару тысяч. Она, конечно, размера не то чтобы большого, но это один из самых лучших Фарлов, какие есть в природе.
– Я бы продал, – пролепетал Прайам едва слышно.
– Продали бы, а? Что ж, очень возможно, вы и правы. Вот ведь меня какой вопрос волнует: а вдруг вот-вот объявится другой художник, который такие вещи будет делать лучше даже, чем сам Фарл? По-моему, такая возможность не исключена. Объявляется умнейший, знаете ли, ловкий малый, и подделывает Фарла так, что только такие люди, как вы, мэтр, ну, может быть, как я, заметят разницу. Такую работу можно ведь великолепнейшим образом подделать, была бы ловкость рук, а, как по-вашему?
– О чем вы? – спросил Фарл, похолодев.
– Ну, мало ли, – загадочно ответил мистер Оксфорд, – всякое бывает. Можно подделать стиль, и затопить рынок полотнами, в общем и целом, буквально как у Фарла. Долгое время никто и в ус не будет дуть, ну, а потом – полное смятенье в публике и обвал цен, как результат. И самая-то прелесть в чем? А в том, что публике, ей от всего этого ни горячо, ни холодно. Потому что ведь подделка, которую никто не может отличить от оригинала, она, конечно, и не хуже оригинала, вот ведь как. Понимаете? Тут же такие колоссальные возможности, если, конечно, кто-то их сумеет ухватить! Вот почему я почти готов последовать вашему совету и продать своего последнего Фарла.
Он улыбался все более и более интимно. Взгляд его что-то такое в себе таил. Будто что-то такое внушал Прайаму, что не выразишь словами. На ясном лице было выражение, присущее в подобных случаях подобным лицам, и в нем читалось: мы-то мол с вами знаем, что не существует ни добра, ни худа, – по крайней мере, многие вещи, которые обычный раб условностей считает злом, на самом-то деле суть добро. Так Прайам истолковал это выражение лица.
«Вот грязный негодяй, он ведь хочет, чтоб я для него подделывал самого себя! – подумал Прайам, скрывая вдруг накатившую ярость, – он с самого начала знал, что никакой нет разницы между тем, что я ему продал, и тем, что у него уже висит. Намекает, дрянь, на то, что мы поладим. А до сих пор играл со мною в кошки-мышки!»
Вслух он сказал:
– Не знаю, могу ли вообще вам что-нибудь советовать. Я не умею продавать картины, мистер Оксфорд.
Это было сказано таким враждебным тоном, который должен бы навек лишить мистера Оксфорда дара речи, но нет, нисколько не лишил. Мистер Оксфорд вильнул, как конькобежец, выделывающий новую петлю, и начал разливаться о достоинствах пейзажа Вольтерры. Он разобрал его по косточкам, притом так тонко, верно, будто картина сейчас у него перед глазами. Прайам подивился этой точности. «А понимает кое-что, подлец!» – мрачно размышлял Прайам.
– Вы не находите, что я тут перехваливаю, а, cher maître? – заключил мистер Оксфорд, улыбаясь.
– Слегка, – сказал Прайам.
Если б только он мог убежать! Но он не мог. Мистер Оксфорд его буквально загнал в угол. Никакой надежды на избавление! К тому ж он толстый, ему за пятьдесят.
– А-а! Так я и знал, что вы это скажете! А теперь – не будете ли вы так добреньки, не сообщите ли, в какой период вы её писали? – спросил мистер Оксфорд, эдак небрежно, но так сжал кулаки, что побелели костяшки пальцев.
Вот она, развязка, вот куда мистер Оксфорд все время гнул! Все время зубастая улыбка мистера Оксфорда скрывала знание о том, кто такой Прайам!
Глава X
Тайна
– О чем вы толкуете? – спросил Прайам Фарл. Но вопрос прозвучал неубедительно, с таким же успехом он мог сказать: «Я знаю, о чем вы толкуете, и отдал бы миллион фунтов, ну, около того, чтобы мне только провалиться сквозь этот пол». Несколько минут тому назад он готов был отдать пятьсот фунтов, ну, около того, чтоб просто отсюда убежать. Теперь он уже хотел, чтобы с ним произошло чудо Мэсклина[17]17
Мэсклин, Невил (1732–1811) – английский астроном. Директор Гринвичской обсерватории. Исследовал прохождение светил, плотность земли.
[Закрыть]. Вселенная как будто рушилась вокруг Прайама Фарла.
Мистер Оксфорд все улыбался, правда так, как когда вы сдерживаете дыханье на пари. Вы чувствуете, что силы ваши на исходе.
– Вы Прайам Фарл, правильно? – тихо, очень тихо спросил мистер Оксфорд.
– С чего вы взяли, что я Прайам Фарл?
– Я считаю, что вы Прайам Фарл, потому что вы написали ту картину, которую я купил у вас сегодня утром, а я уверен, что никто кроме Прайама Фарла написать ее не мог.
– Значит, вы с самого утра со мной играли в кошки-мышки?
– Ну, зачем же так, cher maître, – шепотом урезонивал его мистер Оксфорд, – просто должен же я был нащупать почву. Прайам Фарл, считается, похоронен в Вестминстерском аббатстве, естественно, я это знаю. Но лично для меня наличие в природе картины «Главная улица Патни», притом явно только что написанной, абсолютно точно доказывает, что он отнюдь не похоронен в Вестмистерском аббатстве, а живет себе и поживает. Непонятная вещь, поразительная вещь, как могла произойти столь дикая ошибка на похоронах, совершенно поразительная вещь, и влечет за собой самые немыслимые последствия! Но это дело не мое. Естественно, для того, что произошло, были какие-то солидные причины! Меня это не волнует, меня это не касается – то есть профессионально не касается. Просто я заявляю, когда вижу картину, на которой еще краска не обсохла: «Эта картина написана таким-то художником. Я эксперт, тут я ставлю на карту свою репутацию». И, пожалуйста, только не надо мне рассказывать, что данный художник умер несколько лет тому назад и с национальными почестями похоронен в Вестминстерском аббатстве. Не надо. Не может такого быть. Я эксперт. И если факты о смерти и похоронах не вяжутся с моими выводами об авторстве картины, так я вам скажу: тем хуже для фактов. Я скажу: ну, значит… э-э… произошло какое-то недоразумение насчет… э-э… трупов. Ну как, cher maître, как вам мое рассуждение? – мистер Оксфорд легонько барабанил пальцами по столу.
– Не знаю, – сказал Прайам. Что было новой ложью.
– Вы – Прайам Фарл? – не отставал мистер Оксфорд.
– Ну, если вам так угодно, – свирепо рыкнул Прайам, – да, да. И теперь вы знаете.
Мистер Оксфорд отпустил свою улыбку. Он невероятно долго ее удерживал. Он отпустил ее, и глубоко, с облегчением, вздохнул. Он бежал на коньках по тончайшему льду, обегая грозные полыньи, и вот достиг безопасного берега, и только сейчас начал понимать, какой опасности бросал он вызов. Он совершенно был уверен, что разбирается в картинах. Но когда ты говоришь, что совершенно уверен, особенно, когда говоришь с вызовом, с нажимом, за этим всегда кроется: «не совсем уверен». Так было и с мистером Оксфордом. И впрямь, – исходя из существования всего-навсего какой-то там картины, доказывать, что кошмарнейшим образом успешно обморочили самую поразительную нацию на свете – да тут не просто неосторожность нужна со стороны доказывающего.
– Но я не хочу, чтоб это дальше шло, – так же свирепо шепнул Прайам, – и хватит об этом.
– Естественно, – сказал мистер Оксфорд, но тону его не доставало убежденности.
– Это одного меня касается, – сказал Прайам.
– Естественно, – повторил мистер Оксфорд, – по крайней мере должно бы вас одного касаться. И стоит ли говорить, что уж кто-кто, а я никогда бы не стал соваться, но…
– Прошу вас вспомнить, – перебил Прайам, – что вы эту картину купили сегодня утром просто в качестве картины, за ее достоинства. Вас никто не уполномочил связывать с нею мое имя, и я должен вас просить оставить имя мое в покое.
– Безусловно, – согласился мистер Оксфорд. – Я купил ее в качестве шедевра и вполне доволен своим приобретением. Подпись мне не нужна.
– Я последние двадцать лет не подписывал своих картин, – сказал Прайам.
– Прошу меня извинить, – возразил мистер Оксфорд, – но каждый квадратный сантиметр каждой вашей картины подписан, очень даже подписан. Вы кистью не можете холста коснуться, и чтоб его не подписать. Только величайшим художникам дается свыше право не ставить буковок в углу картин, чтобы потом их не присвоил какой-нибудь другой художник. По мне, так все ваши картины подписаны. Но кое-кому требуются иные доказательства, кроме точного знания и тонкого вкуса, и вот тут-то могут возникнуть неприятности.
– Неприятности? – отозвался Прайам в остром приступе тоски.
– Да, – подтвердил мистер Оксфорд. – Мой долг – поставить вас в известность, а вы уж постарайтесь понять сложившееся положение. – Он вдруг стал важен и серьезен, всем своим видом показывая, что дошел до самой сути. – Тут приходит ко мне недавно человек один, так, мелкий торгаш, предлагает картину, и я сразу узнаю: картина ваша. Я ее купил.
– И сколько вы за нее заплатили? – прошипел Прайам.
Помолчав, мистер Оксфорд ответил:
– Что ж, не возражаю, назову вам цифру. Я за нее заплатил пятьдесят фунтов.
– Да ну? – вскричал Прайам, смекнув, что некое лицо, или лица нажили на его работе четыреста процентов. – И кто же этот тип?
– А-а, да так, мелкий торгаш. Никто. Еврей, конечно, – мистер Оксфорд произнес это «еврей» с неподражаемой иронией. Прайам прикинул, что, будучи евреем, тот торговец, повидимому, не его рамочник, ибо тот – чистокровный йоркширец из Ревенсторпа. Мистер Оксфорд продолжал: – Я продал ту картину и удостоверил, что это Прайам Фарл.
– Скажите!
– Да. Я вполне полагался на свое суждение.
– И кто купил?
– Уитни Си Уитт, из Нью-Йорка. Теперь-то он, конечно, постарел. Да вы его, наверно, помните, cher maître, – мистер Оксфорд сверкнул глазами. – Я продал ему эту картину, и он, конечно, положился на мою гарантию. Скоро мне предложили еще картины, тоже безусловно ваши, тот же человек мне предложил. И я их продал. Я продолжал их покупать. Не скрою, сорок картин купил в общей сложности.
– А этот мелкий торгаш – он догадывался, чьи это картины? – насторожился Прайам.
– Он-то? Да догадайся он, стал бы он их сбывать по пятьдесят фунтов штука? Понимаете, сначала я считал, что покупаю вещи, писаные вами до вашей, так сказать, кончины. Я ж, как все, считал, что вы… э-э… в аббатстве. Потом-то мне в душу закрались некоторые сомненья. И вот, в один прекрасный день, у меня на пальце остается немножечко краски, и тут уж, скажу я вам, я беспокоюсь не на шутку. Однако остаюсь при своем мнении и продолжаю гарантировать, что это – картины Фарла.
– И вам не приходило в голову навести справки?
– Приходило, ну как же, приходило, – вздохнул мистер Оксфорд. – Я уж и так и сяк старался выведать у этого еврея, откуда он берет картины, а он – ни в какую. Н-да-с, тут я почуял тайну. Ну, а зачем мне тайны, они мне ни к чему, из них шубу не сошьешь, и я решил, что бог с ней с этой тайной. Такой линии и придерживался.
– И что же вам мешало придерживаться ее и дальше? – вскинулся Прайам.
– Да вот, обстоятельства и помешали. Я, собственно, все картины продавал Уитни Си Уитту. Что ж, и отлично. По крайней мере, мне казалось, что все отлично. Я ручался именем и репутацией Парфиттов, что картины ваши. И вот в один прекрасный день я узнаю от мистера Уитта, что оборотная сторона холста проштемпелевана, и на резиновом штемпеле значится имя изготовителя холста и дата, притом дата – после ваших, так сказать, похорон, ну, и лондонские торговые агенты навели справки у тех, кто продает художникам краски и холсты, и те готовы свидетельствовать, что холст этот был выделан уже после похорон Прайама Фарла. Схватываете, в чем заковыка?
Прайам схватывал.
– Моя репутация, репутация Парфиттов поставлена на карту. Если эти картины не ваши – значит, я жулик. Имя Парфиттов загублено навеки, и поднимается такой скандал, каких свет еще не видывал! Уитт грозится предъявить иск. Я предложил забрать обратно все картины по той же цене, которую он заплатил, и – без вычета комиссионных. Не хочет! Старик, сами понимаете, немножечко gaga[18]18
Впал в детство (фр.).
[Закрыть], наверно. Вот и не хочет. Бушует. Его, видите ли, обвели вокруг пальца, он, мол, этого так не оставит. Пришлось ему доказывать, что картины ваши. Пришлось представить ему основания, на которых я давал свои гарантии. Короче говоря – я разыскал вас!
Снова он вздохнул.
– Послушайте, – сказал Прайам. – И сколько в целом заплатил вам Уитт за мои картины?
Мистер Оксфорд помолчал, потом ответил:
– Что ж, не возражаю, назову вам цифру. Он заплатил мне семьдесят две тысячи фунтов с мелочишкой, – он улыбнулся, как бы оправдываясь.
Прайам сообразил, что те четыреста фунтов, которые он получил за свои картины, составляют куда меньше одного процента от того, что получил за них в конце концов лощеный, процветающий делец, и традиционный гнев художника против дельца – производителя против паразита-посредника – вспыхнул в его сердце. До сих пор он не имел серьезных оснований жаловаться на своих агентов. (Исключительно успешные художники редко их имеют). Теперь же он видел в торговцах картинами то, что видят в них обыкновенные художники, – порожденье всяческого зла! Теперь он понял, откуда у мистера Оксфорда шикарный автомобиль, оснастка, клуб, красотки! Все это заработано не мистером Оксфордом, а для мистера Оксфорда, в жалких мастерских, да что! на чердаках, трудолюбивыми, обтрепанными художниками! Мистер Оксфорд – наглый вор, мерзкий угнетатель гениев! Мистер Оксфорд, одним словом, – чертово отродье, и Прайам молча, но очень искренне, послал его на подобающее ему место.
Все это ужасно было несправедливо со стороны Прайама. Никто не просил Прайама умирать. Никто не просил его отрекаться от себя. И в том, что начиная с известного времени, он получал десятки вместо тысяч фунтов за свои картины, – исключительно его собственная вина. Мистер Оксфорд просто покупал и просто продавал; такая уж работа. Но грех мистера Оксфорда в глазах Прайама был тот, что мистер Оксфорд был перед ним ни в чем не грешен. Даже при меньшей проницательности, чем та, какой обладал мистер Оксфорд, можно было заметить, что Прайам весьма нелестно оценил его последнее сообщение.
– Для нас обоих, – завел мистер Оксфорд вкрадчиво, – было бы, конечно, лучше, если бы вы дали мне такую возможность доказать мистеру Уитту, что гарантии мои – не ложные гарантии.
– Почему это – для нас обоих?
– Потому что… ну… я с восторгом заплатил бы вам, скажем, тридцать шесть тысяч фунтов в знак признательности за… – он осекся.
Возможно, он тотчас сообразил, какую жуткую он совершил бестактность. Или уж ничего не следовало предлагать, или уж всю сумму, которую он получил, за вычетом небольших комиссионных. Предложить Прайаму ровно половину – был непроизвольный порыв, роковая глупость со стороны природного дельца. А мистер Оксфорд был прирожденный делец.
– Я у вас ни пенни не возьму, – отрезал Прайам. – Ничем не могу вам быть полезен. Мне, кажется, пора. Я и так опаздываю.
Неудержимая холодная ярость как подтолкнула его в спину, и, грубо презрев все обольщенья клуба, он встал из-за стола. Мистер Оксфорд, все более и более делаясь дельцом, встал тоже и проследовал за ним, прямо-таки провел его к гигантской гардеробной, что-то заискивающе, подобострастно, шепча Прайаму в ухо.
– Будет разбирательство в суде, – объявил мистер Оксфорд уже в огромном холле, – и ваши свидетельские показания мне будут прямо-таки необходимы.
– И слушать не желаю. До свиданья!
Гигант у двери едва успел распахнуть ее для Прайама. Прайам бежал – бежал, и его преследовал кошмар: виденье людного суда. Невыразимая мука! Он посылал мистера Оксфорда в преисподнюю и даже ниже, и клялся, что палец о палец не ударит, чтобы спасти мистера Оксфорда от пожизненных каторжных работ.







