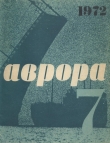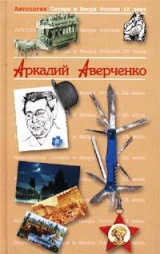
Текст книги "Антология Сатиры и Юмора России XX века"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 48 страниц)
– Придется принять. Посоветую ему что-нибудь.
– Что же, например?
– А это зависит от случая. Может быть, просто дать денег на «Сатирикон».
– Все-таки следовало бы отнестись серьезнее к этому делу, – сказал один из тяжелодумов, которые водятся даже в редакциях юмористических журналов. – Человек идет к вам душу выворачивать, так высмеивать его грех.
– С чего вы взяли, что я буду его высмеивать? – с достоинством ответил Аверченко. – Я намерен именно отнестись вполне серьезно.
– Вот это было бы интересно послушать, – сказала я.
– Отлично. Приходите в редакцию к четырем часам. Будете присутствовать при разговоре и потом можете засвидетельствовать мое серьезное отношение к делу.
– Да ведь он, пожалуй, не согласится открывать при мне свою душу.
– А уж это я берусь уладить.
На другой день ровно в четыре часа в редакторский кабинет всунул голову рассыльный и доложил:
– Господин пришел.
Я сидела в углу за столом и была «погружена в чтение рукописей». Аверченко сидел в кресле у другого стола.
– Пусть войдет.
Вошел пожилой человек с рыжеватой бородкой, в руках форменная фуражка с кантиками – кажется, акцизного ведомства.
– Я вам писал, – начал он плаксивым тоном.
– Да-да, – отвечал Аверченко. – Я готов вас выслушать.
– Но я… я хочу наедине.
– Можете не стесняться, – перебил его Аверченко. – Эта дама – моя секретарша.
– Я не могу, у меня дело личное.
– Ах, чудак вы эдакий! Да ведь она глухонемая. Разве вы не видите? Ну-с, приступим к делу. На что вы жалуетесь? – спросил он тоном врача по внутренним болезням.
– Я жалуюсь, увы, на жену! Это остро психологический случай. Женат я два года на младшей дочери протоиерея. И вот особа эта, забыв сан своего отца, ведет себя крайне легкомысленно. С утра поет, приплясывает и даже, видите ли, свистит.
– С утра? – мрачно сдвинул брови Аверченко.
– С утра. С утра до вечера. Бегает в кинематограф, в оперетку, и все с мальчишками, все с мальчишками. Треплет, одним словом, мое имя.
– А как ваше имя? – деловито осведомился Аверченко.
– Балюстрадов.
– Гм… Действительно, это не годится его трепать.
– Я человек занятой, у меня служба. Я просил племянника, студента, присмотреть за ней. А она его потащила на каток, да оба и пропали до вечера! Укажите мне, где здесь справедливость и где здесь выход?
– Так вы говорите – потащила племянника на каток? – переспросил Аверченко и покачал головой. – Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Куда мы идем! Ведь эдак недолго расшатать окончательно семейные устои, на которых зиждется государство. Это все ужасно. А скажите, она хорошенькая, ваша жена? Или, чтоб вам было понятнее, обладает ли она внешней красивостью?
– Д-да! – горестно выдавил из себя чиновник. – Этим делом она вполне обладает.
– Брюнетка? – очень строго спросил Аверченко.
– Д-да!
– Скольких лет?
– Двадцати двух.
– Это уж форменное безобразие! Ну и что же вы намерены делать?
– Вся надежда на вас, господин Аверченко. Вы учитель жизни, вы читаете в душах, вы все можете.
– Пожалуй, я действительно кое-что смог бы. Вот что, дорогой мой, пришлите-ка вы ее ко мне. Я ее хорошенько проберу. В самом деле – что же это такое! Куда мы идем! Какой пример! Действительно, тяжелая картина! Непременно пришлите ее ко мне. Может быть, еще не поздно.
Балюстрадов восторженно привскочил.
– Я знал, что в вас я не ошибусь! – воскликнул он. – Завтра же виновница торжества – впрочем, какое уж тут торжество! – завтра же она будет у вас. Я ее заставлю. Спасибо, спасибо, вечное спасибо! Низко кланяюсь. Объясните вашей глухонемой, чтоб она никому ничего.
Через несколько дней встречаю Аверченко:
– Ну что, прислал вам этот чудак свою жену?
Он сначала притворился, будто не понимает, о ком я говорю. Потом ответил неохотно:
– Да, да. Вполне порядочная женщина. И очень серьезная. Мне удалось на нее повлиять, и она обещала, что больше с мальчишками на каток бегать не станет.
– Чудеса! Значит, муж ее оклеветал?
– То есть это все было, но теперь она изменилась.
– Муж доволен?
– Гм… он, чудак, почему-то уверен, что она по-прежнему не сидит дома. Вообще, это очень тяжелый случай и придется еще немало поработать.
– Хорошенькая?
– Недурна. И главное, вполне почтенная женщина. Очень такая любящая, привязчивая, постоянная. Может каждый день за завтраком есть баранью котлетку. Нет, вы не смейтесь, это тоже своего рода признак устойчивой натуры. Вообще достойна всякого уважения.
Недели через полторы, как-то в один из вторников – день, когда я принимала своих друзей, – явилась ко мне какая-то робкая, но пламенная «почитательница таланта».
Это была маленькая франтиха, довольно хорошенькая, но с чересчур большими густо-розовыми щеками.
Она поднесла мне букет фиалок, пролепетала что-то лестное, потом долго сидела молча и только облизывалась, как кот. В руках она держала большую горностаевую муфту, из которой все время что-то сыпалось – флакончики, коробочки, платок, кошелек, карандашик. И она каждый раз всплескивала руками и бросалась подбирать. Вообще дамочка, видимо, нервничала. Смотрела на часы, вертелась, отвечала невпопад.
«Чего она засела?» – удивлялась я. Никого из моих гостей она не знала, в общем разговоре участия принять не могла, а меж тем сидит и сидит. Что бы это могло значить?
Гости стали расходиться. Остались двое-трое близких друзей. Наконец прощаются и они. А та все сидит. Как ее выкурить?
Я вышла в переднюю проводить последних гостей.
– Что это за особа? – спрашивают они.
– Не знаю. Какая-то читательница.
– Чего ж она не уходит?
– Не знаю.
– Да гоните ее вон!
– Да как?
– А вот как, – придумала моя приятельница. – Иди в гостиную, а я тебя позову.
Я пошла в гостиную, и тотчас моя приятельница появилась в дверях и громко крикнула:
– Так переодевайся же скорее, мы будем ждать тебя у Контана. Пожалуйста, поторопись.
– Хорошо, хорошо, – ответила я.
Тогда наконец поднялась моя бедная упорная гостья.
– До свиданья, – растерянно пролепетала она.
– Ах, я очень жалею, что должна торопиться, – светским тоном ответила я. – Надеюсь, когда-нибудь вы еще доставите мне удовольствие, мадам… мадам…
– Балюстрадова, – подсказала дама и облизнулась, как кот.
И в тот же миг влетел в комнату запыхавшийся журналист «Петербургской газеты»:
– Ради бога, умоляю! Всего два слова для нашей газеты. Я был уже два раза и все не заставал! Клянусь, только два слова.
Пока он суетился, Балюстрадова успела уйти. Беседу с журналистом прервала горничная, передав мне огромную коробку и письмо, принесенные посыльным.
И то и другое оказалось от Аверченко. В коробке – ливонские вишни от Иванова, в письме – загадка: «В отчаянье, что так и не успел забежать к вам сегодня – задержали в типографии».
Это вступление очень удивило меня. Аверченко никогда не бывал на этаких вторниках, и я совсем его и не ждала.
Читаю дальше:
«Целую ваши ручки и по-товарищески очень прошу передать тем, кто у вас сидит, что я целую их ручки и умоляю их сказать мне поскорее по телефону, как они к этому отнеслись».
«Эге! – думаю. – Это, значит, было условленное свидание с обращенной на путь истины Балюстрадовой. Ну так подожди же».
– Это письмо от Аверченко, – сказала я репортеру. – И, признаюсь, очень странное письмо. Наверное, оно и вас удивит. Аверченко просит меня передать вам, что он целует ваши ручки и умоляет, чтобы вы поскорее сказали ему по телефону, как вы к этому относитесь.
– Это… это… – растерялся репортер. – Это форменное декадентство. Боже мой! Боже мой! Что же мне теперь делать?
– А уж это ваше дело, – холодно сказала я.
И с чувством исполненного долга принялась за конфеты. Ведь он же не назвал Балюстрадову, а написал: «тем, кто у вас сидит».
А сидел репортер.
Не знаю, чем это дело кончилось, но до сих пор считаю, что поступила правильно и по-товарищески.
Петр Пильский
Аверченко приехал к нам три года тому назад. Это было в феврале 1923 года. Вместе с актером Искольдовым и его женой, актрисой Раич, он совершал театральное турне: ставил свои пьесы, сам в них играл, со сцены читались его рассказы. Вечера проходили с успехом. Почти тотчас же по приезде он пришел в редакцию. Мы встретились после многих лет разлуки, не видав друг друга более пяти лет. Аверченко был все тот же.
Ах, конечно, я говорю не о человеке, не о друге, не о писателе. Тут не могло быть никаких неожиданностей, никаких превращений и утрат. Но и внешне он оставался таким же, каким я знал его семнадцать длинных лет.
Между прочим, за весь этот период судьбе было угодно сводить нас в самых неожиданных местах. В 1909 году я попал в Харьков, туда приехал Аверченко. Потом, через несколько лет, мне пришлось пожить в Киеве, и тут опять произошла наша встреча. Через некоторое время мы снова сидели в его номере в одесской «Лондонской» гостинице. Затем я жил в Москве, но судьба занесла Аверченко ко мне и сюда.
Теперь последнее свидание произошло уже в Ревеле, и опять все дни его пребывания здесь мы провели, не разлучаясь, вместе.
Ни выражение лица, ни общий тон речи и отношение к жизни, ни доверчивая искренность, ни веселый, чуть-чуть лукавый смех, ни его льющееся остроумие – ничего не утратили в своем прежнем облике и своей светлой красоте.
Эта неделя мне особенно памятна. Ему Ревель понравился. Его прельщала старина, эти узкие улицы, древние здания, ратуша, люди. Но и ревельцы сумели окружить его лаской, теплом и любовью. Аверченко приглашали наперерыв.
Потом, когда он уехал, о нем долго и много вспоминали, и я часто получал поручения посылать ему поклоны и приветы в письмах, и однажды две милые дамы приказали мне передать ему «поцелуй в лоб». Я ему об этом написал. В своем юмористическом ответе (все его письма ко мне носят юмористический характер) он выражал недоумение:
– «Ты пишешь: „Н. и Н. целуют тебя в лоб“ (?!)… Милые старомодные чудачки! Не могли найти другого места. О, как они выгодно выделяются на нашем разнузданном фоне» и т. д.
Мой глаз приятно подмечал в Аверченко ту мягкую естественную, природную воспитанность, которая дается только чутким и умным людям. Его очарование в обществе было несравнимо. Он умел держать себя в новой и незнакомой среде легко, в меру свободно, неизменно находчивый, внимательный, ясный, равный и ровный со всеми и для всех. Это большое искусство, им может владеть только талантливая душа, и Аверченке был дан дар пленительного шарма. Он покорял. Но рядом с этой веселостью, внешней жизнерадостностью теперь в его отношение к людям вплелась еще одна заметная нить: он был внимателен и заботлив к другим. Правда, отзывчивость всегда была одной из его прелестных черт. Теперь она стала углубленной, преобразившись из готовности откликнуться в искание возможности понять, помочь и услужить. Прежде он не мог отказывать, сейчас он не мог отказать себе в удовольствии быть полезным.
Из его писем я знаю, какие хорошие воспоминания он сохранил о Ревеле. Через год я его звал сюда для общей работы в газете. Между прочим я прибавлял, что крупного аванса ему не вышлют. Он ответил мне все в том же юмористическом тоне:
«…Письмо твое я получил, но что я мог ответить, если в главном месте своего письма ты тихо и плавно сошел с ума. Будь еще около тебя ну… пощупал бы лоб, компресс приложил, что ли. А что можно сделать на расстоянии? Ты, конечно, с захватывающим интересом ждешь: что же это за место письма такое? А место это вот какое (ах, ты ли это писал?): „Разумеется, о том, чтобы выслать тебе большой аванс, не может быть и речи“. Скажи: друг ты мне или нет? Как же у тебя повернулась рука написать такое? Да где же это видано, чтобы человека с моим роскошным положением и телосложением приглашали, как полубелую кухарку?»
И заканчивал тоже юмористически:
«Эх, брат, горько мне! А получи я гарантию – да я бы к тебе на бровях дополз…»
Тогда он уже был очень недурно устроен в Праге, и все-таки это согласие перебраться в Эстонию у него было не простым словом вежливости, а действительно выражением самого искреннего желания.
И в смысле художественном, и в смысле материальном выступления Аверченко проходили с отличным успехом и завидными результатами. Он сделал несколько прекрасных сборов и в Ревеле и в Юрьеве, отовсюду унося с собой самые отрадные впечатления. Слегка, чуть-чуть его огорчила только Нарва. Ему показалось, что с его спектакля взяли слишком большой налог. И со своей обычной беззаботностью, добродушно посмеиваясь, он написал об этом фельетон, а в нем говорил:
«Все знают, что я известен своей скромностью по всему побережью. Но вместе с тем не могу удержаться, чтобы не похвастать: есть такой город, который я содержу на свой счет! Этот город – Нарва. Я приезжаю в город, привожу свою труппу, выпускаю афишу, снимаю театр, в день своего вечера играю пьесы, читаю рассказы, получаю за это деньги и потом… все деньги аккуратно вношу нарвским отцам города. На мои деньги эти отцы благоустраивают мостовые, проводят электричество, исправляют водопровод и… ах, да мало ли у города Нарвы насущных нужд! И обо всем я должен позаботиться, все оплатить. Хлопотливая штука!»
Конечно, и тут не было никакой гневности. Аверченко шутил. Нарвцы это так и поняли. Кто-то прислал оттуда ответную полемическую статью, но и она тоже была не злобной, а веселой. Редакция не поместила ее, не желая длить полемику между нашим гостем и городом, взыскавшим все же совершенно законный налог.
Во всяком случае, турне по Эстонии для него не было утомительным. Для него эта неделя прошла незаметно. Его не беспокоили, к нему не стучались, ему не надоедали. Но вообще эта новая профессия, временная профессия актера, для него была тяжела.
Всю свою жизнь Аверченко провел независимо, оставаясь вольной птицей, издатель и редактор собственного журнала, широко расходившегося, приносившего большие и легкие деньги. Как страстно ни любил Аверченко театр, крепко связанный с ним многоразличными узами автора, зрителя, друга, доля кочующего актера была не по нем и не для него.
Перед началом первого спектакля я зашел к нему в уборную. Он был почти готов к выходу и стоял перед зеркалом. На нем был чудесно сшитый фрак. Когда я ему об этом сказал, он с улыбкой, поправив свое неизменное пенсне, ответил:
– Да, все воспоминания прошлого хороши. Теперь уж такого не сшить.
И вот тут, в эти короткие минуты, оставшиеся до поднятия занавеса, он пожаловался мне на свою актерскую тяготу. Ему были неприятны эти однообразные повторения одних и тех же пьес, эти переезды, упаковки и распаковки чемоданов, номера гостиниц, афиши, хождения за визами. Особенно надоедало играть свои собственные вещи.
Последний раз мы пообедали в «Золотом льве», там же, где он остановился. Все было уже уложено. Чемоданы стояли внизу, в передней. Поезд отходил в шесть вечера.
Мы поехали на вокзал и там простились.
Смеясь, он, между прочим, сказал мне:
– Лучший некролог о тебе напишу я. – И шутливо прибавил: – Вот увидишь.
– Подожди меня хоронить, – ответил я. – Мы еще увидимся.
Но увидеться было не суждено, и некролог пришлось писать не ему обо мне, а мне о нем.
Сейчас я смотрю на его карточку. Сильная кисть правой руки, чуть-чуть собранная в полукулак, уперлась в подбородок. Сквозь пенсне без шнурка смотрят задумчивые, добрые глаза; милая голова милого человека чуть-чуть склонилась вниз. На другой стороне карточки смелая и правдивая надпись, продиктованная верным сердцем.
Библиография
Произведения Аркадия Аверченко и воспоминания о нем печатаются по следующим изданиям:
«ВЕСЕЛЫЕ УСТРИЦЫ». Юмористические рассказы. Второе издание. С.-Петербург, 1910. Издание М.Г. Корнфельда.
«КРУГИ ПО ВОДЕ». Рассказы. Издание четвертое. С.-Петербург, 1912. Издание М.Г. Корнфельда.
«О ХОРОШИХ, В СУЩНОСТИ, ЛЮДЯХ». Издание «Нового Сатирикона». СПб., 1914.
«СОРНЫЕ ТРАВЫ». СПб., 1914.
«ВОЛЧЬИ ЯМЫ». Пг., 1915.
«ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ». Пг. Издание десятое, 1916.
«ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ». Пг., 1916.
«ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ». Рассказы. Петроград, 1916.
«РАССКАЗЫ ДЛЯ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ». Пг., 1917.
«СИНЕЕ С ЗОЛОТОМ». Пг., 1917.
«ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ». Пг., 1918.
«НОВАЯ ИСТОРИЯ» (из «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, ОБРАБОТАННОЙ „САТИРИКОНОМ“»). СПб., 1910.
«НЕЧИСТАЯ СИЛА», Книга новых рассказов. Издательство «Новый Сатирикон». Севастополь, 1920.
«ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ». Париж, 1921.
«КИПЯЩИЙ КОТЕЛ». Издательство «Культура», Константинополь, 1922.
«ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО». Книгоиздательство «Север». Акц. общ. Берлин, 1923.
«СМЕШНОЕ В СТРАШНОМ». Книгоиздательство «Север», Акц. общ. «Берлин», 1920–1923.
«ДВЕНАДЦАТЬ ПОРТРЕТОВ (В ФОРМАТЕ „БУДУАР“)». Издательство «Internationale Commerciale revue». Париж – Берлин – Прага – С.-Петербург, 1923.
«ОТДЫХ НА КРАПИВЕ». Варшава, 1924.
«РАССКАЗЫ ЦИНИКА». Прага, 1925.
«ПАНТЕОН СОВЕТОВ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ» Издательство «Арбат». Берлин, 1924.
«ШУТКА МЕЦЕНАТА». Юмористический роман. Изд. «Пламя». Прага, 1925.
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. Литература русского зарубежья от А до Я. Том первый, том второй. М.: «Лаком», 2000.
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. БРИТВА В КИСЕЛЕ. Москва. Издательство «Правда», 1990.
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. ТРАВА, ПРИМЯТАЯ САПОГОМ. М.: «Дружба народов», 1991.
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО. М.: А.О. «Книга и бизнес», 1992.
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ. М.: Политиздат, 1991.
«САТИРИКОН». Антология сатиры и юмора России XX века. М.: «ЭКСМО-Пресс», 2001.
ТЭФФИ. Воспоминания. Париж, 1932.
ПЕТР ПИЛЬСКИЙ. Затуманившийся мир. Рига: Трамату «Драукс», 1929.
«СТОЛИЦА», 1990, № 1.
«ЮНОСТЬ», 1988, № 11.
«ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА». М.: «Республика», 1994.
«ЯИЧНИЦА ВСМЯТКУ». Юмористические рассказы. М.: Издатели «Британский Бизнес-Клуб». «Российский независимый институт социальных и национальных проблем», 1992.