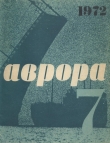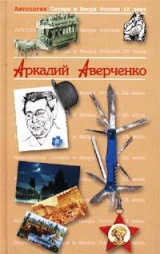
Текст книги "Антология Сатиры и Юмора России XX века"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 48 страниц)
Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что если человека, долго голодавшего или томившегося жаждой, сразу накормить до отвала или напоить до отказа – плохо кончит такой человек: выпучит глаза и, схватившись исхудалыми руками за раздутый живот, тихо отойдет в тот мир, где нет ни голодных, ни сытых.
История, случившаяся с гражданином советской республики Андрюшей Перескокиным, вполне удовлетворительно иллюстрирует это вышеприведенное бесспорное положение.
Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что долго голодавшего или жаждавшего человека надлежит откармливать или отпаивать постепенно: кусочек хлебца или мяса, глоточек воды, через час опять кусочек хлебца, глоточек воды. И эти порции усиливать только постепенно и с крайней осторожностью.
Будь моя власть, я бы на всех границах, через которые переваливают беглые советские граждане, стремясь в Белград, в Прагу и прочие места, – я бы на всех таких границах понастроил этакие предбанники, нечто вроде карантина, где беглецы подготовлялись бы к предстоящей сытой, безопасной жизни – постепенно, исподволь.
Скажем так: голодный, жаждущий, носящий на своем бренном теле шрамы от красноармейских штыков, советский федеративный бедняга с разбегу перелетел границу и ввалился прямо в мои объятия.
Такого беднягу надлежит, прежде всего, схватить за шиворот и дать два-три тумака, чтобы переход от советской жизни к обыкновенной был не так резок.
Для этой же цели надлежит потом стащить беглеца в особую казарму и там дать ему кусок белого, но черствого хлеба, сдобрив его стаканом черного, но слегка прокисшего пива.
– Ешь, собака! Пей, каналья!
Ночью рекомендуется разбудить спящего скитальца, произвести у него легкий пятиминутный обыск и ткнуть слегка штыком или прикладом в бок.
На следующий день федеративный беглец перевозится уже в более удобное помещение. Хлеб ему дается менее черствый, пиво прокисшее чуть-чуть, а вместо тычка штыком – пара снисходительных оплеух.
Когда вы заметите, что у беглеца уже появилась краска в лице и взор сделался более спокойным, а манеры самостоятельнее, рискните к мягкому белому хлебу прибавить немного жареного мяса, копченую кефаль и кусочек вареного поросенка. К этому: стаканчик казенной водки и полбутылки вкусного, свежего, пражского пива. Вместо побоев – легкий щипок или щелчок по голове, нечто среднее между болевым ощущением и игривой лаской.
На следующий день накормите беглеца супом, судаком, гусем и пирожными и, потрепав по плечу, можете уже выпустить его на свободу: вы приготовили его достаточным образом к восприятию прелестей спокойной, нормальной, сытой жизни.
Вот как нужно было делать.
А у нас в Константинополе, Белграде, Праге это дело поставлено чрезвычайно плохо… (Я говорю «у нас», потому что я теперь чувствую себя всюду у себя – Прага ли, Лондон или Мельбурн – это все мои летние виллы, в которых я спасаюсь от советской духоты…) Так вот, я и говорю – у нас дело поставлено из рук вон плохо: перескочил человек границу, почувствовал приволье и свободу, съел 10 фунтов белого хлеба, уписал поросенка и…
Впрочем, тут вполне уместно вернуться к описанию трагической истории, случившейся с Андрюшей Перескокиным…
* * *
– Андрюша, голубчик! Ты! Не чаял и видеть тебя в живых! Давно из Совдепии?
– Только сегодня, родной. Пешком в Прагу добрел, не успел еще очухаться… Фу-фу!..
– Что это у тебя в руках за свертки?
– Поросенок и бечевка для упаковки – 20 фунтов…
– Зачем это тебе?
– Замечательно дешево. Купил на всякий случай. У нас ведь в Москве бечевок совсем нет. А о поросятах даже забыли, какой он и есть. А тут за 80 крон…
– Да зачем тебе сырой? Ты бы лучше жареного купил.
– Чудак, да разве сейчас можно разбирать. Увидел: несет баба поросенка, и купил. А то еще перехватят. Угля купил два пуда. В гостинице оставил.
– А уголь тебе зачем?
– Вот оригинал! Да ведь совсем даром! А поищи-ка у нас в Москве! Эй, мальчик, что несешь? Газеты. Это не советские? Ну дай тогда десять штук. Что, одинаковые? Это, брат, неважно, зато правду всю узнаю. Все десять и прочту. Голубчик! Обойдем, пожалуйста, этот перекресток – тут нечто вроде милиционера стоит.
– Да тебе его чего ж бояться?
– А вдруг прикладом по спине треснет.
– С ума ты сошел? За что? У нас тут полиция вежливая.
– Толкуй! Эй, баба, постой! Что это, хлеб? Белый? Сколько хочешь за всю корзину? Тридцать крон. О боже! Почти пуд… Давай, милая, давай, драгоценная.
– Послушай… Ты этого хлеба и в неделю не съешь.
Но он не слушал меня. Глаза его помутнели, а руки судорожно уцепились за корзинку.
Я махнул рукой и отошел от него.
– Эй, куда ты! Стой! Можно будет у тебя сегодня переночевать?
– Да ведь ты говорил, что имеешь номер в гостинице.
– А вдруг ночью обыск? А я как назло нынче в разговоре с извозчиком осуждал советский федеративный строй… Кстати… автомобили здесь дешевы! Что ты говоришь?! Тридцать крон?! А у нас 7 миллионов за конец! Вези… Вези меня, милый!..
– Куда прикажете?
– Куда-нибудь… Главное – совсем почти даром! Хе-хе. Вези на базар: куплю сосисок, толстенькие такие у вас тут в Праге есть – куплю про запас килограммов восемь!..
И вот вчера с Перескокиным Андрюшей случилось то, чего я боялся больше всего…
Я увидел его едущим по одной из окраинных улиц Праги на возу с сеном (купил Андрюша сено очень дешево, совсем даром); в одной руке Андрюша держал жареного гуся (ошеломляющая дешевизна – сто крон!), в другой руке бутылку водки (а у нас в Совдепии за водку – расстрел!). Сидя на возу с сеном, Андрюша лихорадочно пожирал гуся, запивал водкой прямо из горлышка, а в промежутках между жевательным и глотательным процессами на всю улицу горланил «Боже, царя храни!». Увидел меня, загадочно подмигнул – и его леденящий душу хохот огласил улицу.
– Видал-миндал?! Дорвался я теперь… Гуляй душа! В гостиницу с сеном не пускают, так я теперь тово… Крейсирую! Си-иль-ный, державный ца-арствуй на славу…
– Доктора! – крикнул чей-то озабоченный голос. – Готов паренек! Скапустился.
Сняли Андрюшу с сена… Повели…
И сидит он теперь в компании Наполеона Бонапарта, стеклянного человека и человека-петуха, хлопающего над самой Андрюшиной головой ладонями и оглушительно кукарекающего…
Андрюша уже приторговался к нему… Ведь в Совдепии петухов давно не видели…
* * *
А выдержи Андрюшу в проектированном мною подготовительном карантине – ничего бы этого и не было… Нет того, чтобы позаботиться о приезжающих.
Кипящий котел
Зачем я выпускаю «Кипящий котел»?Человеческая память – очень странная машина, почти всегда действующая с перебоями…
Один юмористический философ разрешился такой нелестной для человеческой памяти сентенцией:
– Никогда не следует (говорил он) доверять человеческой памяти… Память моя сохранила одно очень яркое воспоминание: однажды в детстве я, гуляя, свалился в глубокую яму. Я это твердо помню. Но как я из этой ямы выбрался – решительно не помню… Так что, если доверяться только одной памяти – я должен был бы до сих пор сидеть в этой яме…
Нас было несколько сот тысяч человек, которые сидели в огромной яме, но с нами случилось не совсем так, как с моим философом: мы очень хорошо помним, как мы попали в яму и как из нее выбрались, но период нашего сидения (знаменитый, потрясающий период!) начал постепенно изглаживаться из нашей памяти, и – еще год-полтора – вся эта эпопея «сидения» станет бледным серым расплывчатым пятном без красок, фактов и очертаний.
Я хочу этой книгой закрепить период нашего годового кипения в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло пятки, – одним словом, я хочу, чтобы все уплывающее из нашей памяти расположилось ясными, прямыми, правдивыми строками на более прочной, чем мозг человеческий, бумаге.
Мой кипящий котел – это Крым эпохи «врангелевского сидения».
Что это за удивительный, за умилительный период: в одном котле кипели и щуки, и караси, и букашки, и таракашки, и «едоки первой категории» – и все это, кипя, ухитрялось пожирать друг друга: мелких букашек поедали караси, карасей – щуки, щук – едоки первой категории, а кипящий распад «едоков» снова поедался букашками, червячками и таракашками…
Пройдет два-три года – и до дырок будет русский человек протирать лоб, вспоминая:
– А сколько это я платил в Крыму за бутылку лимонаду? Не то 15 целковых, не то полторы тысячи? Помню, дом на Нахимовском я купил до войны за 30 тысяч… Но почему я потом за гроб для отца заплатил 800 тысяч? Как случилось, что я, имея на пальце бриллиантовое кольцо, ночевал на скамейке Приморского бульвара? Почему селедки мне заворачивали в энциклопедический словарь? А кто были наши рабочие? Большевики? Меньшевики? Как они понимали рабочий вопрос? Почему они, живя во сто раз лучше других, бастовали?
И не будет ответа! Все чудесное, курьезное, все героическое, все ироническое стерлось, как карандашная надпись резинкой…
Книгой «Кипящий котел» я все это хочу закрепить. Может быть, мои очерки иногда гиперболичны, иногда неуместно веселы, но в основе их всегда лежит факт, истина пронизывает каждую строчку своим светлым лучом – и это моя скромная заслуга перед историей.
Наши будущие дети! В заброшенной отцовской библиотеке вы найдете эту пыльную с пожелтевшими краями книгу, развернете ее – и глазенки ваши от изумления выкатятся из орбит сантиметра на два: бред сумасшедшего графомана?!
Нет, дорогие детишки! Это все правда, и мы, герои, полубоги, гомеровские отпрыски, пережили дикий «Кипящий котел» на своих многострадальных боках!..
А. Аверченко
Старый Сакс и ВертгеймНастроение плохое, с утра серый упорный дождь, и все окружающее тоже приняло серую окраску.
Сел за письменный стол с очень определенным тайным решением: свирепо ругаться.
Довольно добродушия! Решил называть все вещи их собственными именами, ставить точки над i, ломиться в открытую дверь, плакать по волосам, снявши голову, смотреть в зубы дареному коню, кусать свои локти, развалиться не в своих санях и, вообще, гнаться за двумя зайцами – может быть, поймаю обоих и тут же зарежу, каналий, и того, и другого.
* * *
Сидел недавно в театре на концерте знаменитого артиста. Гляжу – на нем старый, порыжевший фрак.
Сначала сжалось мое сердце, а потом посветлел я: будто на карточку любимой женщины в ворохе старой дряни наткнулся.
Здравствуй, старый петербургский фрак. Я знаю, тебя шил тот же чудесный петербургский маэстро Анри с Большой Морской, что шил и мне. Хорошо шивали деды в старину.
Этому фраку лет семь, и порыжел он, и побелел по швам, а все сидит так, что загляденье.
И туфли лакированные узнал я – вейсовские.
Держитесь еще, голубчики?
Видали вы виды… Сверкали вы по залитой ослепительным светом эстраде Дворянского Собрания, сверкали на эстраде Малого зала консерватории, а иногда осторожно ступали, боясь поскользнуться, на ослепительном паркете Царскосельского, Красносельского, Мраморного – много тогда было дворцов, теперь, пожалуй, половину я и перезабыл…
А нынче вы не сверкаете больше, лакированные туфли. Вы потускнели, приобрели благородный налет старины, и долго еще не заменит вас ваш хозяин другими, хотя и получает он за выход целую уйму денег: десять тысяч.
Не заменит потому, что получает он десять тысяч, а фрак и ботинки стоят двадцать, а когда он сдерет за выход двадцать тысяч – ваши новые заместители, многоуважаемый фрак и ботинки, будут стоить сорок тысяч.
Махнет рукой ваш хозяин и скажет:
– Нет, не догнать.
И будете вы все тускнеть и тускнеть, все более покрываться налетом старины, переезжая из Севастополя в Симферополь, из Симферополя в Карасубазар, из Карасубазара в какой-нибудь Армянск – ведь пить-есть надо даже гениальному человеку!
Так призадумался я, сидя в театре, потом очнулся, обвел глазами ряды, и показалось мне, что рядом со мной, и впереди и сзади, сидят два совершенно различных сорта фарфоровых статуэток…
Одни – старые, потертые, в обветшавших, но изящных, художественно помятых, мягких шляпах и в старинных, лопнувших даже кое-где, ботинках – от Вейса, Королькевича, Петерсона… Статуэтки, нечто вроде старого Сакса или Императорского фарфорового завода, за которые любители прекрасной старины платят огромные деньги.
И другие статуэтки – новые, сверкающие, в пальто с иголочки, в дурно сшитых многотысячных лакированных ботинках с иголочки, чисто выбритые, иногда завитые.
Это – ярко раскрашенное аляповатое фарфоровое изделие от берлинского Вертгейма, выпущенное в свет в тысяче штампованных одинаковых экземпляров. Это – новые миллионеры.
Первые статуэтки элегически грустны, как, вообще, грустно все, на чем налет благородной старины, вторые – тошнотворно самодовольны.
У вторых вместо мозга в голове слежавшаяся грязь, и этой грязью они лениво думают, что наша теперешняя жизнь самая правильная и что другой и быть не может.
Да знаете ли вы, тысяча чертей и одна ведьма вам в зубы, что вы оскверняете своими свинячьими мордами это место, где творит сейчас великий артист вечную красоту!..
Как вы сюда попали? Вон отсюда!
Идите в кафе, на пристани, в мануфактурные магазины – пухните там вдвое от ваших дешевых миллионов, но не лезьте так нагло в храмы, не сморкайтесь в кулак, когда служат литургию Красоте!
* * *
Весь старый Сакс – профессора, инженеры, писатели, адвокаты, доктора и артисты – уже давно не делают себе маникюра. И, однако, как изящны линии их нервных белых рук, как красиво розовеют их выпуклые, блестящие без маникюра ногти…
Недавно я зашел в парикмахерскую… Около маникюрши маячила очередь, всё народ дюжий, с корявыми кривыми лапами, а она в это время отделывала пятерню какому-то бывшему подвальному мальчику – шершавую красную пятерню, – начищая плоские рубчатые ногти с яростью, с какой сапожный чистильщик наводит глянец на видавшие виды сапоги кругосветного путешественника.
И подумал тут я:
«Дурак ты, дурак, бывший подвальный мальчик… Если бы твоя рука по-прежнему оставалась красной рабочей рукой – я, если хочешь, поцеловал бы ее благоговейно, потому что на ней написано святое слово „труд“… Но что ты теперь будешь делать этой отлакированной лапой? Подписывать куртажную расписку на сто пудов масла по пяти тысяч за пуд или неуклюже облапишь хрупкий фужер, наполненный заграничным шампанским, завершая в кабаке выгодную сделку на партию кофе из гималайского жита?..
Хороший маникюр тебе сделали…
А ведь, судя по некоторым признакам, ой, как редко ты бываешь в бане, бывший подвальный мальчик.
Надо бы чаще…
Кстати, я тебя видел в магазине Альшванга – ты покупал за три тысячи французские духи, с хитростью дикаря стремясь заглушить ароматом Убигана природный, столь выдающий тебя запах.
И обливаешься ты этими духами так щедро, что впору бы тебе и водой так обливаться.
А джентльмен – тебе, вероятно, незнакомо это слово, подвальный мальчик? А джентльмен в потертом пиджаке уже 4 года как не душится духами – и все же от платья его идет тонкий, еле уловимый запах „Шипра“ Коти – такого Шипра для вас теперь и не выделывают, – и этот еле уловимый старый, бывший запах грустен и прекрасен, как аромат увядшего, сплющенного в любимой книге цветка.
Ну что ж… Теперь вы в силе, Вертгеймовское исчадие…
Что ж… Лезьте вперед, расталкивайте нас, занимайте первые места – это вам не поможет, – так жить, как мы жили, вы все равно не умеете.
Может быть, многим из нас место не в теперешней толчее, а где-нибудь на полузабытой пыльной полке антиквара, но лучше забытая полка в углу, в полумгле, робко пронизанной светом синей лампадки перед потемневшим образом, чем бойкий каторжный майдан…»
Страна без мошенниковТри человека собрались на пустынном каменистом берегу моря, под тенью, отбрасываемой огромной скалой; три человека удостоверились – не подслушивают ли их, и тогда старший из них начал:
– Именем мошенничества и преступления – я открываю заседание! Мы все трое, бывшие завсегдатаи тюрьмы и украшение каторги, собрались здесь затем, чтобы с сего числа учредить преступное сообщество для совершения краж, грабежей и вообще всяких мошенничеств. Но… – насмешливо усмехнулся председатель, – может быть, за то время, что мы не виделись, вы уже раскаялись и хотите начать честную жизнь?
– Что ты! – укоризненно вскричали двое, бросая на председателя обиженные взгляды. – Мошенниками мы были, мошенниками, надеюсь, и умрем!
– Приятно видеть таких стойких негодяев, – одобрительно сказал председатель.
– Да! И в особенности под руководством такого мерзавца, как ты.
– Господа, господа! Мы здесь собрались не для того, чтобы расшаркиваться друг перед другом и отвешивать поклоны и комплименты. К делу! Что вы можете мне предложить?
Тогда встал самый младший мошенник и, цинично ухмыляясь, сказал:
– Я знаю, что теперь сливочное масло на базаре нарасхват. Давайте подделывать сливочное масло!
– А из чего его делать?
– Из маргарина, желтой краски, свечного сала…
Председатель усмехнулся:
– А известно ли моему уважаемому товарищу, что сейчас свечное сало и краска – дороже сливочного масла?
– В таком случае, простите. Я провалился. Тогда говори ты.
Встал второй:
– Я знаю, господа, что в одном торговом предприятии, в конторе, в несгораемом шкафу всегда лежит несколько миллионов!
– А как мы вскроем несгораемый шкаф?
– Как обыкновенно: баллон с кислотой, электричество, ацетилен, автоматические сверла…
– Где же мы их достанем?
– Раньше всегда покупали в Лондоне.
– Ну подумай ты сам; сколько будет стоить – поехать одному из нас в Лондон, купить всю эту штуку на валюту, погрузиться, заплатить фрахт, выгрузить на месте, доставить на извозчике… Я уверен, это влетит фунтов в 80, т. е. миллионов в восемь! А если в шкафу всего пять миллионов? Если три? Да если даже и десять – я не согласен работать из 20 процентов. Тогда уж прямо отдать свой оборотный капитал под первую закладную.
– Мне интересно, что же в таком случае предложит председатель – так жестоко бракующий наши предложения?
– А вот что! Я предлагаю подделывать пятисотрублевки. Во-первых, они одноцветные, голубые, во-вторых, рисунок не сложный, в-третьих…
– А что для этого нужно?
– Медная доска для гравировки, кислота, краска, бумага, пресс для печатания.
– Сколько же мы в месяц напечатаем таких фальшивок?
– Тысяч десять штук!
Средний мошенник взял карандаш и погрузился в вычисления…
– Сейчас вам скажу, во что обойдется одна штука.
– Ну что же?
– Н-да-с… Дело любопытное, но едва ли выгодное. Одна пятисотрублевка будет нам стоить 720 рублей!
– Черт возьми! А как же правительство печатает?
– Как, как?! У них бумага и краска еще старого запаса.
Долго сидели молча, угрюмые, раздавленные суровой действительностью.
– Ну и страна! – крякнул председатель. – За какое мошенничество ни возьмись – все невыгодно!
– А что, если, – робко начал самый младший мошенник, – что, если на те деньги, которые у нас есть, – купить две-три кипы мануфактуры, да сложить ее в укромное местечко, да, выждав недели три, продать.
– Что ж из этого получится?
– Большие деньги наживем.
– Постой, какое же это мошенничество?
– Никакого. Зато выгодно.
– Постой! Да ведь мы мошенники! Ведь нам как-то неприлично такими делами заниматься!
– Почему?
– Ну вот предположим, полиция узнает о нашей мануфактуре – что она нам сделает?
– Ничего.
– Вот видишь… Как-то неудобно. Я не привык такими темными делами заниматься.
– Но ведь не виноваты же мы, что это выгоднее, чем фальсификация продуктов, фальшивые бумажки и взлом касс!
– Бож-же! – вскричал председатель, хватаясь за голову. – До какого мы дошли падения, до какого унижения! С души воротит, тошнит, а придется заняться этой гадостью!
И они встали, пошли в город. Занялись.
* * *
Вот почему теперь так мало мошенников и так много спекулянтов…
Русская сказкаОтец прижал голову крохотного сына к груди и начал сказку:
– В одном лесу жил мальчик и жила Баба-Яга Костяная Нога… Впрочем, ну ее, эту Бабу-Ягу, правда?
– Ну ее, – охотно согласился ребенок.
– Вот какую сказку я лучше расскажу: жили да были дед и баба, у них была курочка-ряба… Хотя скучно это! Пусть она провалится, эта курочка!
– И дед с бабой пусть провалятся! – сверкая глазами, согласился мальчик, обуреваемый столь свойственным детям инстинктом разрушения…
– Верно. Пусть они лопнут – и дед, и баба. А вот эта – так замечательная сказка: у отца было три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк…
– Пусть они тоже лопнут… – внес категорическое предложение малютка, улыбаясь с веселой свирепостью.
– И верно, сын мой. Туда им и дорога. Это все, конечно, чепуха, труха. Хорошая сказка рассказывается после соответствующего разбега. А так как я уже достаточно разбежался, то… слушай!
* * *
…Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама, и была она потому, что тогда не было сыпного тифа. И жили твои папа с мамой в квартирке из шести комнат, и даже для сына была отдельная комнатка, где стояла его колыбелька. Теперь мы с тобой и дядей Сашей живем в одной комнате, а тогда у меня было шесть.
– У кого реквизировал?
– Держи карман шире! Тогда не было реквизиций! Кто какую квартиру хотел, такую и снимал. Хоть бы двадцать комнат! И вот однажды приезжаю я…
– С фронта?
– С которого? Никакейших тогда фронтов не было!
– А что ж мужчины делали, если нет фронта! Спекулировали, небось?
– Тогда не спекулировали.
– А что же? Баклуши били?
– Дядя Саша, например, был адвокатом. Петр Семеныч писал портреты и продавал их, дядя Котя имел магазин игрушек…
– Чтой-то – игрушки?
– Как бы тебе объяснить… Ну, например, видел ты живую лошадь? Так игрушка – маленькая лошадь, неживая; человечки были – тоже неживые, но сделанные, как живые. Пищали. Даванешь живот, а оно и запищит.
– А для чего?
– Давали детям, и они играли.
– Музыка?
– Чего музыка?
– Да вот, играли.
– Нет, ты не понимаешь. Играть – это значит, скажем, взять неживого человечка и посадить верхом на неживую лошадку.
– И что ж получится?
– Вот он и сидит верхом.
– Зачем?
– Чтоб тебе было весело.
– А кто ж в это время играет?
– Фу, ты! Нельзя же быть таким серьезным. Однако – вернемся. Вот, значит, мы так и жили…
– А что ты делал?
– Я был директором одной фабрики духов.
– Чтой-то?
– Духи? Бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь на костюм, а оно хорошо и пахнет.
– А зачем?
– Да так. Зря. Раньше много чего зря делалось. У меня, например, был человек, который стоял у дверей, и если кто-нибудь приходил ко мне, он шел впереди него и говорил, кто пришел.
– Да зачем тебе? Ты бы и сам через минуточку увидел бы.
– Так было принято. Много чего зря делали. Мы с мамой, например, раз в месяц бал закатывали.
– Во что закатывали?
– Ни во что. Возьмем и закатим бал. Приглашали музыку, оркестр целый… Сад увешивали цветными фонариками и под музыку танцевали…
– Чтой-то?
– Танцевать? А вот мужчина брал даму одной рукой за ее руку, другой за это место, где у тебя задняя пуговица курточки, и начинали оба топать ногами и скакать.
– Зачем?
– Зря. Совершенно зря. Пользы от этого не замечалось никакой. После танцев был для всех ужин.
– Небось, дорого с них сдирал за ужин?
– Кто?!
– Ты.
– Помилосердствуй! Кто ж с гостей за ужин получает? Это бесплатно. Я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское, фрукты, мороженое.
– Сколько ж тебе это стоило? Небось – за… этого… закатывал в копеечку?
– Ну как тебе сказать… Помнишь, мы сегодня после обеда пили с тобой этакую чуть-чуть газированную теплую дрянь на сахарине? Ситро, что ли? Ну вот сколько мы заплатили за бутылочку, помнишь?
– Полторы тысячи.
– Правильно. Так раньше – бал с музыкой, фонариками и ужином стоил половину такой бутылки.
– Значит, я сегодня целый бал выпил?
– Представь себе! И не лопнул.
– Вот это сказка! У маленького мальчика бал в животе. Хе-хе-хе!
– Да уж. Это тебе не Баба-Яга, чтоб ей провалиться!
– Хе-хе! Не у отца три сына, чтобы им лопнуть.
– Да… И главное, не Красная Шапочка, будь она проклята отныне и до века!