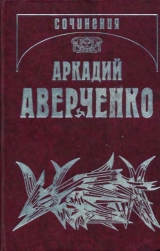
Текст книги "Том 1. Веселые устрицы. Рассказы 1908-1910"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 52 страниц)
Кривые Углы
Глава перваяприезд
Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова Кривые Углы.
Ехать пришлось восемьсот верст по железной дороге, семьдесят лошадьми и восемь пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин оказался до того пьяным, что свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.
Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрел до усадьбы Кривые Углы.
Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и с криком ужаса понеслась в барский дом.
Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала в заросший, густой сад.
Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и громко заплакал.
– Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно украл я для кучера Афанасия бутылку водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. Обожди, оболью я тебе костюм чернилом!
Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван.
Парень лет семнадцати вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку на пол, стал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел.
Вошел толстый человек в халате и с трубкой. Пососав ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал громко:
– Наверно, это самый учитель и есть! Приехал с чемоданом. Да. Сидит на диване. Так-то, брат Плантов! Учитель к тебе приехал.
Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в ладоши, затанцевал на толстых ногах.
– Эй, кто есть? Копанчук! Павло! Возьмите его чемодан. А что, учитель, играете вы в кончины?
– Нет, – сказал Поползухин. – А ваш мальчик меня языком дразнил!
– Высеку! Да это нетрудно: сдаются карты вместе с кончинами… Пойдем… покажу!
Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты; в столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте с бантом на груди.
– Чего ты его тащишь? Опять, верно, со своими проклятыми картами! Дай ты ему лучше отдохнуть, умыться с дороги.
– Здравствуйте, сударыня! Я – учитель Поползухин, из города.
– Ну, что же делать? – вздохнула она. – Мало ли с кем как бывает. Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только ты, уж сделай милость, у нас мертвецов не режь!
– Зачем же мне их резать? – удивился Поползухин.
– То-то я и говорю – незачем. От Бога грех и от людей страм. Пойди к себе, хоть лицо оплесни! Опылило тебя.
Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.
Глава втораятриумф
На другой день, после обеда, Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же в углу и горько плакал, перемежая это занятие с попытками вытащить при помощи зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа.
Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин окончит свою работу.
– Учение – очень трудная вещь, – говорил Поползухин. – Вы знаете, что такое тригонометрия?
– Нет!
– Десять лет изучать надо. Алгебру – семь с половиной лет. Латинский язык – десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь. Трудно! Профессора двадцать тысяч в год получают.
Плантов подпер щеку рукой и сосредоточенно слушал Поползухина.
– Да, теперь народ другой, – сказал он. – Все знают. Вы на граммофоне умеете играть?
– Как играть?
– А так… Прислал мне тесть на именины из города граммофон… Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть, бес его знает! Так и стоит без дела.
Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал:
– Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря!
– Ну? Играете? Вот так браво!..
Плантов оживился, вскочил и схватил гимназиста за руку.
– Пойдем! Вы нам поиграете. Ну его к бесу, ваш пиджак! После отчистите! Послушаем, как оно это… Жена, жена!.. Иди сюда, бери вязанье, учитель на граммофоне будет играть!
Граммофон лежал в зеленом сундуке под беличьим салопом, завернутый в какие-то газеты и коленкор.
Поползухин с мрачным, решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой.
– Потрудитесь, господа, отойти подальше! Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать, на это ты мастер, а как на коленях стоять, так не мастер! Господа, будьте любезны сесть подальше, вы меня нервируете!
– А вы его не испортите? – испуганно спросил Плантов. – Вещь дорогая.
Поползухин презрительно усмехнулся:
– Не беспокойтесь, не с такими аппаратами дело имели!
Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину.
Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль я на реченьку».
Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка, с хладнокровием опытного, видавшего виды мастера подкручивал винтик, регулирующий высоту звука.
Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил:
– Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли? А ты все по крышам лазишь!.. А ну еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин!
В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя.
Потом крадучись пришла вчерашняя старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая, в сад.
В Кривых Углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом.
Глава третьясветлые дни
Для гимназиста Поползухина наступили светлые, безоблачные дни. Андрейка боялся его до обморока и большей частью сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон. Помещик Плантов забыл уже о кончинах и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом:
– Ну, сыграйте что-нибудь!.. Очень вас прошу! Чего в самом деле?
– Да ничего сейчас не могу! – манерничал Поползухин.
– Почему не можете?
– А для этого нужно подходящее настроение! А ваш Андрейка меня разнервничал.
– А бес с ним! Плюньте вы на это учение! Будем лучше играть на граммофоне… Ну, сыграйте сейчас!
– Эх! – качал мохнатой головой Поползухин. – Что уж с вами делать! Пойдемте!
Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека.
Вся дворня при встрече с Поползухиным снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов, а парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние: амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени.
И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могуществом учителя – при виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах.
Сам Поползухин, кроме граммофонных занятий, ничего не делал: Андрейку не видал по целым дням, помыкал всем домом, ел пять раз в сутки и иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня:
– Принеси-ка мне чего-нибудь поесть! Студня, что ли, или мяса! Да наливки дай!
Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.
– Кушаете? А что, в самом деле, выпью-ка и я наливки! А ежели вам спать не особенно хочется, пойдем-ка, вы мне поиграете что-нибудь. А?
Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать.
Глава четвертаякрах
С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке. Дворня, по поручению Плантова, бегала за ним, искала, аукала и, найдя, говорила:
– Идите, барчук, в дом! Барин просят вас на той машине играть.
– А ну его к черту! – морщился Поползухин. – Не пойду! Скажите, нет настроения для игры!
– Идите, барчук!.. Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слухать хочут.
– Скажите, вечером поиграю!
Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду. В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться.
«Выйду ль я на реченьку», – заливался граммофон.
С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом. Сомнения не было: граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих.
– Да что ж тут мудреного? – говорил он. – Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится.
– Зачем вы без меня трогали граммофон? – сердито крикнул Поползухин.
– Смотри, какая цаца! – сказал ядовито помещик Плантов. – Будто это его граммофон. Что же ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться? А вот Митя Колонтарев приехал и сразу заиграл. Эх, ты… карандаш! А позвольте, Митя, я теперь заведу! То-то здорово! Теперь целый день буду играть. Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков.
За обедом на Поползухина не обращали никакого внимания. Говядину ему положили жилистую, с костью, вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул:
– Ну, брат, довольно тебе шалберничать… нагулялся!.. Учитель, займитесь!
Поползухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его:
– Пойдем!
И они пошли, не смотря друг на друга… По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улучил минуту и плюнул учителю на сапог.
День человеческий
дома
Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка – глупая, толстая женщина – держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.
– Как вы нынче спали? – спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.
– Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.
– Ах ты Господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками.
Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо…
– Хорошо. Будем говорить серьезно… Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно – вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал – ликованию и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?
Она обиженно отталкивает от себя чашку.
– Я вас не понимаю…
– Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете… Ей-богу, лично против вас я ничего не имею… простая вы, обыкновенная тетка… Но когда вам нечего говорить – сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства… И если бы я ответил вам: «Благодарю вас, хорошо», – вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?», – хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно…
Мы сидим долго-долго и оба молчим.
Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?
– Дни теперь стали прибавляться, – говорит наконец она, смотря в окно.
– Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?
Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.
– Вы тяжелый грубиян и больше ничего.
– Ну как же так – и больше ничего… У меня есть еще другие достоинства и недостатки… Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.
Тетка плачет, тряся жирным плечом. Я одеваюсь и выхожу из дому.
на улице
Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.
Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:
– Как поживаете, что поделываете?
И делает движение устремиться дальше. Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:
– Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу… Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать… Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное – оказывается, пустяки… Поставил термометр, а он…
Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:
– Да… Так о чем я, бишь, говорил… Беру зеркало, смотрю в горло – красноты нет… Думаю, пустяки – можно пойти гулять. Выхожу… Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет. Что за шум, думаю… От кого бы это? И можете вообразить…
– Извините, – страдальчески говорит Хрякин, – мне нужно спешить…
– Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поделываю. А поделываю я вот что… Да. На чем я остановился? Ах, да… Что поделываю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться насчет любительского спектакля – встречаю Марью Потаповну. «Приезжайте, – говорит, – завтра к нам»…
Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих…
Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь на другого знакомого – Игнашкина.
Игнашкин никуда не спешит.
– Здравствуйте. Что новенького?
– А как же, – говорю, вздыхая. – Везувий вчера провалился. Читали?
– Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?
– Нет, не курю.
– Счастливый человек. Деньги все собираете?
– Нет, так.
– По этому поводу существует…
– Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» – «Нет». – «Значит, есть домик?» – «Нет». – «Ха-ха!» Да?
– Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..
Я его перебиваю:
– Как поживаете?
– Ничего себе. Вы как?
– Спасибо. До свидания. Заходите.
– Зайду. До свиданья. Спасибо.
Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:
– А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!
– Почему – черти побрали?
– Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.
– Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?
– Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.
Отец
Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.
Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.
Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других… Он знал несколько языков, но это были странные, ненужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать – такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы – но тоже они были както ни к чему – делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:
– Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!
– А матерьял стоил тридцать! – подхватывала мать.
– Молчи, Варя, – говорил отец. – Ты ничего не понимаешь…
– Конечно, – горько усмехаясь, возражала мать. – Ты много понимаешь…
Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности – с коммерческой точки зрения – тех операций, которые в магазине происходили.
Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом… Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:
– Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.
– Ты ничего не понимаешь, Варя, – деликатно возражал отец. – Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.
– Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне – так всем и давать в долг?
– Ты ничего не понимаешь, Варя, – печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.
Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.
– Ты ничего не понимаешь, Васька, – сказал, сконфузившись, отец.
Я любил книжки, а он купил мне полдюжины какихто голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план – открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.
Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть – покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.
* * *
Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.
– Что это такое? – с беспокойством спросила мать. Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.
– Увидите, – дрожа от нетерпения, говорил он. – Сейчас поставим его.
Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.
– Ну? – торжествующе обратился отец к окружающим. – Во сколько вы оцените эту штуку?
– Да для чего она? – спросила мать.
– Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты – сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?
Алеша – льстец, гипперболист и фальшивая низкопоклонная душонка – всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:
– Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!
– Ха-ха-ха! – торжествующе захохотал отец. – А ты, Варя, сколько скажешь?
Мать скептически покачала головой.
– Да что ж… рублей пятнадцать за него еще можно дать.
– Много ты понимаешь! Можете представить – весь этот мрамор, красное дерево и все – стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.
В монументальный рукомойник налили ведро воды… Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.
– Течет! – сказал отец. – Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.
Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умывальник поселился у нас.
Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:
– Вы ничего не понимаете!
У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему – покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.
Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била. Но струя не дремала…
Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.
Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала…
* * *
Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье… Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.
То была странная процессия.
Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием величиной с крышу небольшого сарайчика.
– Что это? – с тайным страхом спросила мать.
– Лампа, – весело отвечал отец.
– А я думала – тумба для афиш.
– Не правда ли, – подхватил отец, – прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.
Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного – тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.
– Ну, как думаешь, Алеша… Сколько она стоит?
– Три тысячи! – уверенно сказал Алеша.
– Ха-ха! А ты что скажешь, Варя? Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.
С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.
– Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?
– Семь тысяч, – сказал я, обойдя вокруг лампы. – По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.
– Много ты понимаешь! – растерялся отец.
Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.
А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.
Отец стоял перед ней в немом восторге.
Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.
– Что еще? – выскочила мать.
– Часы, – счастливо смеясь, сообщил отец.
Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.
По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек…
Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.
Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.
Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку… Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске…
Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.
Часы пригодились нам, как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат… Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.
Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».
Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.
Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.
– Что ты с ними сделала? – спросили мы мать.
– Продала.
– Много дали? – спросил молчавший доселе отец.
– Три рубля. Только не они дали, а я… Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром…
Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:
– Много ты понимаешь! Теперь он умер, мой отец.








