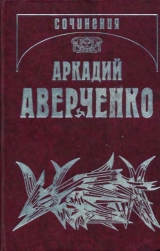
Текст книги "Том 1. Веселые устрицы. Рассказы 1908-1910"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 52 страниц)
Приготовления к коронованию Куколки
– Какой у вас тут беспорядок, – критически заметил Новакович, оглядывая Меценатову гостиную, – отчего вы не прикажете вашим слугам прибрать?
– Ну, слуги! Они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь. А у меня все на месте.
– Именно что. Например, эта пачка старых газет на ковре около оттоманки, кусок глины на подзеркальнике, грязный полотняный халат на дверце книжного шкафа – все это придает комнате очень уютный, чисто будуарный вид! На крышке рояля такой слой пыли, что все письменные работы можно исполнять на этой крышке. Вот я вам тут напишу сейчас один вопль!
И он четко вывел по слою пыли на крышке рояля: «Ребята, позвольте рекомендоваться: я – пыль. Братцы, да кто же меня сотрет наконец?!»
Кузя привстал с кресла, прочитал «вопль» и деловито объяснил:
– Эту пыль нельзя трогать. Она уже осела и лежит себе спокойно, не попадая ни в чьи легкие… А начни ее стирать – наши легкие погибнут.
– А эти бутылки на полу в углу? А грязные пивные стаканы? Удивляюсь, Меценат, как вам не противно!
– Да что тебя вдруг обуял такой бес аккуратности?! – удивился Меценат. – Никогда я этого за тобой не замечал.
– Мне-то, в сущности, все равно, но сегодня у нас будет дама… Ну, как ее посадить в такое кресло, на котором пепла столько же, сколько на голове древнего горюющего еврея?! Яблонька не любит грязи!
Все значительно переглянулись и в один голос монотонно затянули:
– А-а-а!!
Когда один уставал и замолкал, другой подхватывал эту заунывную ноту и тянул дальше, пока его не сменял первый.
– А-а-а!.. А-а-а!..
– Честное слово, я расскажу Яблоньке, как вы надо мной издеваетесь, приплетая ее имя!!
К Яблоньке «клевреты» относились молитвенно, поэтому после угрозы Новаковича рты моментально захлопнулись, как пустые чемоданы.
Впрочем, Кузя не утерпел:
– Телохранитель, когда свадьба?
– Чья? – не понял сразу Новакович.
– Ваша же, ваша! Ты ведь сохнешь так, что даже сахар Анны Матвеевны не помогает. Сдашь государственные экзамены – надевай фрак, белый галстук и делай предложение.
Новакович, уныло свесив голову, помолчал, потом вдруг встряхнулся и сказал с неожиданной откровенностью:
– До чего бы это было хорошо! Конечно – фрак ерунда, но вообще, помимо фрака… Эх, братцы, грех вам смеяться над таким чувством.
– Да мы не смеемся, чудак. Мы сочувствуем. Я это понимаю. Я сам один раз был влюблен в некую вдову – так влюблен, что и сказать невозможно. До того дошло однажды, что я на пол повалился и стал ножку стола грызть.
– Что общего? – возмутился Мотылек. – Тут чистая, благородная, благоуханная девушка, а этот шахматный Кузя со своей затрапезной вдовой вылез да еще ножкой стола подпер?! Новаковича я понимаю, тем более что Яблоньку чудесным образом отыскал именно я. И горжусь!
И закончил прозаически:
– Тем более это стоило Меценату всего два рубля! Куколка обошелся нам в двенадцать раз с половиной дороже…
– Мотылек, не будь циником, – мягко упрекнул шокированный такой странной математической выкладкой Меценат.
– Моя вдова не затрапезная, – обиженно сказал Кузя, думая о своем, – у нее был муж полковник и такая грудь, что вы таких грудей не видывали! А волосы! А губки!
Новакович счел нужным перебить его:
– Анатомия полковничьих вдов в твоем живописном изложении не является тем предметом, который увлек бы нас! Меценат! Разрешите все-таки, мы тут приведем все немного в порядок. А?
– Как хотите! Разве я могу в чем-нибудь вам отказать? А прислугу не допущу! Она порядок путает.
– Ну-ка, Мотылек, Кузя! Долой пиджаки. Приступим.
Кузя снял пиджак, уселся в кресло и сказал:
– Начинайте! Я буду руководить вами. Мотылек, собери газеты, накрой глину тряпкой и сунь ее под стол подальше! Новакович, сними халат с дверцы шкафа, оботри им пыль и стряхни пепел на пол. Потом подметешь.
Работа закипела, а Кузя, потонув в кресле, изредка командовал Новаковичем и Мотыльком, ворча себе под нос в паузах:
– Хм! «Затрапезная вдова»! Да она бы вас к себе и на кухню не пустила. А ноги у нее какие были – красота! Беленькие, пухленькие… Вот тебе и «затрапезная»! Аристократы нашлись! Отнеси теперь халат к Анне Матвеевне – пусть в грязное белье бросит! А шейка у нее была – мрамор! Бывало, оскалит белые зубки… Окурки, окурки, не забудьте смести с подоконника!
Меценат в это время тоже не сидел без дела: он усердно мастерил из золоченой бумаги и разноцветных осколков стекла великолепную корону.
– Порфиру бы ему еще соорудить, черту полосатому, – сказал Мотылек, отрываясь от работы, – да не из чего!
– Послушайте, – задумчиво почесал за ухом Меценат, – а что, если он раскусит нас и обидится… Неловко будет.
Мотылек собрал складки своего лица в очень причудливый рисунок и хихикнул:
– Он-то? Да представьте вы себе – он сейчас плавает в океане блаженства! Я его раздул, как детский воздушный шар! Не встречал я дурака самонадеяннее! Все принимает за чистую монету, строит самые наглые планы насчет своей литературной карьеры и… Да ведь вы знаете, что он каким-то чудом все-таки удержался на моем бывшем месте в редакции… Я, признаться, думал, что дело окончится скандалом, а он… приспособился! Вот именно такие ничтожества этаким болванам, как редактор, и нужны! Впрочем, я спокоен: он удержится до выхода первого очередного номера. А как тиснет в журнале свою «старушку в избушке, кругом трава» – так ведь, как пустое ведро по лестнице, загремит! И опять, хамы этакие, придут ко мне на поклон… Тут-то я и поиздеваюсь. А-а, скажу, аршинники, самоварники… О, мне Куколка еще нужен! Я все редакции взорву этим Куколкой… Пусть они его подхваливают да заметочки о нем печатают, вроде как вчера: «Входящий в известность поэт В. Шелковников, о котором в последнее время так много писали, выпускает свою первую книгу, ожидаемую литературными гурманами с большим интересом…» Нет, Куколку обязательно нужно короновать в короли поэтов! А потом я им преподнесу: «Глядите, остолопы! Вот тот властитель мыслей, которого вы заслуживаете!»
– Одна вещь только меня заботит… – обеспокоенно сказал Новакович, крутя свой рыжий ус. – Ведь по проекту церемониала участие в этом идиотском короновании должна принять и Яблонька?
– Конечно! Она увенчает его короной!!
– Ну, вот. Как же мы поступим: объясним Яблоньке, что Куколка – жалкий болван, или оставим ее в неизвестности, придав всей церемонии вид настоящего преклонения перед этим «Божьей милостью» поэтом?
– По-моему, признаться во всем Яблоньке, да и дело с концом! Она же с нами и повеселится.
Новакович твердо посмотрел всем в глаза:
– Нет, ребята, значит, плохо вы знаете Яблоньку! Могу сказать заранее, что будет: узнав, что мы мистифицируем этого жалкого парнишку, она возмутится, назовет нас жестокими, бессердечными, пристыдит нас, укажет на то, что мы зря издеваемся над Божиим творением, что у этого «творения» тоже есть живая страдающая душа – и прочее, и прочее. Одним словом, сорвет всю нашу игру. Вы об этом не подумали?
– Тогда можно Яблоньке вообще ничего не говорить… Представим его как нового Шиллера, Пушкина и Байрона, вместе взятых, и что мы, дескать, хотим почтить это гигантское дарование!!
Новакович покачал головой:
– Значит, вы предлагаете попросту обмануть нашу Яблоньку?
– Да чего ты заныл преждевременно? – вскипел Мотылек. – Сегодня Яблоньке ничего не скажем, а завтра явимся все к ней, падем на колени, поцелуем край ее платья да и покаемся. Кто открыл Яблоньку? Ты, что ли? Я ее открыл! Значит, я за все отвечаю!
Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид: посередине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло, в свою очередь покрытое великолепной персидской шалью; по бокам кресла – две развесистые пальмы в кадках, задрапированных одеялами. В стороне – маленький столик, на столике красная шелковая подушка, а на ней – сверкающая разноцветными камушками чудесная корона, которая под искусными пальцами волшебника Мецената превратилась в подлинное художественное произведение. В стороне стол – с цветами и фруктами.
Мотылек ходил вокруг, любовно осматривая все эти вещи, и только крякал от удовольствия. Все поработали сегодня достаточно – даже Кузя внес свою лепту в общие труды: разбил фарфоровую вазу для цветов.
Когда Анна Матвеевна выплыла с заказанным шампанским и бокалами – она остановилась посреди комнаты совершенно остолбенелая…
– Это чего такого вы тут настроили?
– Красиво, бабуся? – с гордостью спросил Кузя. – Видите, как я тут все прибрал?!
– Да что это вы… женить кого собрались, что ли? Что за праздничек придумали?
– О, благодетельная Кальвия, – выскочил вперед Мотылек. – Все это для вас! Мы пронюхали, что ровно сорок лег назад вы погасили огонь Весты; уронили пылающий факел девственности и, упав в объятия супруга, перешли на брачное положение. Этот угрюмый факт мы и решили отметить!
– И кто тебе, лешему, такой язык привесил?! – сердито сказала Анна Матвеевна. – Ты бы лучше в церковь ходил да Богу молился!
– Нот, уж вы его не заставляйте Богу молиться, – вступился Кузя. – А то он лоб разобьет – кто будет чинить церковные плиты? Вы, что ли?
За дверью свежий звучный голос произнес:
– Разбойнички!.. А здесь Яблонька! Впустите!..
Глава XIIКоронование
Рев восторга приветствовал гостью. Гибкая, золотистая, в платье персикового цвета, с обнаженными руками и открытой шеей – будто кусочки белого мрамора мелькнули перед глазами восхищенных клевретов, – она была обворожительна в своей не искушенной кокетством юности.
От пышных волос, окружавших прекрасное лицо золотым сиянием, до маленьких ножек, обутых в серебристые туфельки, – она вся теплилась, как радостная пасхальная свечка.
– Яблонька, – восхищенно воскликнул Меценат. – Если я ослепну от вашей красоты, как старый Велизарий, будете ли вы водить меня за руку, как тот мальчик, который питал Велизария?
Новакович вздохнул и мрачно ответил за Яблоньку:
– Не такой она человек, чтобы водить за руку. Она за нос водит…
Яблонька в это время здоровалась с Анной Матвеевной, и поэтому горькая тирада Новаковича не достигла ее ушей.
– Голубка ты моя белая, – обратилась к ней нянька. – Хучь ты объясни мне – чего это тут затевается?! От них нешто добьешься толку?! Такое мне объяснили, что тебе, девушке, и слушать неподобно!
– А вы думаете, нянечка, я знаю? Прилетает ко мне Новакович, сует в руку две груши и наказывает, чтоб обязательно я сегодня пришла в самом парадном виде! Спрашиваю, зачем. Мычит что-то.
– Мудреные они, – сокрушенно сказала нянька. – Ты бы их остерегалась, девушка, а то втянут они тебя в историю. Ведь я их знаю – сущие мытари!
– Настало время объяснений, – напыщенно сказал Мотылек. – Сегодня мы коронуем одного чудного поэта, а имя этому поэту: Куколка.
– Что за коронация? – забеспокоилась нянька. – Чего надумали?! Нешто он царь какой?
– Король, бабуся! Король поэтов.
– Ну, дай ему Бог, – смягчилась нянька. – Очень он ладный парнишка: великатный такой, почтительный – не вам, бесстыжим, чета. Да вот он – легок на помине.
Куколка появился, одетый, как и подобает королю поэтов, в черную бархатную тужурку, ловко обрисовывавшую его стройную талию… Черный глубокий тон бархата резко оттенял бледно-розовую свежесть его красивого лица и мягкий блеск белокурых волос.
– Вот они, – любовно сказала нянька, поглядывая то на него, то на Яблоньку. – Две золотые головушки! Будто ангелята в ад слетели.
– Тесс! – зашипел Мотылек, приложив палец к носу. – Частные разговоры не допускаются! Без прозы! Все по местам!
Он низко поклонился Куколке, взял его деликатно за пальцы, усадил в торжественное кресло на белой медвежьей шкуре, подскочил к роялю и, обрушив на клавиши свои проворные пальцы, стройно заиграл полонез из «Сказок Гофмана»…
Кончил. Схватил со стола заранее приготовленный том Пушкина, развернул его, как Евангелие, на заранее приготовленном месте и звучно прочел:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон —
В забавы суетного света
Он малодушно погружен.
Когда ж в избе старушки скрип
До слуха четкого коснется…
Тотчас к бумаге он прилип
И от нее не оторвется!..
Так он и откатал все стихотворение, причудливо мешая звучащий медью пушкинский стих с пресловутыми Кукольными стихами о старушке. Окончив, захлопнул книгу, благоговейно поцеловал ее и начал речь:
– Ваше величество, дорогой Куколка! В жизни почти всякого большого поэта есть одна неизбывная трагедия… Современники его или недостаточно ценят, или совсем не ценят, и только после смерти поэта приходят признание, слава, почести. Это ужасно!! И вот мы, люди хрупкой утонченной духовной организации, почуяв, что в отношении вас может совершиться та же вековая несправедливость, решили по мере своих слабых сил дать вам при жизни то, на что при других условиях вы бы имели право после смерти! Мы создадим вам славу, потому что вы достойны ее, и сегодняшний день – это первый робкий шаг в страну Очаровательных Возможностей, которые ожидают вас на вашем пути, на том пути, с которого мы заботливо сметем все камни преткновения, все шипы – чтобы шествие ваше встречало по сторонам только цветущие розы, только благоухание цветов и приветственные улыбки благодарного народа, который вы вознесете и облагородите вашим волшебным талантом! Настоящих поэтов коронуют так же, как подлинных королей, поэтому, о прекраснейшая из русских женщин – Яблонька, – благоволите покрыть сверкающее будущим гением чело этой королевской короной. Ур-ра!!
Яблонька, ласково улыбаясь, взяла с подушки корону, надела ее на кудрявую голову «короля поэтов», а «король поэтов» с серьезным видом преклонил одно колено и благодарно поцеловал гибкую душистую ручку…
И все клевреты во главе с Меценатом грянули могучее «ура!», а в углу сидела нянька, растроганная речью Мотылька, и тихо плакала, утирая глаза белым фартуком.
«Ура» продолжало греметь, клевреты выхватили из ваз благоухающие цветы и принялись забрасывать ими сияющего, глубоко растроганного Куколку.
Когда овации утихли, Яблонька подняла с белой медвежьей шкуры темно-красную розу и, приколов ее к корсажу, обратилась к Куколке:
– К сожалению, я еще не читала ваших произведений, но я доверяю литературному вкусу всех, кто находится здесь, и поэтому присоединяю свои поздравления и пожелания… Вот что скажу вам: работайте, рвитесь вперед, не удовлетворяйтесь внешним успехом, а главное – не застывайте на одном месте! В искусстве – все в стремлении.
– Спасибо! А мы с вами еще не знакомы. Позвольте представиться: моя фамилия Шелковников, мое имя…
– Имя ваше можете не произносить, – перебил его Мотылек. – Оно будет прочтено миллионами на обложке ваших сочинений. Господа! Теперь по бокалу шампанского! Яблонька! Предложите королю из ваших ручек.
Когда Мотылек подскочил к разливавшей шампанское Анне Матвеевне, старуха взяла его за ухо и доброжелательно сказала:
– Ведь вот и шут ты, и сущий разбойник, а сказал давеча так, что меня, старуху, слеза прошибла. Тебе бы остепениться – из тебя бы человек вышел.
– Э, бабуся! Куда мне в люди выходить… Я на себя рукой махнул. Дай Бог других в люди вывести! А я – ни в чем мне нет удачи…
И среди этого напускного веселья густое облако грусти наползло на морщинистое лицо Мотылька, и такое это было густое облако, что часть влаги осела в одной из морщин под глазом, задержалась на минуту и потом окончательно скатилась на борт пиджака.
– Фу ты, – развязно сказал Мотылек, – сколько газу в этой шампанее. Инда до слез!..
А на другой стороне комнаты огорченный Кузя с бокалом шампанского, спрятавшись а глубокое кресло, как черепаха в свой панцирь, бормотал, глядя выцветшими глазами в пространство:
– «Затрапезная вдова»! Да вы, может, таких вдов еще и не нюхали! Грудь как слоновая кость, упругая, как на пружинах, и на рояле хорошо играла… А мужа, может быть, и генералом бы сделали, да он сам не хотел. Зачем, говорит, мне! Я не чинов, говорит, добиваюсь, а дело люблю делать. Дело, дело и только дело! Вот тебе и «затрапезная»!
Глава XIIIБолтовня на ковре
Пить вино на полу – была затея Кузи. Он объяснял ее уютностью такого положения, оправдывал примером древних римлян, которые, дескать, тоже всегда во время пиров возлежали, но на самом деле эта мысль имела своим источником отчаянную лень этого вялого шахматиста. Ему очень хотелось полежать, но в обществе растянуться вдруг ни с того ни с сего на оттоманке было невежливо, а если сделать из этого общую забаву, то ему, Кузе, будет удобно, а всем вообще весело…
В центре большого персидского ковра поставили объемистую вазу с крюшоном, а вокруг нее радиусами разлеглась вся компания, не исключая и Яблоньки, которой пылкий влюбленный Новакович смастерил царственное ложе: шкура белого медведя, на шкуре плюшевый плед, а на пледе Яблонька, положившая круглый алебастровый подбородок на огромную пушистую голову страшного зверя.
– Дорогие друзья, – предложил Меценат, – мы могли бы заняться светским разговором, но нет ничего более нудного и тягучего, чем эта болтовня, в которой не больше содержания, чем в пустом орехе! Вместо этого пусть каждый из нас расскажет самую диковинную, самую замечательную историю из своей жизни и практики. Это всегда весело и поучительно, а тем более в такой торжественный день. Ну-ка, Телохранитель, зачинай! Какой самый удивительный случай был в твоей многоцветной жизни?
Умный Меценат неспроста начал с Новаковича, потому что труднее всего в таких случаях начинать первому, а известно, что Новакович в карман за словом не лазил и в любой момент способен был с самым хладнокровным видом состряпать самую чудовищную историю.
– Извольте, – с готовностью сказал Новакович. – Только в моей истории будет одна девушка и один поцелуй, так что я заранее прошу у Яблоньки прощения за некоторую фривольность сюжета.
– Рассказывайте, Телохранитель, – рассмеялась мягким всепрощающим смехом Яблонька. – Я не такая наивная, чтобы не знать, что некоторые девушки целуются.
– И даже очень! – подхватил Кузя с таким фатовским видом, который ясно указывал, что в этих отклонениях от девичьей добродетели он, Кузя, играл не последнюю роль.
– Кузя! Девушки не твоя среда, помолчи. Вот когда девушка выйдет замуж, да муж ее сделается полковником, да потом умрет, да она останется вдовой с белыми ножками и прочим…
– А вы сегодня мою вдову напрасно обидели, – опять омрачился Кузя. – Как она играла на рояле! И когда играла, так ямочки на плечах, как живые, прыгали…
– Это ты нам расскажешь без Яблоньки, – сурово прервал его пуританин Новакович. – Ну, так вот вам, почтенные, моя история… Называется она —
ПОЦЕЛУЙ В КАЮТЕ
Должен я начать с самой интимной подробности моей прошлой жизни: в дни своей юности я влюбился… Чувства свои я подарил одной очень достойной девушке, а отвечала она мне взаимностью или нет – я не знал, и это чрезвычайно терзало меня!
(При этих словах рассказчик бросил косой взгляд на Яблоньку, ожидая, что веки ее или углы губок предательски дрогнут, но Яблонька самым безмятежным образом была погружена в вылавливание розовым язычком ананаса из бокала с крюшоном. Рассказчик тоскливо вздохнул и стал продолжать.)
Я и теперь, господа, застенчив и робок с женщинами, а в те времена взглянуть даже на женщину дерзновенным взглядом было для меня подвигом совершенно невозможным. И случилось так, что любимая мною девушка и я должны были ехать на пароходе из Одессы в Севастополь. Я только издали поглядывал на нее да вздыхал, а она была весела, как никогда: каждую минуту подходила ко мне, шутила, подтрунивала надо мной, а когда ее заинтересовывало что-нибудь из жизни моря – мимо идущий корабль или плывущий обломок лодки, разбившейся гденибудь о скалы, или резвящаяся за корабельной кормой стая дельфинов, или поле водорослей, колышащееся на поверхности воды, – она обо всем этом меня расспрашивала, и я толково объяснял ей, потому что в морских делах очень хорошо понимаю и во мне, может быть, заглох какой-нибудь морской корсар, и слава Богу, что заглох, потому что за эти штуки по головке не гладят.
Вот так-то беседуем мы с ней, а она вдруг я спроси меня:
– У вас, кажется, есть коллекция открыток с картин Третьяковской галереи?
– Есть, – говорю. – Хорошая коллекция.
– Покажите. Только вы не тащите всего этого сюда, а я, – говорит, – лучше пойду в вашу каюту. Можно?
А у меня была отдельная каюта – капитан был приятелем, так дал.
Услышав предложение любимой девушки, я засиял, как бриллиант Кох-и-Нор, и, конечно, помчался вперед самым гостеприимным образом. Входим мы, и как остановилась она посреди каюты, красивая, будто наша Яблонька, сверкающая черными глазами, белыми перламутровыми зубками, освещенная ярким полуденным солнцем из открытого иллюминатора, как наклонилась она над альбомом жарко дышащей грудью – вспыхнул я, как солома на огне.
И уж буду с вами откровенен до конца – до того захотелось мне поцеловать эту прекрасную девушку, что чуть не до крику.
Собственно, другой на моем месте, может быть, и сделал бы это, потому что девушка относилась ко мне чрезвычайно ласково, но, как я вам говорил уже, характер у меня был дико застенчив. Как так? Среди бела дня вдруг ни с того ни с сего – чмок! Еще если была бы темная ночь – тогда не так стыдно… А то как назло: солнце нагло лезло всеми своими лучами, как осьминог лапами, прямо в открытый иллюминатор, так что я мог пересчитать все вьющиеся мягкие волосики на ее склоненном затылке…
И воззвал я ко Господу:
– Всемогущий! Если для тебя действительно нет ничего невозможного – пошли сейчас ночную тьму, чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующие меня чувства!
Не успел я вознести к Богу эту краткую молитву, вдруг – трах! В каюте наступает мгновенно такая темнота, что хоть глаз выколи… Не помня себя, я хватаю любимую девушку в объятия, целую, и – о счастье! – она отвечает мне таким же горячим поцелуем!! Оказалось, что я ей давно уже не только не противен, а совсем даже наоборот…
Божье чудо!
Новакович умолк, благоговейно склонив голову на ковер и бросая косые взгляды на Яблоньку, заливавшуюся самым беззаботным, безоблачным смехом.
– Послушай, Новакович, – значительно начал Кузя. – Я в течение нашего знакомства выслушал много твоих историй, но эта сегодняшняя история… гм!! Не находишь ли ты, что всему на свете все-таки должны быть какие-нибудь границы?!
– Почему? А что тут невероятного? – хладнокровно пожал плечами Новакович.
– Не будешь же ты утверждать, проклятая Эйфелева башня, – заревел выведенный из своего дремотного состояния Кузя, – что ради твоего поцелуя на небе погасло солнце?! Осмелься сказать это – и ваза с крюшоном будет у тебя на голове!!
– Нет, солнце не погасло.
– Значит, вы оба на несколько минут ослепли?!
– Зрение наше было в совершеннейшем порядке.
– Телохранитель, – вступился Меценат, увидев, что Кузя потерял все свое безмятежное спокойствие и вотвот готов броситься на Новаковича. – Телохранитель! Если ты нас не дурачишь, то объясни же: откуда среди бела дня вдруг спустилась ночь?
– Ах, простите, я и забыл сказать вам! Дело в том, что у борта парохода резвилась стая дельфинов… И вот один, наиболее прыткий, подпрыгнул выше других и, попав в иллюминатор моей каюты, плотно заткнул своим туловищем отверстие иллюминатора, каковым поступком произвел совершеннейшую темноту, столь благоприятствовавшую ворам и влюбленным. То, что я рассказал, факт! Можете проверить у капитана! Он теперь плавает на «Императрице Екатерине», Чайкин фамилия его.
Все прыснули со смеху, а Куколка поднял на Новаковича свои прозрачные, как лесное озеро, голубые глаза и воскликнул с увлечением:
– А вы знаете, Телохранитель, вот прекрасная тема для рассказа в эксцентричном английском стиле!
– Я думаю! Запишите, чтоб не забыть.
– Кузя, – скомандовал Меценат, выпив залпом бокал холодного крюшона и утирая усы. – Твоя очередь.
– Моя история коротка, – проворчал ленивый Кузя. – В ней нет ни девушек, ни дельфинов, а есть только —
ДВУНОГАЯ СОБАКА
О двуногой собаке я говорю не в ироническом смысле – это была настоящая собака, и жила она во дворе той гимназии, где я получил свое блестящее воспитание.
Когда я учился в третьем классе – это была обыкновенная четвероногая собака, но когда я перешел, засыпанный наградами, в четвертый класс (хотя моя карьера и не имела прямого отношения к трагическому случаю с псом), то однажды этот ординарный пес потерпел самое оригинальнейшее крушение! Именно: перебегая дорогу, попал под автомобиль, да так попал, что колесом ему начисто отрезало переднюю левую и заднюю правую лапу.
– Какой ужас, – покачала головой сердобольная Яблонька. – Неужели издох?!
– В том-то и дело, сударыня, что выжил! Мы, гимназисты, его и лечили. Но тут вот и начинается самое диковинное: остался он, псенок этот, с одной правой передней к левой задней ногой, причем ходить, конечно, не мог. Это, знаете, как стол, у которого отломаны две ножки по диагонали. Никак его, черта, не поставишь. Но прошло некоторое время – и собака наша стала показывать чудеса… Лежит, бывало, у стенки, греется на солнышке, вдруг – свистнешь ее! Подползет она на брюхе к стенке, обопрется об нее боком да вдруг как побежит!!
– Послушай, Кузя, да ведь это невозможно!
– Почему невозможно?! Она бегала по принципу двухколесного велосипеда: сразу приобретала инерцию и мчалась как сумасшедшая! Но стоило ей только остановиться, как она сваливалась набок, тоже вроде двухколесного велосипеда! И так как ноги ее были расположены не на одной линии с направлением туловища по оси, а вкось, по диагонали, то она бегала не прямо, а всегда загибала самые крутые виражи.
Кузя поглядел на Новаковича с убийственной иронией и закончил:
– Я вижу, что вы мне не совсем верите, но утверждаю, что собака такая была, и, как любит говорить Новакович, это легко проверить: ее звали Лорд! А владельца звали – Гусаков! Он теперь тоже плавает где-то, на чем-то.
После некоторого молчания – дани общего удивления странной Кузиной собаке – перст Мецената направился на Мотылька:
– Твоя очередь, Мотылек. Твой стиль обладает большими литературными достоинствами, и поэтому ты не будешь калечить собак или затыкать дельфинами иллюминаторы! Алло! Мы слушаем.
– Моя история не будет веселой, потому что я нынче настроен не особенно хорошо, хотя коронование Куколки для меня большой праздник! Кстати, Куколка! Благополучно ли вы несете ваши секретарские обязанности?
– О спасибо! Я вам бесконечно благодарен. С редактором мы ладим, хотя знаете что? Он мне говорил, что собирается оставить «Вершины»… Его приглашают редактировать большую ежедневную газету. Хотите, я вас помирю, и он устроит вам в газете заведывание литературным отделом?
– Нет, где там! Я его так тогда отделал, что придется мне жить отдельно от этого отдела – простите за плохой каламбур. А за вас я рад, очень рад, Куколка! Вы оправдываете мои надежды!
Мотылек собрал лицо в клубок морщин, странно поглядел на Куколку и сказал:
– Однако к делу. Моя история под стать моему настроению – будет во вкусе болезненного, причудливого, как орхидея, художника Гойи. Тем более что и в истории этой главное действующее лицо – художник! Итак —
О ХУДОЖНИКЕ, КОТОРЫЙ НЕ МОГ ПОПАСТЬ ДОМОЙ
Я, подобно Меценату, люблю побродить по разным трущобам, поэтому да не покажется вам удивительным, что однажды судьба, прихоть и ноги занесли меня в мрачный трактиришко на Обводном канале, нечто подобное той «Иордани», где Телохранитель при первом знакомстве удержал Мецената от карточной игры с елейным убийцей…
Трактир, в который я попал, был переполнен публикой, плохо одетой и еще хуже воспитанной, что неопровержимо доказывалось двумя висящими на стене суровыми плакатами:
«ЗА ПОТРЕБОВАННОЕ ПЛАТИТЬ ВПЕРЕД»
и
«ЗА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ГОСТЕЙ, ПОЛОЖЕННЫЕ НА СТОЛ, ХОЗЯИН НЕ ОТВЕЧАЕТ».
Я полчаса просидел среди шумливой рвани, попивая скверное теплое пиво, как вдруг мое внимание приковал к себе один человек, сидевший налево от меня в полутемном углу этого прокопченного дымом и пропитанного зловонием устаревших кушаний трактира.
Лицо этого человека было бело как мел, утлы рта опустились в какой-то невыносимой смертельной тоске, а глаза угрюмо и будто испуганно сверкали из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы. Он тоже поглядел на меня длинным тяжелым взглядом из своего угла и вдруг задал странный вопрос:
– А вы чего сюда пришли?
Вот это маленькое словечко «а» впереди фразы и особое ударение на местоимении «вы» главным образом и поразило меня. Благодаря этому фраза приобретала определенную окраску: «Я, мол, пришел сюда потому, что иначе не могу, а какие дьяволы тебя принесли в такое место?»
– Я зашел случайно – люблю понаблюдать низы, – вежливо отвечал я на его странный вопрос. – II потом, не находите ли вы, что в этой грязи и отчаянности падения есть своего рода живописность?
– Не правда ли? – ответил он, забирая свою бутылку вина и перекочевывая к моему столику. – Но на этакую картину ни кармина, ни берлинской лазури не потребуется ни капельки – сплошная сепия и терр-де-сиена, с щедрой примесью жженой кости!
– Вы художник?
– Художник. Слушайте, будем пить и разговаривать – у меня есть деньги, я вас угощу. Только, пожалуйста, разговаривайте, разговаривайте больше!..
– Что это, у вас как будто странное настроение? – с любопытством спросил я.
– Ничего не странное! Ничуть не странное – самое обыкновенное! Но… будем разговаривать! Говорите чтонибудь – не могу выносить молчания.
Я принялся рассказывать ему какой-то вздор, и он слушал меня с интересом, даже иногда оживлялся, но сейчас же потухал, и уголки его губ опускались самым демонски угрюмым образом.
«Черт его знает, – подумал я, – не убил ли нынче этот Веласкес какого-нибудь человека?»
– Слушайте, – вдруг спросил я, оглядываясь на шумевшую сзади толпу оборванцев, среди которой я чувствовал некоторую опору в безумной смелости моего вопроса. – Вы сегодня никого не убили?
Нисколько не удивившись моему дикому вопросу, он болезненно поморщился и заторопился:
– Нет, тут не то. Это совсем другое! Впрочем, о смерти не стоит. Вы же сейчас говорили об Анатоле Франсе! Вернемся к Анатолю Франсу.
Вернулись мы к Анатолю Франсу, потом перешли к Малларме, переехали на Барбе д'Оревильи – всех трех странный художник знал превосходно.
Особенно взволновала и растрогала его история, которую я незадолго до этого прочитал во французских газетах: однажды на рассвете на скамейке одного из бульваров Парижа нашли мертвого старика, как потом оказалось, поэта. И в карманах его ничего не обнаружили – ни денег, ни документов, – кроме трех вещей: свертка рукописных стихов, штопора для откупоривания бутылок и пряди тонких женских белокурых волос, завернутых в полуистлевшую бумажку. Вот что было в кармане трупа на бульварной скамейке. Смерть настоящего поэта!








