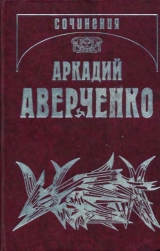
Текст книги "Том 1. Веселые устрицы. Рассказы 1908-1910"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 52 страниц)
Снова сидела Бронзова у Ошмянского… Он целовал ее волосы, и у него на горячих губах таяли снежинки, запутавшиеся в волосах и не успевшие еще растаять. Потому что был уже декабрь.
– Володя…
– Да?
– Ну, что же с документами?
– С какими? Ах, да! Все собирался. Надо действительно будет поскорее написать. Завтра утром обязательно напишу.
– Спасибо, милый!.. Володя…
– Да?
– Ты хотел бы, чтобы мы вместе жили?
– Вместе? Это было бы хорошо.
– Хочешь ко мне переехать?
– Нет, что ты… Ведь я тебя стесню. Ты дома работаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебе мешать…
– Володя… Ну, я к тебе перееду… Хочешь?
– Дурочка! Да ведь у меня еще теснее. Я пишу, ты разучиваешь роли, – оба мы будем друг другу мешать… Понимаешь, иногда хочется быть совершенно одному со своими мыслями.
Она притихла. Отвернулась и молчала – только плечи ее тихо вздрагивали.
– Катя! Ты плачешь? Глупая… Из-за чего, право?.. Это такой пустяк!
– М…не т-ак хо-те-лось…
– Ну хорошо, ну, будет по-твоему… Переезжай.
– Милый! Ты такой хороший, добрый…
И сквозь слезы, как солнце сквозь капли дождя, проглянула счастливая улыбка…
Глава VIIIСидели в ресторане: Бронзова, Ошмянский и приятель, Тутыкин.
– Володя! Ну что, получил уже документы?
– Понимаешь, написал я все честь-честью – и до сих пор никакого ответа. Работы у них много, что ли?.. У нас теперь что? 14-е февраля? Ну, думаю, к концу месяца вышлют.
– Напиши им еще.
– Конечно, напишу.
Она посмотрела на него ласковым, любящим взором и сказала:
– А знаешь, что тебе очень пошло бы? Бархатная черная куртка. У тебя бледное матовое лицо, и куртка будет очень эффектна. Закажи. Хорошо?
– Да когда же я ее буду носить?
– Когда угодно! Ты ведь писатель – и имеешь право. В гости, в театр, в ресторан…
– Не слишком ли это будет бить на дешевый эффект?..
– Нет, нет! Володя… Я хочу!
– Ну, если ты хочешь, не может быть никакого разговора. Закажу.
В ту же ночь приятель Тутыкин, сидя в дружеской компании, говорил, усмехаясь:
– Совсем погибла эта размазня Ошмянский! Попал в лапы такой бабы, что она его в бараний рог скрутила.
– Красивая?
– Красивая. И острая, как бритва.
Глава IXКогда Бронзова и Ошмянский вышли из ресторана, он сказал ей очень нежно:
– Катя… Я тебя завезу к нам домой, а сам поеду…
– Куда же? Ведь клуб уже закрыт.
– А… видишь… Мне пописать хочется. Настроение нашло.
– Ну-у-у?
– Ах, да! Я тебе не говорил! Понимаешь, я снял две маленьких комнатки и иногда утром, иногда днем удаляюсь туда поработать. Тихо, хорошо.
– Володя! – всплеснула руками Бронзова. – Да ведь это выходит, что я выгнала тебя из твоей квартиры?
– Ну, что ты… Какой вздор! Просто я иногда должен оставаться один. Знаешь, мы ведь, писатели, преоригинальный народ! Я заеду сейчас с тобой к нам и заберу кое-что: письменный прибор, лампу и одеяло. Подушки там есть.
Глава X– Володя! Заказал куртку?
– Да, был я у портного… Так мы ни до чего и не договорились. Он, видишь ли, не знает, какой фасон… и вообще.
– Ну, едем вместе! Сейчас мы это все и устроим! Эх ты, кисель мой ненаглядный… Документы уже получил?
– Написал снова. Боюсь, не затерялись ли они гденибудь. На почте, что ли?!
– Дома сегодня будешь?
– То есть где? У тебя? Да. Заеду чайку напиться. А потом к себе покачу: повесть нужно закончить… У себя же и заночую…
Глава XI– Смотри, Володя, как кстати: мы собираемся к Тутыкиным, и тебе принесли бархатную куртку. Воображаю, как она тебе к лицу. Надень-ка ее. И я пойду переодеться.
Бронзова ушла, а Ошмянский взял куртку, положил ее на диван и потом, взяв перочинный нож, распорол под мышкой прореху вершка в два.
Сделав печальное лицо, пошел к Бронзовой.
– Чтоб его черти съели, этого портного! Сделал такой узкий рукав, что он под мышкой лопнул.
– Ну, давай я зашью.
– Стоит ли? Опять лопнет. Тем более что воротнички без отворотов у меня дома, а на этот воротничок – надеть трудно…
Глава XIIОшмянский только что приготовил бумагу для рассказа и вывел заглавие, как в комнату постучались.
– Кто там?
Дверь скрипнула – вошла Бронзова. Она была очень бледна, только запавшие глаза горели мрачным, нехорошим огнем.
– Прости, что я врываюсь к тебе. Ведь эти комнаты, я знаю, ты снял специально для того, чтобы быть одному… Но – не бойся. Я пришла сюда в первый и последний раз…
– Катя! Что случилось?
– Что? – Она упала головой на спинку кресла и горько заплакала. – Что? – Улыбнулась печально сквозь слезы и пошутила: – Ты победил меня, Галилеянин…
– Катя! Чем?!.. Что ты говоришь?
– Ну, полно… Все равно я ухожу уже навсегда, и поэтому довольно всяких разговоров и вопросов… Помнишь, при первом знакомстве я назвала тебя киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я – бритва, я хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право – руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни… Но что же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую, аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное – но киселя разрезать бритва не может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому ухожу!
– Катя, голубка! Что ты! Опомнись. Ну, побрани меня. Но зачем же уходить? Разве я не любил тебя? Не поступал, как ты хотела?
– Молчи!! Знаешь, как ты поступал? Я хотела, чтобы мы поженились – прошло одиннадцать месяцев – где это? Я хотела, чтобы мы жили вместе – ты согласился… Где это? Пустяк: мне хотелось видеть тебя в бархатной куртке – носишь ты ее? Что вышло?! О, ты со всем соглашался, все с готовностью обещал. Но что вышло… Я, женщина с сильным характером, энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой в твоих руках! Прочь! Не подходи ко мне!!! Ну?
Он протянул к ней руки, но она взглянула на него испепеляющим взглядом, повернулась и – ушла. Навсегда.
Одну минуту он стоял ошеломленный. Потом потер голову, подошел к письменному столу и склонился над чистой бумагой.
Долго сидел так. Потом пробормотал что-то. Неясное, нечленораздельное бормотание скоро стало принимать форму определенных слов. И даже рифмованных…
«В один чудесный день,
Когда ложилась тень,
Ко мне пробрался кирасир…»
А потом это бормотание перешло в мелодичный свист, и Ошмянский с головой погрузился в работу…
Юмор для дураков
Это был солидный господин с легкой наклонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.
– Вот вы писатель, – сказал он мне, познакомившись. – Писатель-юморист. Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..
– О, помилуйте… – скромно возразил я.
– Нечего там скромничать. Расскажите мне какуюнибудь смешную штуку… Я это ужасно люблю.
– Позвольте… Что вы называете «смешной штукой»?
– Ну, что-нибудь такое… юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава Богу – специалист, кажется! Ну, ну, не скромничайте!
– Видите ли… Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».
– Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете… Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..
Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:
– Ну, слушайте… Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца, и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» – ответил: «Я его видел в трактире… Он сидит там с пеной у рта». – «Сердится, что ли?» – «Нет, ему подали новую кружку пива».
Не скажу, чтобы эта «смешная штука» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.
Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:
– Ну?
– Что «ну»?
– Что же дальше?
– Да это все.
– Что же отец… вернулся домой?
– Да это не важно. Вернулся – не вернулся… Все дело в ответе мальчика.
– А что, вы говорите, он ответил?
– Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.
– Ну?
– Видите ли… Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил то, что называется, буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «Отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это – фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.
– Фигуральное?
– Да.
– Взбесило?
– Да!
– Ну?
– Что еще такое – «ну»?
– Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.
– Ну да.
– Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится… Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры.
– Что-о?..
– Я говорю, трактиры. Если еще холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств – так трудновато… Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жиру, быть бы живу.
Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.
Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное автор имеет право на некоторое поощрение.
Поэтому он принялся смеяться:
– Ха-ха-ха! Уморил! Ей-богу, уморил; папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится… А мать-то, мать-то! В каких дурах… О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.
«Э, милый, – подумал я. – Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».
– Ну я вас прошу, расскажите еще что-нибудь…
– Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов… Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю и – что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколота записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст – попробуйте-ка догнать».
Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на меня и сказал:
– Ну и что же? Догнал он похитителя или нет? Я вздохнул и начал терпеливо:
– Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.
– Важнее?
– Да.
– Сколько он там написал, что пробежит в час?
– Пятнадцать верст.
– Это много считается?
– Порядочно.
– А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?
– Не знаю.
– Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время? Теперь-то ведь в передних ресторанов всюду швейцары, которые и отвечают за пропажу вещей.
– Да.
– Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше, а?
– Да.
Мы помолчали.
– Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его? Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал да не свернул ли с дороги, а то мог просто припрятать зонтик да и отпереться от всего: «Знать не знаю, ведать не ведаю – никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».
– Да.
По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов почуял, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему обыкновению, щедро вознаградить меня смехом, неожиданно захохотал.
– Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну и уморил. Выходит он – где зонтик? Хвать-похвать, ан зонтика-то и нет. Ну и ловкие ребята бывают. Прямо-таки пальца в рот не клади. И откуда вы столько смешных штучек знаете? Ну, расскажите еще что-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, миленький…
– Рассказать? – прищурился я. – Извольте! Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим супом опрокинулась на тещу, – и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка, с башмаком во рту…
Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий, страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы.
– О-ох, – визжал он тонким голосом. – Довольно. Ради Бога довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..
* * *
Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки, и влюбленные парочки; свадебный обед, участникам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чесания»; молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в таком положении по людной улице… Для чего и кому все это нужно? – я не понимал.
Теперь – понимаю.
Функельман и сын
(Рассказ матери)
Я еще с прошлого года стала замечать, что мой мальчик ходит бледный, задумчивый. А когда еврейский мальчик начинает задумываться – это уже плохо. Что вы думаете, мне обыск нужен, что ли, или что?
– Мотя, – говорю я ему, – Мотя, мальчик мой! Чего тебе так каламитно?
Так он поднимет на меня свои глаза и скажет:
– Что значит – каламитно! Ничего мне не каламитно!
– Мотя! Чего ты крутишь? Ведь я же вижу.
– Ой, – говорит, – отстань ты от меня, мама! У меня скоро экзамен на аттестат зрелости, а потом, у меня есть запросы.
Обрадовал! Когда у еврейского мальчика появляются запросы, так господин околоточный целую ночь не спит.
– Мотя! Зачем тебе запросы? Что, их на ноги наденешь, когда башмаков нет, или на хлеб намажешь вместо масла? «Запросы, запросы»! Отцу твоему сорок шестой год – он даже этих запросов и не нюхал. И плохо, ты думаешь, вышло? Пойди поищи другой такой галантерейный магазин, как у Якова Функельмана! Нужны ему твои запросы! Он даже картоночки маленькие по всему магазину развесил: «Цены без запроса»!
– Мама, не мешай мне! Я читаю.
– Он читает! Когда он читает, так уже мать родную слушать не может. Я через тебя, может, сорок две болячки в жизни имела, а ты нос в книжку всунул и думаешь, что умный, как раввин. Гениальный ребенок.
Вижу – мой Мотя все крутит и крутит.
– Что ты крутишь?
– Ничего я не кручу. Не мешай читать.
Что это он там такое читает? Ой! Разве сердце матери это камень – или что? Я же так и знала! «Записки Крапоткина»!
– Тебе очень нужно знать записки Крапоткина, да? Ты будешь больной, если ты их не прочтешь? Брось сейчас же!
– Мама, оставь, не трогай. Я же тебя не трогаю. Еще бы он родную мать тронул, шейгец паршивый! И так мне в сердце ударило, будто с камнем. Куда, вы думаете, я сейчас же побежала? Конечно, до отца.
– Яков! Что ты тут перекладываешь сорочки? Убежат они, что ли, от тебя – или что? Он должен обязательно сорочки перекладывать…
– А что?
– Ты бы лучше на Мотю посмотрел.
– А что?
– Ему надо читать «Записки Крапоткина», да?
– А что?
– Яков! Ты мне не крути. Что ты мне крутишь! Скандала захотел, обыска у тебя не было, да?
– А что?
Это не человек, а дурак какой-то. Еще он мне должен голову крутить!
– Что тебе нужно, чтобы твой сын в тюрьме сидел? Тебе для него другого места нет? Надевайся, пойдем домой!
Вы думаете, что он делал, этот Мотя, когда мы пришли? Он читал себе «Записки Крапоткина».
– Мотька! – кричит Яков. – Брось книгу!
– А вы, – говорит, – ее подымете?
– Брось, или я тебя сию минуту по морде ударю. И как вы думаете, что ответил этот Мотя?
– Попробуй! А я отравлюсь. Это запросы называется!
– А, чтоб ты пропал! Тебе для матери книжку жалко. Тебя кто рожал – мать или Крапоткин?
– А что вы, – говорит Мотя, – думаете? Может, я, благодаря ему, второй раз на свете родился.
Ой, мое горе! Я заплакала, Яша заплакал, и Мотя тоже заплакал. Прямо маскарад!
Вышли мы с Яшей в спальню, смотрим друг на друга.
– Хороший мальчик, а? Ему еще в носе нужно ковырять, а он уже Крапоткина читает.
– Ну что же?
– Яша! Ты знаешь что? Нашего мальчика нужно спасти. Это невозможно.
Так Яша мне говорит:
– Что я его спасу? Как я его спасу? По морде ему дам? Так он отравится.
– Тебе сейчас – морда. Интеллигентный человек, а рассуждает как разбойник. Для своего ребенка головой пошевелить трудно. Думай!
Яков сел, стал думать. Я села, стала думать. Ум хорошо, а два еще лучше.
Думаем, думаем, хоть святых вон выноси.
– Яша!
– А что?
– Знаешь что? Нашего ребенка нужно отвлечь.
– Ой, какая ты умная – отвлечь! Чем я его отвлеку? По морде ему дам?
– Ты же другого не можешь! Для тебя Мотькина морда это идеал!.. Он ребенок живой – его чем-нибудь другим заинтересовать нужно… Нехай он влюбится – или что?
– Какая ты, подумаешь, гениальная женщина! А в кого?
– Ну, пусть он побывает в свете! Поведи его в кинематограф или еще куда! Что, ты не можешь повести его в ресторан?
– Нашла учителя! Что, я бывал когда-нибудь в ресторане? Даже не знаю, как там отворять дверей.
– Что ты крутишь? Что ты мине крутишь? Тебе это чужой ребенок? Это крапоткинское дитё, а не твое? Такой большой дурак и не может мальчика развлекать.
Так пошел он к Моте, стал крутить:
– Ну, Мотечка, не сердись на нас. Пойди с отцом немного пройдись. Я ведь же тебя люблю – ты такой бледненький.
Ну, Мотька туда-сюда – стал крутить: то дайте ему главу дочитать, то у него ноги болят.
– Хороший ребенок! Книжку читать – ноги не болят, а с отцом пройтись – откуда ноги взялись. Надевай картузик, Мотенька, ну же!
Похныкал мой Мотенька, покапризничал – пошел с папой.
Они только за двери – я сейчас же к нему в ящик… Боже ты мой! И как это у нас до сих пор обыска не было – не понимаю! За что только, извините, полиция деньги получает?.. И Крапоткины у него, и Бебели, и Мебели, и Малинины, и Буренины – прямо пороховой склад. Эрфуртских программ – так целых три штуки! Как у ребенка голова не лопнула от всего этого?!
Ой, как оно у меня в печке горело, если бы вы знали! Быка можно было зажарить.
В одиннадцать часов вечера вернулись Яша с Мотей, а на другое утро такой визг по дому пошел, как будто его резали.
– Где мои книги?! Кто имел право брать чужую собственность! Это насилие! Я протестуюсь!!
Функельманы, это верно, любят молчать, но когда они уже начинают кричать – так скандал выходит на всю улицу.
– Что ты кричишь, как дурак, – говорит Яков. – От этого книжка не появится обратно. Пойдем лучше контру сыграем.
– Не желаю я вашу контру, отдайте мне моего Энгельса и Каутского!
– Мотя, ты совсем сумасшедший! Я же тебе дам фору – будем играть на три рубля. Если выиграешь, покупай себе хоть десяток новых книг.
– Потому только, – говорит Мотя, – и пойду с тобой, чтобы свои книги вернуть.
Ушли они. Пришли вечером в половине двенадцатого.
– Ну что, Мотя? – спрашиваю. – Как твои дела?
– Хорошие дела, когда папаша играет, как маркер. Разве можно при такой форе кончать в последнем шаре? Конечно же, он выиграет. Я не успею подойти к биллиарду, как у него партия сделана.
Ну, утром встали они, Мотя и говорит:
– Папаша, хочешь контру?
– А почему нет?
Ушли. Слава Богу! Бог всегда слушает еврейские молитвы. Уже Мотя о книжках и не вспоминает.
Раньше у него только и слышишь: «Классовые перегородки, добавочная стоимость, кооперативные начала…»
А теперь такие хорошие русские слова: «Красный по борту в лузу, фора, очко, алагер…» Прямо сердце радовалось.
Ну, пришли они в двенадцать часов ночи – оба веселые, легли спать.
Пиджаки в мелу, взяла я почистить – что-то торчит из кармана. Э, программа кинематографа! Хе-хе! После Эрфуртской программы это, знаете, недурно. Бог таки поворачивает ухо к еврейским молитвам!
Ну, так у них так и пошло: сегодня биллиард, завтра биллиард и послезавтра – тоже биллиард.
– Ну, – говорю я как-то, – слава Богу, Яша… Отвлек ты мальчика. Уже пусть он немного позанимается. И ты свой магазин забросил.
– Рано, – говорит Яша. – Еще он еще вчера хотел открытку с видом на Маркса купить.
Ну, рано так рано.
Уже они кинематограф забросили, уже программки цирка у них в кармане.
Еще проходит неделя – кажется, довольно, мальчик отвлекся.
– Мотя, что же с экзаменом? Яша, что же с магазином?
– Еще не совсем хорошо, – говорит Яша, – подождем недельку. Ты думаешь, запросы так легко из человека выходят?!
Недельку так недельку. Уже у них по карманам не цирковая программа, а от кафешантана – ужасно бойкий этот Яша оказался…
– Ну, довольно, Яша, хватит! Гораздо бы лучше, чтобы Мотя за свои книги засел.
– Сегодня, – говорит Яша, – нельзя еще, мы одному человечку в одном месте быть обещали.
Сегодня одному человечку, завтра другому человечку… Вижу я, Яков мой крутить начинает.
А один раз оба этих дурака в десять часов утра явились.
– Где вы были, шарлатаны?
– У товарища ночевали. Уже было поздно, и дождик шел, так мы остались.
Странный этот дождик, который на их улице шел, а на нашей улице не шел.
– Я, – говорит Яша, – спать лягу, у меня голова болит. И у Моти тоже голова болит; пусть и он ложится.
Так вы знаете что? Взяла я их костюмы, и там лежало в карманах такое, что ужас: у Мотьки – черепаховая шпилька, а у Яши – черный ажурный чулок.
Это тоже дождик?!
То Эрфуртская программа, потом кинематографическая, потом от цирка, потом от шантана, а теперь такая программа, что плюнуть хочется.
– Яша! Это что значит?
– Что? Чулок! Что ты, чулков не видала?
– Где же ты его взял?
– У коммивояжера для образца.
– А зачем же он надеванный? А зачем ты пьяный? А зачем у Мотьки женская шпилька?
– Это тоже для образца.
– Что ты крутишь? Что ты мине крутишь? А отчего Мотька спать хочет? А отчего в твоей чековой книжке одни корешки? Ты с корешков жить будешь? Чтоб вас громом убило, паршивцев!
И теперь вот так оно и пошло: Мотька днем за биллиардом, а ночью его по шантанам черти таскают. Яшка днем за биллиардом, а ночью с Мотькой по шантанам бегает. Такая дружба, будто черт с веревкой их связал. Отец хоть изредка в магазин за деньгами приедет, а Мотька совсем исчез! Приедет переменить воротничок – и опять назад.
Наш еврейский бог услышал еврейскую молитву, но только слишком; он сделал больше чем надо. Так Мотька отвлекся, что я день и ночь плачу.
Уже Мотька отца на биллиарде обыгрывает и фору ему дает, а этот старый осел на него не надыхается.
И так они оба отвлекаются, что плакать хочется. Уже и экзаменов нет, и магазина нет. Все они из дому тащут, а в дом ничего. Разве что иногда принесут в кармане кусок раздавленного ананаса или половинку шелкового корсета. И уж они крутят, уж они крутят…
* * *
Вы извините меня, что я отнимаю время разговорами, но я у вас хотела одну вещь спросить… Тут никого нет поблизости? Слушайте! Нет ли у вас свободной Эфуртской программы или Крапоткина? Что вы знаете, утопающий за соломинку хватается, так я бы, может быть, попробовала бы… Вы знаете что? Положу Моте под подушку, может, он найдет и отвлечется немного… А тому старому ослу – сплошное ему горе – даже отвлекаться нечем! Он уже будет крутить, и крутить, и крутить до самой смерти…








