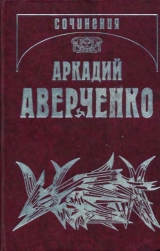
Текст книги "Том 1. Веселые устрицы. Рассказы 1908-1910"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 52 страниц)
первое разочарование
Не знаю, кто из нас был большим ребенком, – я или мой отец.
Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бурное проявление восторга, как отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю Святую неделю и, может быть (в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну), останется и до мая.
Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не подал виду.
Подумаешь, зверинец! Какие там звери? Небось, и агути нет, и гну, и анаконды – матери вод, не говоря уж о жирафах, пеккари и муравьедах.
– Понимаешь – львы есть! Тигры! Крокодил! Удав! Укротители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говорили. Вот это, брат, штука! Индеец там есть – стрелок, и негр.
– А что негр делает? – спросил я с побледневшим от восторга лицом.
– Да уж что-нибудь делает, – неопределенно промямлил отец. – Даром держать не будут.
– Какого племени?
– Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный, как ни поверни. На первый день Пасхи пойдем – увидишь.
Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную кумачовую с желтыми украшениями отделку балагана? Кто оценит симфонию звуков хриплого аристона, хлопанья бича и потрясающего рева льва?
Где слова для передачи сложного дивного сочетания трех запахов: львиной клетки, конского навоза и пороха?..
Эх, очерствели мы!..
Однако когда я опомнился, многое в зверинце перестало мне нравиться. Во-первых – негр.
Негр должен быть голым, кроме бедер, покрытых яркой бумажной материей. А тут я увидел профанацию: негра в красном фраке, с нелепым зеленым цилиндром на голове. Во-вторых, негр должен быть грозен. А этот показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты, и вообще относился ко всем очень заискивающе.
В-третьих – тяжелое впечатление произвел на меня Ва-пити, – индеец, стрелок из лука. Правда, он был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан перьями, как петух, но… где же скальпы? Где ожерелье из зубов серого медведя-гризли?
Нет, все это не то.
И потом: человек стреляет из лука – во что? – в черный кружок, нарисованный на деревянной доске.
И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его злейшие враги, бледнолицые!
– Стыдись, Ва-пити, краснокожая собака! – хотел сказать я ему. – Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледнолицые отняли у тебя пастбище, сожгли вигвам и угнали твоего мустанга. Другой порядочный индеец не стал бы раздумывать, а влепил бы сразу парочку стрел в физиономию вон тому акцизному чиновнику, сытый вид которого доказывает, что гибель вигвама и угон мустанга не обошлись без его содействия.
Увы! Ва-пити забыл заветы своих предков. Ни одного скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланялся на аплодисменты и ушел. Прощай, трусливая собака!
Чем дальше, тем больше падало мое настроение: худосочная девица надевала себе на шею удава, будто это был вязаный шерстяной платок.
Живой удав – и он стерпел это, не обвил негодницу своими смертоносными кольцами? Не сжал ее так, чтобы кровь из нее брызнула во все стороны?! Червяк ты несчастный, а не удав!
Лев! Царь зверей, величественный, грозный, одним прыжком выносящийся из густых зарослей и, как гром небесный, обрушивающийся на спину антилопы… Лев, гроза чернокожих, бич стад и зазевавшихся охотников, прыгал через обруч! Становился всеми четырьмя лапами на раскрашенный шар! Гиена становилась передними ногами ему на круп!..
Да будь я на месте этого льва, я так тяпнул бы этого укротителя за ногу, что он другой раз и к клетке близко бы не подошел.
И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь…
Прошу не осуждать меня за кровожадность… Я рассуждал, так сказать, академически.
Всякий должен делать свое дело: индеец снимать скальп, негр – есть попавших к нему в лапы путешественников, а лев – терзать без разбору того, другого и третьего, потому что читатель должен понять: пить-есть всякому надо.
Теперь я и сам недоумеваю: что я надеялся увидеть, явившись в зверинец? Пару львов, вырвавшихся из клетки и доедающих в углу галерки не успевшего удрать матроса? Индейца, старательно снимающего скальпы со всего первого ряда обезумевших от ужаса зрителей? Негра, разложившего костер из выломанных досок слоновой загородки и поджаривающего на этом костре мучного торговца Слуцкина?
Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое меня бы удовлетворило…
А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ликующим тоном:
– Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в гости хозяина, индейца и негра. Повеселимся.
Это была та же отцовская черта, которая приводила его к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем с отцом и съедали. Я – из любви к приключениям, он – из желания доказать всем домашним, что покупка его не носит определенного характера бессмысленности.
– Да-с. Пригласил. Интересные люди.
С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к себе Шаляпина.
Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо.
IIIвторое разочарование
смерть
Удар за ударом!
Индеец Ва-пити и негр Башелико явились к нам в серых пиджаках, которые сидели на них, как перчатка на карандаше.
Они по примеру хозяина зверинца христосовались с отцом и мамой.
Негр – каннибал – христосовался!
Краснокожая собака – Ва-пити, которого засмеяли бы индейские скво (бабы), – христосовался!
Боже, Боже! Они ели кулич. После жареного миссионера – кулич! А грозный индеец Ва-пити мирно съел три крашеных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию синим и зеленым цветом. Это – вместо раскраски в цвета войны…
Кончилось тем, что отец, хватив киевской наливки свыше меры, затянул «Виют витры, виют буйны», а индеец ему подтягивал!!
А негр танцевал с теткой польку-мазурку… Правда, при этом ел ее, но только глазами…
И в это время играл не тамтам, а торбан под умелой рукой отца.
А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал забыв своих львов и слонов.
Утром, когда еще все спали, я встал и, надев фуражку, тихо побрел по берегу бухты. Долго брел, грустно брел.
Вот и моя скала, вот и расселина – мое пище– и книгохранилище.
Я вынул Буссенара, Майн Рида и уселся у подножия скалы. Перелистал книги… в последний раз.
И со страниц на меня глядели индейцы, поющие: «Виют витры, виют буйны», глядели негры, танцующие польку-мазурку под звуки хохлацкого торбана, львы прыгали через обруч и слоны стреляли хоботом из пистолета…
Я вздохнул.
Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство…
Я вырыл в песке под скалой яму, положил в нее все томики француза Буссенара и англичанина капитана Майн Рида, засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт совсем другим взглядом… Пиратов не было и не могло быть; не должно быть.
Мальчик умер.
Вместо него – родился юноша.
В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями.
Детвора
Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов, – рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете. Рубрика эта – «Наши дети».
Соль острот «наши дети» всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился и как ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение.
Обыкновенно остроты «наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу:
– Бабушка, ты видела Лысую гору?
– Нет, милый.
– А как же папа говорил вчера, ты сущая ведьма? Или:
– Володя, поцелуй маму, – говорит папа. – Поблагодари ее за обед.
– А почему, – говорит Володя, – вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?
Или совсем просто:
– Дядя, ты лысый дурак?
– Что ты, Лизочка!
– Ну да. Мама, ты же сама вчера сказала папе, что дядя – лысый дурак.
Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть «дурным тоном литературы». Таков сюжет «наши дети».
Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о «наших детях».
От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Плешихина осталось немного денег.
Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал:
«Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Этакое что-нибудь с заводом и пружиной!»
Зашел в магазин.
– Дайте что-нибудь этакое для мальчишки восьмидевяти лет!
Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного жокея на собаке: собака перебирала ногами, а жокей качался взад и вперед и натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова.
Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь.
Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса. Приостановился…
О чем они там совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки, о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки… Обуреваемы любопытством – будет ли елка… О золотое детство!
Разговаривали трое: Ванька, Вова и Лидочка.
– Я все-таки, – говорил Ванька, – стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить? Пусть! Картонажами ее увешать хотят – пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность: мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну… можно даже попрыгать вокруг елки и съесть пару леденцов.
– А по-моему, просто, – сказал прямолинейный Вова, – нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это? Раз это тоска…
– Милый мой! Ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать, а отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет, он с детства привык к этому, без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика…
– И смешно, и противно, – усмехнулся Вова, – как это они нынче устраивали елку: заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажи, фонарики. Зачем? Что такое! Когда я, нарочно, спросил, что там делается, тетя Нина ответила: «Там маме шьют новое платье!..» Секрет полишинели!..
Все засмеялись.
– Братцы! – умоляюще сказал добросердечный Ванька. – Во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести – без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы: порадуем стариков.
Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал.
– Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!
Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке.
– Очень мило! – сказал Ваня, захлопав в ладоши. – Как живой! Спасибо, папочка.
– Тебе это нравится?
– Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться? Сработана на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень, очень мило.
– Ваничка!!
– Что такое?
– Милый мой! Ну, я тебя люблю – ну, будь же и ты со мной откровенен… Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?
Ванька смущенно опустил голову.
– Видишь ли, папа… Если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе: ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений (о, конечно, я не о себе говорю и не о Вове – о присутствующих не говорят). По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без глаз, потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову; а там, где за него все уже представлено мастером, договорено механиком, – там уму его и фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из вида и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться только чем-то доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу.
Понурив голову, молча, слушал сына чиновник Плешихин.
– Так… Та-ак! И елка, значит, как ты говорил давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам?
– Ах, ты слышал?.. Ну, что же делать!.. Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны…
Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, задумавшись.
Потом круто повернулся к сыну и сказал:
– Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду.
На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса.
– Пожалуйста! На твоей стороне сила – я знаю! И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать, – нужнее и важнее не для меня, а, главным образом, для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудности такого аргумента при споре, как сечение, драка… Это общее место. И если хочешь – я даже тебя понимаю и оправдываю… Ты устал, заработался, измотался, истратился, у тебя настроение подавленное, сердитое, скверное… Нужно на ком-нибудь сорвать злость – на мне или на другом – все равно! Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения – я покоряюсь и, добавлю, даже не сержусь. «Понять, – сказал философ, – значит простить».
Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер.
– Что с тобой, папа? Что ты делаешь?
– Секи ты меня, что уж там! – сказал чиновник Плешихин и тихо заплакал.
Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что все рассказанное – ни более ни менее как сонное видение чиновника Плешихина…
Заснул чиновник – и пригрезилось.
И, однако, сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими – как умные детишки отсталого чиновника…
Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого.
Сережкин рубль
как его заработал
Звали этого маленького продувного человечка: Сережка Морщинкин, но он сам был не особенно в этом уверен… Колебания его отражались даже на обложках истрепанных тетрадок, на которых иногда было написано вкривь и вкось:
«Сергей Мортчинкин».
То:
«Сергей Мортчинкен».
Эта неустанная, суровая борьба с буквой «щ» не мешала Сережке Морщинкину изредка писать стихи, вызывавшие изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовывались.
Писались стихи по совершенно новому способу… Таковы, например, были Сережкины знаменитые строфы о пожаре, устроенном соседской кухаркой:
До соседей вдруг донесся слух.
Что в доме номер три, в кух
Не, горел большой огонь,
Который едва-едва потушили.
Кухарку называли дурой Милли
Он раз, чтобы она смотрела лучше.
За эти стихи Сережкина мать оставила его без послеобеденного сладкого, отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчичья лошадь написала бы не хуже.
Сережка долго плакал в сенях за дверью, твердо решив убежать к индейцам, но через полчаса его хитрый, изобретательный умишко заработал в другом направлении… Он прокрался в детскую, заперся там и после долгой утомительной работы вышел, торжественно размахивая над головой какой-то бумажкой.
– Что это? – спросил дядя.
– Стихи.
– Твои? Хорошие?
– Да, это уж, брат, почище тех будут, – важно сказал Сережка. – Самые лучшие стихи.
Дядя засмеялся:
– А ну, прочти-ка.
Сережка взобрался с ногами на диван, принял позу, которую никто, кроме него, не нашел бы удобной, и, сипло откашлявшись, прочел:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая…
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, синем кушачке…
Ему больно и смешно,
А мать грозит ему в окно.
– Гм… – сказал дядя. – Немного бестолково, но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь?
– Уж сейчас и списал, – возразил Сережка, ерзая по дивану и пытаясь стать на голову. – На вас разве угодишь?
Дядя был в великолепном настроении. Он схватил Сережку, перевернул его, привел в обычное положение и сказал:
– Так как все поэты получают за стихи деньги – получай. Вот тебе рубль.
От восторга Сережка даже побледнел:
– Это… мне? И я могу сделать что хочу?
– Что тебе угодно. Хоть дом купи или пару лошадей. В эту ночь Сережке спалось очень плохо – рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий и благ, будил хитроумного мальчишку несколько раз.
сделка
Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в девять часов. Выбрался он из дому в восьмом часу и долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями…
Зайдя за угол, он вынул рубль, повертел его в руках и сказал сам себе:
– Интересно, сколько получится денег, если я его разменяю?
Зашел в ближайшую лавочку. Разменял.
Действительно, по количеству – монет оказалась целая уйма – чуть ли не в семь раз больше… но качество их было очень низкое – маленькие, потертые монетки, совсем не напоминавшие большой, толстый, увесистый рубль.
«Скверные денежки, – решил Сережка. – Их тут столько, что не мудрено одну монетку и потерять… Разменяю-ка я их обратно».
Он зашел в другую лавчонку с самым озабоченным видом.
– Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль.
– Извольте-с.
Новая мысль озарила Сережкину голову.
– А может… У вас бумажный есть?
– Рублевок не имеется. Есть трехрублевки.
– Ну, дайте трехрублевку.
– Это за рубль-то! Проходите, молодой человек. Опять в Сережкином кармане очутился толстый, тяжелый рубль. Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул головой:
«Даже лучше. Новее того. А много можно на него сделать: купить акварельных красок… или пойти два раза в цирк на французскую борьбу. – При этой мысли Сережка согнул правую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы. – А то можно накупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок – ничего – живешь-то ведь один раз».
В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой за затылок и так сжал его, что Сережка взвизгнул.
– Смерть приготовишкам! – прорычал зловещий голос. – Смерть Морщинкину.
По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарарыкина, первого силача третьего и даже четвертого класса – драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей первых трех классов.
– Пусти, Тарарыкин, – прохрипел Сережка, беспомощно извиваясь в железной руке дикого Тарарыкина.
– Скажи: «пустите, дяденька».
– Пустите, дяденька.
Удовлетворив таким образом свое неприхотливое честолюбие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его.
– Эх, ты, Морщинка – тараканья личинка. Хочешь так: ты ударь меня по спине, как хочешь, десять раз, а я тебя всего один раз. Идет?
Но многодумная голова Сережки работала уже в другом направлении. Необъятные радужные перспективы рисовались ему.
– Слушай, Тарарыкин, – сказал он после долгого раздумья. – Хочешь получить рубль?
– За что? – оживился вечно голодный, прожорливый третьеклассник.
– За то, что я тебя нарочно для примера поколочу при всех на большой перемене.
– А тебе это зачем?
– Чтоб меня все боялись. Будут все говорить: раз он Тарарыкина вздул, значит, с малым связываться опасно. А ты получишь рубль… Можешь на борьбу пойти… красок купить коробку…
– Нет, я лучше пирогов куплю по три копейки тридцать три штуки.
– Как хочешь. Идет?
В Тарарыкине боролись два чувства: самолюбие первого силача и желание получить рубль.
– Что ж, брат… А если я тебе поддамся, так меня уж всякий и будет колотить?
– Зачем? – возразил сообразительный Сережка. – Ты других лупи по-прежнему. Только пусть я силачом буду. А пироги-то… Ведь ты их целый месяц есть будешь.
– Неделю. Эх, Морщинка – собачья начинка, соглашаться, что ли?
Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках.
– Эх! – застонал Тарарыкин. – Пропадай моя славушка, до свиданья-с, моя силушка. Согласен.
И, размахнувшись, шлепнул Сережку ладонью по спине.
– Чего же ты дерешься?
– Так ведь чудак же: это в последний раз. Потом уж ты меня колошматить будешь.
И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов брюк…
драка
Ликующе прозвенел звонок на большую перемену, и широкая волна серых гимназических курточек и фуражек вылилась на громадный гимназический двор. Поднялся визг, крики и веселая суматоха.
Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников побольше, приблизился с самым невинным лицом и стал любоваться на состязание Мухина и Сивачева, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами, без помощи рук.
– Попробуй, Тарарыкин, – предложил Сивачев.
В это время юркий Сережка Морщинкин пробрался между ног взрослых учеников, просунул свой нос вперед и пропищал самым вызывающим образом:
– Куда этому тарарышке прыгнуть – у него сейчас и ноги отвалятся!
– Ты-ы! – угрожающе зарычал Тарарыкин. – Знай, с кем говоришь! Котлету из тебя сделаю!
– Котлету! Ах ты, кухарка свинячья!
– Отойди лучше, Морщинка, – получишь по затылку!
– Очень я тебя боялся! – лихо захохотал Сережка. – Попробуй-ка тронь только!
– Да и трону, – проворчал Тарарыкин.
– А ну, тронь!
– А что ж ты думаешь – не трону?
Сережка стал в боевую позу плечом к плечу с громадным Тарарыкиным и, задрав голову, сказал иронически:
– Тронь только – кто тебя у меня отнимать будет? Кругом засмеялись.
– Ай да Морщинка! Смотри, Тарарыкин, не струсь!
– Ну, что ж ты, Тартарарыка, небось только на маленьких силач. До меня-то и дотронуться боишься.
– Я? Тебя? Боюсь? На ж тебе, получай! Тарарыкин с силой размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот даже не пошатнулся.
– Съел?
– Это, брат, мне ничего, а вот ты попробуй! Сережка взмахнул маленьким кулачонком и – о чудо!
К ужасу и изумлению всех присутствующих, верзила Тарарыкин отлетел шагов на пять. Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин «переиграл», но простодушная публика не заметила этого.
– Ого! Ай да Сережка!
Тарарыкин с трудом встал, сделал преувеличенно страдальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению к Сережке.
– А-а, так ты так-то!
– Да-с. Вот так! – нахально сказал Сережка. – На-ка еще, брат!
Вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина и, насев на него, принялся обрабатывать толстую тарарыкинскую спину своими кулачонками.
Все были изумлены до чрезвычайности.
Когда избитый, стонущий Тарарыкин поднялся, все обступили его:
– Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался?
– Кто ж его знал, – отвечал добросовестный Тарарыкин. – Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки – железо. Когда он меня свистнул первый раз, я думал, что ноги протяну.
– Больно?
– Попробуй-ка. Завяжись сам с ним. Ну его к богу. Я его теперь и не трону больше…
после победы
Тарарыкин честно заработал деньги. Сережка сделался героем дня. Весть, что он поколотил Тарарыкина и что тот, как приготовишка, плакал (последнее было уже прибавлено восторженными поклонниками), – эта весть потрясла всех. Результаты Сережкиного подвига не замедлили сказаться.
К упоенному славой Сережке подошел первоклассник Мелешкин и принес ему горькую жалобу:
– Морщинкин! Ильяшенко дерется – дай ему хорошенько, чтобы не заносился.
– Ладно! – нахмурился Сережка. – Я это устрою. А что мне за это будет?
– Булку дам с ветчиной и четыре шоколадины в серебряной бумажке.
– Тащи.
Потом подошел Португалов:
– Здравствуй, Сережка. Сердишься?
– А то нет! Свинья ты! Жалко было цветных карандашей, что ли? Обожди! Попадешься ты мне на нашей улице!
Португалов побледнел и, похлопав Сережку по плечу, сказал:
– Ну, будет. Притащу завтра карандаши. Мне не жалко.
Три второклассника подошли вслед за Португаловым и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы. Получили снисходительное разрешение. Пощупали руку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было, но товарищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая.
– Ты что, упражнялся? – спросил Гукасов.
– Упражнялся, – сказал Сережка.
В конце концов Сережка, опьяненный славой, и сам поверил в свою нечеловеческую силу.
Проходил второклассник Кочерыгин, уплетая булку с икрой.
– Стой! – крикнул Сережка. – Отдай булку!
– Ишь ты какой! А я-то?
– Отдай, все равно отниму!
Кочерыгин захныкал, но, вспомнив о Тарарыкине, вздохнул, откусил еще кусочек булки и протянул ее Сережке.
– На, подавись!
– То-то. Ты смотри у меня. Я до вас тут до всех доберусь.
В это время проходил мимо Тарарыкин. Увидев Сережку, он сделал преувеличенно испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону. Хотя вблизи никого не было, но он, как добросовестный недалекий малый, считал своим долгом играть роль до конца.
– Боишься? – спросил заносчиво Сережка.
– Еще бы. Я и не знал, что ты такой здоровый.
И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль… А что, если… Тарарыкин действительно против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся, забыл об условии и решил пойти напролом… Насытившись славой, он пожалел о рубле, а так как руки его чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сережка со свойственной его характеру решимостью подскочил к Тарарыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал:
– Отдавай рубль!
– Что ты! – удивился Тарарыкин. – Ведь мы же условились…
– Отдавай! Все равно отниму!
– Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых – попробуй-ка.
На их спор собрались любопытные. Снова стали раздаваться комплименты по Сережкиному адресу.
И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкина по голове, потом ударил его в живот, но… Тарарыкин опомнился:
– Ты… вот как!
Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалось что-то соленое, губа вспухла, зловещее красноватое пятно засияло под глазом; оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет.
И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава… Сережка лежал избитый, в пыли и прахе, а мстительный Кочерыгин, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы; подошел Португалов, ткнул его в спину кулаком и сказал:
– Вот тебе цветные карандаши. Поросенок! Уныло, печально возвращался хитроумный Сережка домой; губа вспухла, щека вспухла, на лбу была царапина, рубль пропал бесследно, дома ожидала головомойка, настроение было отчаянное…
Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок… он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать… Но в передней его ждал последний удар.
Дядя поймал его за руку и сердито сказал:
– Ты что же это, мошенник, обманул меня? Это твои стихи? Списал у Пушкина да и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома – о цирке и зверинце забудь, а во-вторых – возврати-ка мне мой рубль.
Сердце Сережки упало…








