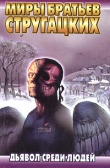Текст книги "Том 10. С.Витицкий, С.Ярославцев"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 51 страниц)
Ловко. Кто? Кто?! Военные? Вполне возможно. Они не любят меня. Так же, как и я их. И даже больше: я, в конце концов, готов их терпеть и терпеливо терплю...
...Нет. Не проходит. Не получается. Если бы это был военный заговор, командующий округом уж как-нибудь обеспечил бы мне вертолет лететь сюда. Вертолет бы уже стоял готовенький, с разогретым движком. Нет. Слишком уж все сложно в этом предположении получается. Авария на автостраде. Гроб Вакулин... Да и чего они от меня хотят? Убить? Давно бы уже убили. Прямо во дворе, по сю сторону стены. Сразу. В плен меня взять? Для чего я им сдался, пленный? И наконец, я ведь им не хрен моржовый, я – ХОЗЯИН. Что у них – по семь жизней отмерено?.. Он одернул себя.
– Никогда не надо суетис-са, – сказал он вслух с китайским прононсом, ни к кому специально не обращаясь – разве что к Ванечке. – Никогда не надо волновас-са: можно под машиной очутис-са или под трамваем оказас-са... Так. Где Виконт? – спросил он у генерала Малныча. – Где тут у вас мой Виктор Григорьевич?..
Он больше не испытывал страха. Беспокойство – было. Неприятное удивление – несомненно. Раздражение. Неудовольствие. Дискомфорт. Господи, вспомнил он, пошли мне трудную жизнь и легкую смерть... Любимая присказка Николаса. Которого уже нет и жизнь которого была трудной, а смерть, кажется, – легкой... Если это заговор, подумал он вскользь, значит, с Виконтом все о'кей. Не самый плохой из вариантов, между прочим...
Они уже шли по очередному кремовому коридору – впереди целеустремленный генерал Малныч, за ним Хозяин и где-то рядом, за пределами видимости, бесшумный Иван. А вот желтоглазого доктора в полковничьих бриджах уже с ними не было. Что любопытно. Зато невнятный многоголосый шум – нарастал, он уже не звучал на краю сознания, он заглушал шаги, но ни одного слова в этом человеческом гуле разобрать было по-прежнему нельзя. Гам. Это был гам.
Кремовый коридор вдруг сделался – белый. Взметнулся на пару лишних метров потолок, а вдоль коридора по потолку пошли на разумном друг от друга расстоянии белые матовые шары обыкновенных электрических ламп, висящие на белых же штырях. Возникла вдруг больница – не слишком шикарная, но вполне достойного образа, чистенькая, малонаселенная, белые халаты медсестер замаячили в отдалении, и медсестры эти вели себя тихо и не перекликались зычно и властно, как это у них водится в муниципальных заведениях для полудохлых пензиков. Все сделалось вокруг вполне пристойно и даже, пожалуй, роскошно, если бы не этот, гигантской подушкой задавленный, но явственный гам...
– Сюда, – пригласил генерал Малныч, отворяя перед высоким гостем аномально широкую белую дверь. – Нет-нет, – сказал он Ванечке. – Вы останьтесь здесь... извольте подождать... здесь больница, сударь!
Ванечка без труда преодолел его неумелое сопротивление, сунулся в дверь, только голову просунул и левое плечо, и тотчас же вернулся в коридор все с тем же меланхолически постным видом и прислонился к белой стене, словно он и не нарушал только что никаких запретов и вообще здесь ни при чем – тихий, послушный, безвредный парнишка, которого каждому ничего не составит обидеть.
Генерал сделался красен, но от свары удержал себя и, придерживая дверь, снова пригласил Хозяина внутрь, теперь уже без всяких слов, а лишь кивком и движением косматых своих бровей.
Он вошел и сразу же увидел Виконта.
Виконт спал – маленький, усохший старичок, лилипутик, морщинистый несчастный карлик, лысоватенький, плюгавый, жалкий. Он подумал: нельзя нам так подолгу не видеться. Мы убиваем в себе любовь. Я не могу любить этого старикашку, я его не знаю...
Это была – неправда. Он вдруг почувствовал, что плачет. Он ЗНАЛ этого человека. Он любил его, и жалел, и хотел бы умереть за него, словно им обоим снова было по двадцать лет. К черту, к черту, расквасился, глупость какая, все же в порядке: жив, спит, сопит себе в две щелочки... Он стеснялся вытереть слезы и поэтому плохо видел, он вообще плохо видел в минуты сильного душевного волнения, он двинулся к Виконту почти на ощупь, там кто-то сидел рядом с койкой, кто-то большой, в грязно-голубом фланелевом халате, он обогнул этот халат, встал над Виконтом, ощутил стул у своих ног и с облегчением опустился на него, привычно нашаривая поверх одеяла бессильную искалеченную руку.
Оказалось – вот странно! – что там были и еще чьи-то пальцы, на этой руке. Раздраженно отпихнув их, он завладел пальцами-крючочками, и когда они, неожиданно горячие и сильные, сжались, цепко ухватив его, словно цыплячья лапка, вцепились, ища жизни и защиты, только тогда он ощутил себя на месте и, уже не стесняясь, свободной рукою промокнул себе глаза. Все было правильно. Все заняли свои места и делали свое дело. Еще один круг замкнулся, и теперь уже совершенно ясно стало, что – обойдется. Теперь – обойдется.
Он поглядел на того, кто сидел рядом, и испытал вдруг беспокойство, сначала смутное, а потом – острое, как внезапная боль в кишках. Крупный вислоплечий парень. Молодой. Странно и тревожно знакомый. Очень бледное, голубоватое даже (словно гжельский фаянс) лицо, сонное, сонно-усталое, лишенное выражения лицо... хуже: лицо дебила... и все выражение его опущенной вялой фигуры и вялой руки, лежащей на одеяле там, куда он эту руку с раздражением отпихнул... приоткрытый губастый рот... глаза без всякого выражения... Молодой идиот сидел перед ним, и он – знал этого идиота. Он видел его много раз. Хотя и в давние, кажется, времена... Сейчас я его узнаю, подумал он – почему-то со страхом. Сейчас. Ох, лучше бы мне его не узнавать. Ну его к чертям. Какое мне до него дело... Поздно. Узнал. Господи.
Стас Красногоров сидел перед ним на стуле, вялый и безмозглый. Молодой, совсем молодой, двадцатилетний, Стас Красногоров, спортсмен, красавец... «красав`ец и здоровляга, и уж наверн`ое не еврей...». Этот навсегда исчезнувший человек почему-то оказался здесь, и снова существовал, и был омерзителен и ужасен. Он был – идиот, безнадежный и несчастный идиот...
Он встал, не помня себя. Он понял: вот оно. Состоялось. Всё. Мерзость, которая – сегодня, здесь, обязательно – должна была произойти, произошла. И что-то надо было срочно делать, и никакой возможности даже не предвиделось понять, что же именно надо делать и как.
ГЛАВА 10– Что это значит? – спросил он. Он не услышал своего голоса. И он не слышал, что говорит ему генерал Малныч, он видел только, что генерал сделался невероятно, противоестественно оживлен, горд и сияет. Что-то замечательное здесь произошло, пока он прорывался сюда сквозь все препоны, что-то эпохальное. Великое открытие. Победа. Фантасмагория и фейерверк.
– Какого черта! – сказал он громко, во всю свою глотку, изо всех сил, стараясь навести страх и прекратить балаган. – Прекратите этот балаган! Как прикажете мне все это понимать?
Генерал замолчал на несколько мгновений, на лице его проступило замешательство, но сиять он не перестал. Победа была слишком велика и абсолютна, и радость победителя трудно было замутить.
– Как понимать? Да как чистую случайность! Если угодно – продукт отчаяния. Что мне оставалось делать? Он умер. Совсем. Сначала кома, потом смерть... И я вспомнил, как он сам любил говорить: не помогает врач, зовите шамана!..
– Какого шамана? При чем здесь шаман? Я не об этом вас спрашиваю.
– Ну, «шаман» – это просто фигура речи... иносказание... Разумеется, никакого шамана не было. Просто я подумал вдруг... меня словно озарило: ведь полная же идентичность генотипа! И не только генотипа, но и фенотипа, сомы... Ведь вся суть идеи именно в этом и состояла: обеспечить ПОЛНУЮ идентичность...
Он слушал его и не слышал. Он смотрел в одутловатое молодое сонное лицо, бледно-голубое, болезненное, без кровинки, в мутно-бессмысленные глаза человека, видимо, ночь не спавшего, а может быть, и несколько ночей. Этот человек не видел его и не замечал его, а может быть, даже и не догадывался о его присутствии здесь. Может быть, он просто устал, смертельно устал, измотался, иссяк, замучился и вообще ничего теперь не видит и не соображает. Молодой, сильный, но смертельно измотавшийся человек. «Красивый, но вЬялый»...
Это был идиот.
Двадцатилетний Стас Красногоров был некогда глуп – да, самодоволен и фанатичен до идиотизма – да. Но он был нормальный комсомолец начала пятидесятых, оптимист и сталинист, один из сотен тысяч. Он был НОРМА. А этот был – идиот... Дебил. Имбецил. Кретин. «Клиника»... Зачем? Откуда он здесь? Кто это?
– Кто это?! – крикнул он наконец генералу. – Заткнитесь и отвечайте на вопрос!
Но генерал Малныч никак не мог понять, на какой именно вопрос ему надлежит отвечать. Он казался растерянным и вконец озадаченным. И он был обижен. Все происходило не так, как он надеялся. Какие-то титанические старания его шли на пропасть. Какие-то легендарные подвиги отметались, не то чтобы не оцененные, но вообще без даже какого-либо рассмотрения. Генерал Малныч оказался вдруг в мире бреда и кошмара, причем в момент наивысшего своего торжества, в тот как раз момент, когда ожидал кровью-потом заработанной начальственной ласки, награды, кровью своей и потом заработанной, и поощрения...
Все эти чувства и даже мысли отчетливо читались на скуластом лице, сделавшемся вдруг плаксивым и обиженным, он все это угадывал, легко расшифровывал и понимал так ясно, как будто генерал жаловался ему вслух или в письменном виде. Но больше, но кроме этого он не понимал НИЧЕГО. Какое-то огромное недоразумение происходило. Какой-то титанический «мизандерстендинг». Взаимонепонимание. Сшибка неясностей... И он вдруг снова стал слышать на краю сознания давешний странный и тошнотворный гам, и вдруг уловил в нем ритм, мелодию, и могучий сдавленный рев Шаляпина он вдруг в этом гаме различил: «...Мне страшно. Я взгляд его встречаю! В лучах луны... узнаю... САМ СЕБЯ!..»
– Я не понимаю, однако ж... – бормотал между тем генерал Малныч. – Казалось бы, согласитесь... Казалось бы, можно было в этой ситуации... А-а! – Лицо его на мгновение озарилось улыбкой счастливой догадки. – Да вы же, должно быть, еще не видели его? Раньше? Не видели ведь? Ну да, конечно же! А я-то ума не приложу... Это «резерв-три», Станислав Зиновьевич. Самая последняя инкубация! Виктор Григорьевич теперь полагает, что упор надо делать именно на возраст восемнадцать – двадцать пять... Оптимум! Максимум лабильности и минимум... э-э-э... шлаков...
Он не понимал ничего. Какой резерв? Какие шлаки? Но он неожиданно понял другое и, наверное, главное: по мнению генерала, он ДОЛЖЕН все это понимать. Ему говорят про что-то очень хорошо ему известное, многажды с ним обсужденное и даже, скорее всего, им одобренное... И он вновь ощутил смутное приближение опасности, причем – никакой мистики, никакого абсурда, никакого кафкианства: приближалась самая обыкновенная, физическая, военно-полицейская опасность, когда могут грубо схватить за лицо, ударить сапогом в промежность и поставить к стенке. Прямо здесь. Не выводя наружу. Без суда и следствия... Нельзя, категорически и ни в коем случае нельзя было признаваться в непонимании говоримого ему и вообще происходящего! Спрашивать было можно, но каждый вопрос становился при этом опасной миной и грозил оторвать тебе руку, челюсть, язык. Каждый вопрос мог сейчас оказаться пулей в голову. Однако и молчать тоже было нельзя – слишком много взаимонепонимания и подозрений успело накопиться за эти несколько бредовых минут...
– Где остальные? – спросил он отрывисто. Он догадывался, что раз сидит перед ним «резерв-три», то должны же быть или ВПОЛНЕ МОГУТ БЫТЬ «резерв-два», «один» и, возможно, – «четыре».
– Да здесь же... – сказал генерал в полном изумлении. – В рекреации, как и положено...
– Ведите.
– Но... э-э-э... зачем?
– Ведите, я сказал!
Мельком он отметил, что голуболицый идиот уже снова держит Виконта за руку, а тот вцепился в грязно-синие его пальцы (пальцы покойника) доверчиво и привычно, словно так и должно было быть, словно так оно всегда и было. Ревность и отвращение кольнули в сердце, сдавили горло, тошно стало на мгновение, но он сразу же забыл обо всем этом, потому что ощущение опасности, исходящей от бессмысленно шлепающего губами генерала, снова сделалось сильнее. Сильнее всего.
Генерал никак не мог осмелиться и принять очевидное: ближайший друг боготворимого начальника, второй человек Мира, без пяти минут президент – ничего не понимает, ничего знать не знает, ни сном ни духом во всех этих делах, а значит – НЕ ДОПУЩЕН!.. Принять такую истину, впустить ее в сознание, РЕАЛИЗОВАТЬ – означало для генерала взвалить на себя такую неподъемную ответственность, о которой он и помыслить боялся. Тут начинались предусмотренные уставом и инструкцией, хорошо отработанные и внутренне согласованные цепочки действий и мер, крутых и недвусмысленных, но – слишком уж недвусмысленных и непоправимо крутых. Картины, встающие беспорядочно пред мысленным взором генерала, были слишком энергичны и слишком несообразны, чтобы можно было их немедленно реализовать. Они несли на себе страшную печать казенной необратимости. Они, коль скоро реализация началась, уже не позволяли вернуться на старт. Начать – означало: идти до конца, пан или пропал, грудь в крестах или голова в кустах. Но это была психология засидевшегося не на своей должности полковника. Или даже подполковника. Авантюриста. Прохиндея... А генерал был серьезный человек. Он был осел.
А тут еще:
– Извольте показывать дорогу! – возвысил свой гневно изменившийся голос господин Президент.
Он не видел выхода иного, кроме наступления, он готов был даже схватить генерала за обшлага и тряхнуть его, как щенка, но он чувствовал, что это был бы уже – перебор. Нельзя было переигрывать. Он включился в какую-то сумасшедшую игру, ни правил, ни цели которой не понимал, но он знал, что переигрывать никак нельзя, а надобно строить перед ополоумевшим генералом величественного, брюзгливого, всем на свете недовольного вельможу, каким он, к сожалению, не был и быть даже толком не умел, но каким он выглядел (сомнения в этом не было ни малейшего) в глазах этого опереточного военного, глупого, самодовольного, холуеватого, но дьявольски в чем-то опасного... что-то страшненькое умеющего делать, причем очень хорошо... за что-то же держит его Виконт при себе... Может быть, как раз за умение круто распорядиться, когда пришла пора кого-то поставить к стенке?..
Генерал шарахнулся к двери. Он, видимо, так пока и не сумел разобраться в ситуации – слишком опасной и слишком немыслимой, чтобы разобраться в ней быстро, – и пока продолжал следовать военным своим инстинктам: подчиняться и исполнять.
Он в дверях задержался и поглядел через плечо. Что-то заставило его сделать это. Предчувствие какое-то? Потребность бросить прощальный взгляд? Или просто неясная надежда, что Виконт раскрыл глаза, смотрит сердито и готов уже подняться с обычными своими раздраженными словами: «Ну вот, опять! Какого черта? Давайте сюда портки!..» Но Виконт продолжал находиться НЕ ЗДЕСЬ. Тяжелоплечий, слегка перекошенный набок, неподвижный силуэт заслонял его почти целиком, но лицо было видно – брезгливое худое старое лицо мирно спящего очень старого человека, которому все уже обрыдло.
...Домой, подумал он, поддаваясь на секунду вдруг налетевшему, словно пыльный ветер, порыву паники. Какого черта? Все решено уже здесь... я не нужен... надо рвать когти... Почему я должен вмешиваться во все это? «О, двойник мой! Мой образ печальный! – ревел сдавленный нечеловеческий голос у него в мозгу. – Зачем ты воскрешаешь вновь?..»
...Ноги сами несли его вслед за рьяно поспешающим генералом. Иван, осунувшийся хищно, полностью растерявший всю свою постную индифферентность, неслышно двигался рядом, посверкивая исподлобья глазками, сделавшимися теперь совершенно паучьими – маленькими и блескучими. Нечеловеческий голос ревел все страшнее, и все страшнее становился, надвигался, подкатывал невнятный ритмический гам...
А к ним все присоединялись и присоединялись новые, ниоткуда появляющиеся молчаливые люди, мужчины и женщины, деловитые, очень решительные, – в синих халатах, в белых халатах, в маскировочной форме и просто в пиджаках и при галстуках. Их стало уже человек восемь, когда генерал Малныч, не задержавшись ни на секунду, вошел вдруг прямо в кремовую стену, в неожиданно (как все здесь) возникшую широкую дверь, шквал звуков взревел и обрушился, и ударил в лицо теплый парной воздух, какой встречает тебя, когда выходишь на самолетный трап в аэропорту Сочи – Адлер, и сразу запахло – густо, странно, неуместно – вареным луком! – и он оказался в этом зале, под самым сводом его, на балюстраде, у барьера, в полусумраке, а внизу он увидел ИХ.
Они были внизу. Много. Сначала показалось – сотни, но на самом деле, может быть, два-три десятка. Во фланелевых, грязноватых на вид больничных пижамах – серо-коричневых, грязно-лиловых, розовато-белесоватых. Большинство – ходило по кругу. Руки за спину, как заключенные в тюремном дворе... взявшись за руки, как детсад на прогулке... солидно и плавно руками жестикулируя в степенной беседе, как театральные зрители в антракте. («...Зачем ты воскрешаешь вновь, что пережил я здесь когда-то?.. Любовь мою, страдания мои?..») Были среди них и давешние, казалось бы, давно забытые, черно-синие (забытые, задвинутые навсегда в пыльные чуланы, как ненужная мебель), но большинство были люди как люди, только очень бледные, голубоватые даже, или серые, как мыши. Больные. Нездоровые люди. Без воздуха, без солнца. Без жизни.
Они – все – были идиоты. Сонные, тупые, деревяннолицые.
Они были рядом, рукой подать, особенно те, что проходили под балюстрадой. Он узнавал. Не сразу, не всех, каждый раз умирая от страха и отвращения, мучительно подавляя нарастающую тошноту, узнавал: Виконта... себя... нынешнего премьера... нынешнего гэбэшника... снова себя... снова Виконта...
Виконт был в трех экземплярах, все – разные, один – пожилой, лет шестидесяти, другие – совсем молодые (пятьдесят четвертый, колхоз имени Тойво Антикайнена, комсомольская стройка, телятник, грязища, дождь... пьянка, ноябрьские... пьяный Виконт ломится выйти вон через печку... девки какие-то, которых необходимо со страшной силой драть... пьяный дурной Сашка: «Не хочется, ребята, – надо!..»).
Он сам был здесь – сам-три. И было два президента, которых он узнал с трудом и не сразу – они были моложе ныне действующего лет на двадцать, – он вспомнил их по фотографиям из досье, он вспомнил это досье... И была супруга президента – оттуда же, из того же досье... Породистая голландская корова с благородным выменем... И самый главный русский фашист с повязкой на левом глазу... и самый главный кабардино-балкарец... (Он сразу вспомнил, что полгода назад фашисту проломили башку на митинге, но ГЛАЗ УДАЛОСЬ СПАСТИ!..)
...А потом он увидел Динару. И все забыл.
...Кружение негибких, деревянных, больных тел. Гам. Стоголосые стоны, крики, вои – жалобные, отчаянные, страстные, грозные. Как они плакали, как горевали!.. Бесшумный некрасивый, деревянный танец манекенов... и ласковые сплетения рук, тел, лиц... Они были люди. Они были люди. Они все равно были люди... Зачем вы их сделали, вурдалаки? Вурдалаки безжалостные, со своим гадюшником... Гадюшник здесь у меня развели под носом?..
...Он смотрел на Динару. Она была тихая, грустная, голубая. Марсианские глаза – словно у католической статуи. Неуклюжий огромный молодой Стас держал ее за руку, деревянно глупый и не способный улыбнуться. Он тихо выл... А она, казалось, слушала...
– Господин Красногоров! – ужасно завопил генерал, хватая его руками и страшно мешая. – Нельзя! Туда нельзя, убьетесь!..
– Гадюшник развели? – сказал он ему, уже не в силах управлять собою, уже проваливаясь в никуда, уже ничего почти не видя. Исчез безумный хоровод голубоватых нелюдей, остались кремовый потолок над головой, и отрывистые вспышки света у самого края сознания, и рыдающий гам.
Потом:
– Никаких уколов! – сказал страшный голос Ивана, скребучий голос наемного убийцы. – Руки оборву, ты, краснорожий!..
Сейчас он его убьет, подумал он с отстраненным удовлетворением, и наступил обморок.
...Была обширная светлая комната, сплошь завешанная бельем – простынями, полотенцами, кальсонами, кажется, и рубахами. Пахло сыростью и свежестью, Виконт курил, но запаха табака как раз и не было.
...Сон, сказал ему Станислав, но Виконт хмуро потряс головою и поправил: обморок. Не заблуждайся, ради бога. Это – обморок.
...Смотри, сказал ему Станислав. Смотри – Сенька!.. Семен Мирлин сидел к ним спиною и боком и играл с кем-то в карты, с кем-то невидимым – от него только рука с веером карт то появлялась из-за простыней, то вновь там исчезала. А Семен выкладывал карту за картой, собирал взятки, рокотал вполголоса: «Ауф айн припечек брент а файр'л...», и местечковая эта пустенькая песенка в его исполнении становилась значительной, словно песня Сопротивления. Пол Робсон. «Миссисипи». «Джо Хилл»... Потом Станислав узнал того, кто сидел напротив Семена, – это был Сашка Калитин, они все снова были в колхозе имени Тойво Антикайнена, но не было никаких девок – только Лариска вдруг прошла мимо, строго-неприступная, и сразу стало горько и неловко.
...Ты знаешь, сказал он Виконту, когда маме снились мертвые отец мой или тетя Лида, – она говорила мне совершенно серьезно: ждут, знают, что скоро уже... Это правильно, заметил Виконт, но у нас же не сон, у нас – обморок...
...Хорошо, сказал ему Станислав. Но ответь мне, пожалуйста: кто всегда правил этой страной? Всегда. Изначально... Ну, изначально – ладно. Изначально – по всему миру и все без исключения были хороши. Но возьми времена новые и даже новейшие. Кто были эти люди? Равнодушные сыновья. Распутные мужья. Бездарные отцы. Рассеянные братья-дядья... И вот человек, очевидно не способный устроить хоть как-то по-людски, сорганизовать, осчастливить собственную маленькую семью (мать, жена, двое детей, сестра, брат, племянник – десяток БЛИЗКИХ, всего-то – ДЕСЯТОК!), – этот человек берется сорганизовать, устроить, осчастливить двухсотмиллионную страну!..
...Ты мне все это говорил уже, напомнил Виконт.
...Да, да. Я и не претендую на новизну. Ты, между прочим, тоже постоянно повторяешься...
...Я не повторяю-СЯ. Я цитирую. Я люблю цитировать. Это гораздо безопаснее.
...Хорошо, хорошо. Я только пытаюсь тебе как следует объяснить свой основной принцип... Конечно, этот так называемый Великий человек, никем он в результате не управляет, кроме кучки таких же, как и он, ничтожностей, которых властен убивать и унижать, но не властен сделать лучше – не знает, как их сделать лучше, да и не хочет он этого... Откуда же тогда, скажи, наша извечная жажда преклонения перед великой личностью? Я тебе отвечу: просто мы хотим верить, что историю можно изменить одним-единственным, но грандиозным усилием – за одно поколение, «еще при нас». Но великие люди не меняют историю, они просто ломают нам судьбы.
...И так будет всегда, до тех пор, пока они не научатся МЕНЯТЬ ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКОВ...
(Кто это сказал? Виконт?..)
...Не люди спасут людей, сказал Виконт вразумляюще, а нелюди. Люди не способны на это, как не способны киты спасти китов или даже крысы – крыс.
...Суть и главная примета нашего времени, сказал Виконт, – естественность неестественного и даже – противоестественного... Единственный способ иметь дешевую колбасу – делать ее из человечины...
...Ты обратил внимание, сказал Виконт, как трудно в наших джунглях найти бюрократа: вокруг одни только жертвы бюрократизма и ни одного бюрократа!..
...Ты мне лучше скажи, на кой ляд ты держишь при себе этого Малныча? Он же идиот.
...А он мне нравится. Он полезный человек. Если бы к нему в кабинет заглянул вдруг кентавр, знаешь, что бы он ему сказал? «Заходите. А лошадь оставьте в коридоре».
(Сделалось пусто и мрачно в комнате, только что такой светлой. Душно сделалось, а было так свежо. И не осталось в ней больше никого, кроме Виконта. Виконт лежал в постели, он грипповал, а Станислав пришел его навестить, сидел на полуобморочном стуле, и оба курили. Произносились слова, имеющие двойной и тройной смысл. Никто словно бы не хотел быть понят. Но каждый хотел высказать то, что наболело, потому что наболело – нестерпимо.)
...Я вовсе не друг человечества, возразил Виконт. Я враг его врагов.
...Опять цитата? Скажи, наконец, хоть что-нибудь свое.
...Но зачем? Если ты хочешь понять, кто есть кто и зачем, неужели тебе небезразлично, какими словами я тебе объясню? Своими? Чужими? Вообще – на пальцах? Сапиенти сат.
...Я не могу верить цитатам. Цитаты всегда лгут, потому что они, по определению, суть ПАРАПРАВДА. Они – безопасны. Если бы ты хотел быть откровенным, ты бы говорил своими словами – корявыми, маловразумительными, может быть, но своими. Если б ты вознамерился...
...Если б гимназистки по воздуху летали, все бы гимназисты летчиками стали...
...Молодец. Умница. Лихо отбрил. Как врага.
...Ты все еще ТАМ, мой Стак. Ты все еще проживаешь «в той стране, о которой не загрезишь и во сне». Нет этой страны, и никогда не было. «Но всегда, и в радости, и в горе, лишь тихонечко прикрой глаза: в неспокойном дальнем синем море бригантина поднимает паруса...» Флибустьеры были обыкновенные уголовники, мой Стак, морская шпана, кровавая и подлая. А автор этих строчек умер самой обыкновенной страшной смертью – он был убит на войне... Ты все воображаешь, что есть где-то Рай, мой Стак, а где-то – Ад. Они не ГДЕ-ТО, они здесь, вокруг нас, и они всегда сосуществуют: мучители живут в Раю, а мученики – в Аду, и Страшный суд давно уж состоялся, а мы этого и не заметили за хлопотами о Будущем...
...Иногда мне кажется, что я тебе абсолютно не нужен, Виконт. Ты отвратительно самодостаточен – тебе никто не нужен.
...Ошибаешься. Ты мне очень нужен. Я поставил на тебя. Ты моя армия, моя ударная сила. Так что изволь соответствовать...
...А разве ты не считаешь, что мое Предназначение больше, чем ты... или чем я... или чем мы оба?
...Нет. И не будем больше говорить об этом.
...Виконт, я ведь только хочу разобраться... я хочу понять...
...Не надо, сказал Виконт раздраженно. Не надо. Есть вещи, которые лучше знать, чем понимать. «Я вспоминаю солнце... и вотще стремлюсь забыть, что тайна некрасива». Тайна – некрасива, мой Стак. Тайна – всегда некрасива...