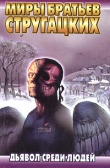Текст книги "Том 10. С.Витицкий, С.Ярославцев"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 51 страниц)
– И это всё? – осведомился Виконт. – Это – все твои восторги?
– «Неспособность испытывать восторг – признак знания», – объявил Станислав. Он вдруг решил ничего не спрашивать и ничего не говорить.
– Это какого же знания? – осведомился Виконт подозрительно.
– Вообще – знания. Но, по-моему, я нечто похожее уже где-то читал.
– Увы, – сказал Виконт со вздохом. – Я тоже. Автора не помню. Помню, что читал по-аглицки... И мне так понравилась идея, что я решил переписать всё по-своему... – Он сделал себе бутерброд с килькой и сказал грустно: – Ничего нельзя придумать. Все уже кем-то придумано... Или существует на самом деле, – добавил он вдруг, и Станислав понял, что был прав насчет него и Доваджера. – Это ужасно, мой Стак. Я больше никогда не возьмусь за перо.
– Вздор, – сказал Станислав. Он испытывал неловкость. Что-то вдруг кончилось, и, похоже, по его вине. И сделать больше ничего было нельзя. То, что сейчас кончилось, – кончилось навсегда. Какие-то пути разошлись. То, что всегда раньше было рядом, отдалилось вдруг и стало уходить.
– Знаешь, чем самый захудалый туземный божок отличается от самого гениального архитектора? – спросил Виконт. – Божок всегда может материализовать свой план, даже вполне бездарный... Во мне нет Бога, мой Стак. А значит, его нет вообще.
– Почему? – тупо спросил Станислав.
– Потому что Бог – в человеке. Или его нет вовсе. Запиши это в свою книжечку.
– У меня нет книжечки, – сказал Станислав, чувствуя, что неловкость все возрастает.
– Я знаю. Это просто цитата. Еще одна цитата... Но маленькая. И давай выпьем, мой Стак. Время звенеть бокалами.
И они выпили, чтобы сгладить неловкость, и закусили, чтобы перебить горький ее привкус. Что-то кончилось, да, увы. Но не всё же! Кое-что все-таки еще осталось! Виконт потянулся за гитарой и взял самый сложный из своих аккордов:
Капитан, каких немного,
Джон Кровавое Яйцо —
Словно жопа носорога
Капитаново лицо!..
А потом было лето. И было счастье. И было все зеленое, озаренное солнцем, шевелящееся, ходуном под ветром ходящее, прекрасное на голубом. Красный Ларискин «запорож», отцов подарок к окончанию университета, весело катил на запад, на чудесный закат, к свободе, к воле, к новым городам и весям, и они пели, и дурачились, и вдруг целовались, как молодые, на скорости сто кэмэ в час, и хохотали, подщелкивая рифмы к придорожным плакатам, идиотским и многочисленным...
МАШИНУ СТАВЬТЕ НА ОБОЧИНУ – по-пролетарски, по-рабочему.
НЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА ВЕДЕТ К АВАРИИ – шею сломишь себе и Марье.
ОБГОН ЗАПРЕЩЕН – шофер восхищен!
БЕРЕГИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ – избежишь серьезных повреждений.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕТ К АВАРИИ тоже – мы на таких нарушителей со всем прибором положим.
И – венец всему, шедевр в стиле программы AFOR:
ДЕРЖИСЬ ПРАВЕЕ – живешь в Рассее!
И великолепные диалоги, на какие не способна даже программа АНТИТЬЮРИНГ:
– Опять этот зеленый гнусняк – обогнал нас как!
– Какой гнусняк обогнал нас как?
– А вон тот наклажник. Наложивший целый багажник.
И частушки, радостные и глупые. Он:
Я от ужаса дрожу, в изумлении гляжу:
Вроде ехал по дороге, ан – на дереве сижу!..
А в ответ ему – она:
Мой милок, меня прости, вспоминай без горести —
Повстречалась мне береза на высокой скорости!..
И был хохот. И было счастье. И было лето. И все впереди было прекрасно.
А на дворе между тем стояло странное, мертвенное время.
Слухи возникали чуть ли не ежедневно – иногда забавные, часто страшноватые и всегда нелепые.
...Дети пропадают, пяти-семи лет. Через месяц-другой их находят где-нибудь на окраине. Они живы, здоровы, но у них ПРООПЕРИРОВАНЫ глаза...
...Обыск произошел на квартире известного, даже знаменитого, и вполне вроде бы благонадежного писателя, вдобавок – уже покойного. Писатель умер, проводили его торжественно и в полном соответствии с его литературным чином, совсем немного времени миновало, еще урна с прахом его стояла незахороненная в доме – вдруг позвонили в дверь, явилась бригада в штатском, с ордером на обыск и почему-то с миноискателем. Прощупали стены, пол, рамы картин. Урну прощупали миноискателем. Небрежно пролистали десяток наугад выбранных томов из титанической библиотеки и удалились так же внезапно, как и возникли, унося с собой непонятный, вполне кафкианский, набор предметов: антикварный чернильный прибор старой бронзы; пачку писчей бумаги из рабочего стола; четыре столовых ножа; прижизненное издание Батюшкова... И – никаких объяснений. И никаких обвинений. Только негласное распоряжение: имя в статьях, очерках, рецензиях и предисловиях – не упоминать.
А другой писатель – Каманин, приличный человек, хотя и пьяница, тот самый, кому Сеня собирался подсунуть Станиславов роман, да так и не сумел, – по слухам, умер тоже при каких-то сомнительных обстоятельствах: не то застрелился спьяну, не то его застрелили – весь стол был залит кровищей и забросан его мозгами, домработница, которая его первая обнаружила, слегка помешалась даже от ужаса... Дело было взято на контроль Москвой, но так ничего и не удалось объяснить толком. Что, впрочем, никого особенно не удивило. (Домработницу – и это уже точно – засадили в психушку: то ли она болтала лишнее, то ли и в самом деле потребовалось лечение – здесь тоже никакой ясности не было.)
Редакцию «Красной Зари» ни с того ни с сего наполовину разогнали. Говорят, из-за какого-то стихотворения, но из-за какого именно, никто не понимает. «Дабы карась не дремал», – многозначительно объяснил ситуацию Сеня Мирлин, и, видимо, был прав.
И разогнали Институт сверхпроводимости. Засоренность кадров. Терпение нашего обкома небезгранично. Развели, понимаешь, сионистское гнездо, понимаешь...
Появились новые анекдоты про генсека.
«Дорогой и многоуважаемый товарищ Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев!..» – «Ну, зачем так официально? Зовите меня просто Ильичом».
Впрочем, звали его теперь даже еще проще – Лёликом.
Лёлик в музее рассматривает картину «Демон». «...Хорошая картина... Красивая... – Нагибается, читает латунную табличку на раме. – И недорогая! Всего В РУБЕЛЬ...»
Готовились выборы в Верховный Совет. Все подсчитывали по газетам, сколько коллективов выдвигает того или иного члена Политбюро. Утверждалось, что таким образом можно установить истинную степень влияния этих деятелей. Станислав насчитал: Брежнева выдвинули пятьдесят шесть раз, Косыгина и Подгорного – по двадцать пять, Суслова и Кириленко – по десять. Потом шел Кулаков – пять. Сеня Мирлин чертовски глубокомысленно и очень, очень убедительно комментировал полученные результаты, а Виконт кривил африканские свои губы и брюзжал: «Ерундой занимаетесь. Через десять лет их никто и помнить-то не будет...»
Вдруг волнами накатывали слухи о пришельцах из Космоса, о летающих тарелках, о филиппинских врачевателях... Возникали судорожные, похожие на торопливую склоку (скорее, скорее, пока не запретили!) дискуссии в популярных газетах. Виконт сочинил эпиграмму под Александр Сергеича:
«Пришельцы есть! – сказал мудрец брадатый. —
Они, быть может, ходят между нами». —
«Пришельцев нет!» – сказали кандидаты,
И доктора кивнули головами.
Сеня Мирлин тоже сочинил эпиграмму – про советских писателей:
Советские сатирики попрятались в сортирики,
В сортириках сатирики сидят.
А прочие писатели всё думают: «Писать – или
Покудова немного подождать?..»
И евреи уезжали, один за другим – дальние знакомые, близкие знакомые, родственники близких знакомых. Уже из одноклассников двое уехали, один – безукоризненно русский – специально для этого женился на еврейке. «Еврей – это не национальность; еврей – это средство передвижения...» Тема для шуток была благодатнейшая, и все шутили напропалую, но стишки, которые принес откуда-то Жека Малахов, были, пожалуй, уже и не смешны.
Я завтра снова утром синим
Пойду евреев провожать,
Бегут евреи из России,
А русским некуда бежать...
И все жадно читали самиздат – будто Конец Света приближался. А может быть, он и приближался. Шли обыски. Изымались тексты Солженицына и Амальрика. За «Раковый корпус» не сажали – это считалось всего лишь «упаднической литературой». Сообщали на работу, а там уж – как кому повезет. А вот за «Архипелаг ГУЛАГ» лепили срок без всяких разговоров – статья семидесятая УК РСФСР: хранение и распространение. Следователи (по слухам) называли эту книгу «Архип», хуже «Архипа» ничего не было – даже «Технология власти» в сравнении с «Архипом» была чем-то вроде легкого насморка. Говорили, что Андропов поклялся извести самиздат под корень. «Бесплодность полицейских мер обнаруживала всегдашний прием плохих правительств – пресекая следствия зла, усиливать его причины». Наступило новое время. Об оттепели начали забывать. Самые умные уже понимали, что это – теперь уж навсегда. Об этом было лучше не думать.
И пьяный Сеня Мирлин цитировал Макиавелли: «...ибо люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость».
А трезвый Виконт, привычно разыгрывая супермена, цитировал Тома: «Познание не обязательно будет обещанием успеха или выживания; оно может вести также к уверенности в нашем конце».
А Ежеватов с мазохистским наслаждением цитировал излюбленного своего Михаила Евграфовича: «Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний».
А мама говорила предостерегающе: «Плетью обуха не перешибешь. Сила и солому ломит».
Но ведь все они были еще совсем молоды и полны сил! Ощущение бесчестья мучило их и угнетало, словно дурная болезнь. Шатающийся басок Галича обжигал их совесть так, что дух перехватывало. Надо было идти на площадь. И бессмысленно было – идти на площадь. Не только и не просто страшно – бессмысленно! Они были готовы пострадать, принять муку ради облегчения совести своей, но – во имя пользы дела, а не во имя гордой фразы или красивого жеста. Они не были совсем лишены понятия о чести, но это понятие было для них все-таки вторично: двадцатый век вылепил их и выкормил, а девятнадцатый лишь слегка задел их души золотым крылом своей литературы и судьбами своих героев. Бытие мощно определяло их сознание. Дело! Дело – прежде всего. В сущности, они по воспитанию своему и в самой своей основе были – большевики. Комиссары в пыльных шлемах. Рыцари святого дела. Они только перестали понимать – какого именно.
Часть вторая СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЬЧИК, ПРОЩАЙ!
ГЛАВА 1И вдруг умерла мама.
Соседка вызвала его с работы, он примчался, но опоздал, ее уже увезли. Ужас леденил его, била дрожь, зуб на зуб не попадал (а день был жаркий, яркий, отвратительно радостный). В маминой комнате все было разбросано и разворошено, словно сама беда прокатилась по ней беспощадными колесами. Постель осталась не убрана... Ящики стола выдвинуты, и множество бумаг разбросано по полу. И остатки завтрака отодвинуты в сторону, а на столе таз с остывшей водой. Он понял, что мама держала в горячей воде левую руку, а значит, мучилась сердечными болями с утра, они отдавали у нее обычно в плечо и в руку, но в этот раз горячая ванна ей не помогла...
...В приемном покое больницы, огромном и страшном, как Дантово чистилище, больные неприкаянно бродили по кафельным полам, их было множество, самых разных, но главным образом стариков и старух, заброшенных, никому не нужных, покорных, тихих, от всего отрешившихся... Сидеть было негде, немногочисленные скамьи заняты были все, и те, кто не мог больше ни ходить, ни сидеть уже, лежали и казались мертвыми... И мама, с разорванным сердцем, бледная, строгая, немного даже чужая, тоже бродила здесь среди прочих, изнемогая от боли в груди и в руке. «Не беспокойся, – сказала она ему строго и уверенно. – Все со мной будет в порядке. В этот раз я еще не умру. Обещаю».
...Ночью он заснуть не мог. Пришел в ее комнату, встал на колени перед постелью, которую так и не осмелился почему-то убрать (ему вдруг показалось, что нельзя этого делать, что-то нарушится, если это сделаешь, что-то пойдет не так – он стал вдруг необоримо суеверным), сунул лицо в холодное одеяло и стал молиться. Все сделаю, что ты захочешь, мысленно говорил он. Брошу курить. Клянусь. Не выкурю больше ни сигаретки. Ни одной затяжки... И не выпью больше ни рюмки... И не напишу ни строчки... Какое, к черту, предназначение? Нет у меня никакого предназначения. И не будет. И не надо. Пусть только все станет как прежде... Лариску брошу, подумал он с усилием. Он знал, что мама недолюбливала Лариску. Брошу, сказал он себе. Он знал, что это вранье. Он все время слышал себя со стороны и вспомнил вдруг грязноватого и плаксивого мальчика в холодном тамбуре, и так же, как тот мальчик, подумал, что самое страшное уже надвинулось и ничто теперь этому страшному не сможет помешать... И тогда он поднялся, пошел к себе и вышвырнул в форточку почти полную пачку сигарет.
...Это длилось девять дней. Маме становилось то лучше, то хуже. Но боли исчезли уже на вторые сутки. Первое время Лариска дежурила у нее по ночам, потом мама сказала решительно: «Не надо», – и дежурства прекратились. Каждую ночь он молился у разобранной постели. Постель он не прибирал и не прибирал в комнате, Лариска пыталась, но он так наорал на нее, что напугал до слез. Убирать было нельзя. Ничего трогать было нельзя. Тоненькая, как паутина, но пока еще довольно прочная ниточка соединяла настоящее и будущее, и нельзя было даже прикасаться к этой нити. Так ему казалось.
...Начиная с седьмого дня улучшение стало очевидным, но врачиха не улыбалась в ответ на его искательные улыбки, она качала головой и говорила не глядя в глаза: «Инфаркт очень обширный... И возраст, не забывайте...» Он давил в себе пробуждающуюся надежду, понимая каким-то пещерным инстинктом, что надо держать себя на самом нижнем уровне сокрушенности, и он молился теперь, готовя себя к совершенно другой жизни. Не будем больше жить здесь, обещал он. Уедем в твое Костылино, купим там избу, которая так тебе понравилась, избу Соломатиных, они продадут с охотой, я уверен, и будем там жить, я научусь плотничать, починю крышу, левый задний венец поправлю, если он действительно сгнил, заведем кур, дрова буду заготавливать... ты ведь так хотела этого, тебе будет там хорошо, и каждый вечер мы будем с тобой играть в «девятку» и в «кинга»... Он так и заснул, на коленях, уткнувшись лицом в неубранное одеяло, а рано утром, в восемь часов, раздался телефонный звонок, он вскочил, словно обожженный кнутом, и он уже знал, кто звонит и почему...
...На кладбище во время похорон светило солнце, но ветер был такой свирепо-ледяной и беспощадный... Он простудился вдребезги. Весь. Все зубы у него болели. И горло. И простреленный бок, и под лопаткой. Лицо распухло, глаза сделались красными, маленькими и тоскливыми, как у больного животного. Он и был больным животным. Робко звонила Лариска – он, с трудом сдерживаясь, попросил оставить его одного. Звонил угрюмый Виконт, потом приперся вместе с заранее перекошенным от сочувствия Мирлиным – он не пустил их за порог, он хотел быть один. Он был сейчас больной или раненый зверь, которому надо заползти куда-нибудь в чащу и там либо выжить, либо сдохнуть, но – в одиночку, только в одиночку... Он читал бумаги – свидетельство о смерти, документы о захоронении, – он словно надеялся найти там нечто существенное, но не нашел ничего, кроме отстраненно удивившей его записи о причине смерти: «атеросклероз артерий мозга». Почему – мозга? Ведь это был инфаркт, мимолетно удивился он и тут же забыл об этом, его вдруг потянуло читать письма, его – к ней, ее – к нему, письма тети Лиды и других маминых подружек, которых давно уже не было на свете, и какие-то ее записки по педагогике, и несколько вариантов автобиографии... И вот тут ему стало совершенно невмоготу – он собрал всю эту гору бумаги, перетащил в ванную и принялся жечь в печке-колонке – все подряд, уже больше не читая, не желая читать, не желая ничего помнить и узнавать...
...Вот странно. Она сделала то же самое с отцовским архивом, когда получила похоронку, – сожгла все, до последнего листочка, неживая, окаменевшая, с сухими глазами... (Испуганный и зареванный, он сидел в дальнем углу и следил за нею, боясь подойти: в сумраке, в отсветах огня она казалась ему деревянной и незнакомой.) Интересно, что же такое она хотела уничтожить, когда жгла исписанную бумагу? И что хотел уничтожить он? От чего избавиться? Какой изболевшийся нерв выдернуть и самое его место выжечь? Ответа не было. Совершался акт горя и отчаяния – несомненно, но был ли в нем хоть какой-нибудь смысл? Ну хоть какой-нибудь?..
На третий день он вышел вечером из дому, купил пачку сигарет и позвонил Лариске. Всю ночь (до пяти утра) они с ней ходили по кругу: Литейный мост, мимо бывшего французского консульства (где теперь была школа для тугоухих детей), мимо пристани речных трамвайчиков (где десять лет назад напали на них хулиганы – случай, рассматривавшийся в качестве кандидата на ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, но отвергнутый), по Кировскому мосту, мимо Дома политкаторжан, мимо «Авроры», по мосту Свободы (бывшему Сампсониевскому, когда-то деревянному, уютному, узенькому, а теперь железному, широкому, важному), мимо стройки (раньше, до войны, здесь стоял так называемый Пироговский музей, огромное, то ли еще недостроенное, то ли уже разрушенное здание, в блокаду оно сгорело под зажигалками, после войны там держали несколько тысяч пленных немцев, загадивших все анфилады, залы и аркады самым неописуемым образом, а теперь здесь возводили новую гостиницу), мимо желтого бесконечного фасада Военно-медицинской академии, и снова – на Литейный мост... Говорили мало. Курили. Иногда вдруг ловили взгляды друг друга, и тогда их словно бросало друг к другу – они судорожно обнимались и стояли так по несколько минут, щека к щеке, душа к душе... Что-то происходило в нем. (Да и в ней, наверное, тоже, но он об этом не думал тогда совсем.) Угли холодели и покрывались серым пеплом. Рану затягивало розовой сочащейся пленочкой. Кончалась одна жизнь и начиналась другая. Одни страхи уходили в никуда, другие приходили из ниоткуда... Равновесие восстанавливалось...
А спустя неделю он вдруг почувствовал, что может говорить и думать о ней совсем уже без боли, даже, пожалуй, наоборот, – он таким образом как бы отрицал ее исчезновение и утверждал присутствие. Впрочем, анализировать все эти ощущения ему не захотелось, надо было сначала выздороветь до конца. Если, конечно, от такого можно выздороветь до конца. (Потом оказалось – можно. Не выздороветь, конечно, а перейти как бы на иной уровень здоровья – одноногий инвалид ведь тоже может считаться и даже быть здоровым, но – на своем уже уровне.)
И еще прошел один год, но, слава богу, спокойно, без потрясений и ударов, все успокоилось, они с Лариской поженились – тихо, без свадьбы, только Виконт, Сеня Мирлин да Жека Малахов с Татьяной сидели за столом, ели мясо по-бургундски, пили медицинский спирт и дружно исполняли отшлифованный репертуар:
Если ты ешь кукурузу,
Если ты ешь кукурузу,
Если ты ешь кукурузу, —
Значит, ты ешь кукурузу!!!
Поцелуй свою тещу!
Жизнь наша сложная штука,
А-а-а-а-а!..
Ах, как давно это было! Хрущ, кукуруза, глоток свободы, оттепель... «Один день Ивана Денисовича»... И как все навсегда миновало! Ну, может быть, и не навсегда. В конце концов, должна же экономика... Слушай, какая, к шутам, экономика? Трамваи ходят? Ходят. Чего тебе еще надобно, старче? Водка продается?.. «Будет пять и будет восемь, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу: нам и десять по плечу. Ну а если будет больше, тогда сделаем как в Польше...» Э, ничего они не сделают никогда!.. «Топ-топ, очень нелегки к коммунизму первые шаги!..» Слушайте, я вчера стою за пивом, а там мужичонка какой-то разоряется: робя, дела наши – кранты, с первого числа в два раза на водку поднимут, уже ценники переписывают, я вам точно говорю! А какой-то облом двухметровый ему: не посмеют! САХАРОВ НЕ ПОЗВОЛИТ!.. Слушай, ну чего ты орешь на весь Карла-Маркса?.. Виконт, перестань трястись, теперь за это не сажают... А ты знаешь, за что был сослан Овидий? Существует сто одиннадцать вполне аргументированных версий, но скорее всего – скорее всего! – за обыкновеннейшее недонесение... Ну, знаешь, шуточки у тебя, боцман... Ладно, давайте лучше споем:
Помнишь, как вечером хмурым и темным
В санях мы мчались втроем,
Лишь по углам фонари одинокие
Тусклым горели огнем.
В наших санях под медвежьею полостью
Черный стоял чемодан,
Каждый невольно в кармане ощупывал
Черный холодный наган...
(...Черт его знает, ну почему вся нынешняя интеллигенция обожает все эти уголовные романсы? Со студенческой скамьи, заметьте! Уголовников боимся и ненавидим, а романсы поем ну прямо-таки с наслаждением!.. А это потому, братец, что у нас народ такой: одна треть у нас уже отсидела, другая треть – сидит, а третья – готова сесть по первому же распоряжению начальства... Начальство – не трогай! Начальство – это святое. «Нет ничего для нашего начальника обременительнее, как ежели он видит, что пламенности его положены пределы!»...)
...Вот подымается крышка тяжелая,
Я не сводил с нее глаз,
Ящички шведские, деньги советские
Так и глядели на нас.
Доля досталась тогда мне немалая —
Сорок пять тысяч рублей,
Слово я дал, что покину столицу
И выеду в несколько дней...
Какая, черт побери, голосина у Семки все-таки... Слушай, Семен, ради нас с Лариской – разразись: «Во Францию два гренадера...» И Сема не чинясь встает и разражается. Голос его гремит так, что колыхается матерчатый абажур, а шея его раздувается и делается кирпично-красной. И все наслаждаются – кроме Виконта, который терпеть не может громких звуков вообще...
...Ребята, я вчера знаете кого встретил? Тольку Костылева! Он стал как слон. И важный, как верблюд. Знаете, кто он теперь? Замзавгороно! Врешь!.. Клянусь!.. Господи! Толька – завгороно! Вы помните: «Форест, форест, форест»?.. Еще бы не помнить! И – хором в три глотки:
– «Форест, форест, форест... Энималс, энималс, энималс... Винтер, винтер, винтер... Он зе миддле оф зе роуд стэйс Иван Сусанин. Немецко-фашистская гидра камз.
– Вань, Вань, вилл ю телл аз зе вей ту зе Москов-сити?
– Ай донт кнов, – сэйд Иван Сусанин.
– Вань, Вань, ви шелл гив ю мени долларс!
– Ай донт кнов, – сэйд Иван Сусанин.
– Вань, Вань, ви шелл гив ю мени рублз!
– Ай донт кнов, – сэйд Иван Сусанин.
– Вань, Вань, ви шелл килл ю к чертовой матери!
– Перхапс пробабли!!!
Энд зей килл хим. Иван Сусанин из зе нешнл хироу оф зе Совьет Юнион!!!»
...Ах, как чудесно ржется под славные школьные воспоминания!
Плевать на все и плевать! Все как-нибудь обойдется и устроится... Нет, не всё. Я с чем угодно могу смириться. С чем угодно. Пусть они жрут, хапают, пусть награждают друг друга и прославляют, пусть хоть лопнут от почестей. Но – ложь, ложь! Ведь в каждом же слове – ложь, в каждой газете – ложь, включаешь телик – ложь, открываешь любую книжку – ложь. Ложь, одна только ложь, голая ложь, и ничего, кроме лжи!.. Нет уж, голубчики мои, голубочки! Первое, что надо сделать в этом нужнике, – объявить свободу информации. Все заглушки, все затычки, все забитые отдушины – настежь!.. Все знаю, и без вас: пять лет у нас все это дерьмо будет утекать через стоки, и еще пять лет мы должны будем чистить все, и драить, и отдирать, а потом пятнадцать лет еще учиться в унитаз гадить, в унитаз, совковое твое рыло, в унитаз, а не рядом... Но первое – отдушину, окна распахнуть, от вони этой хоть чуточку самую продохнуть – без ЭТОГО ничего не будет! И никогда!.. Ну, чего ты разорался, как больной слон?.. А, да перестань ты осторожничать, Виконт, смотреть на тебя тошнит, ей-богу, – вот уж, извини, обосрался – на всю оставшуюся жизнь... Ребята, ладно, бросьте, а эту вы помните:
Нас десять, всего только десять,
И старшему нет тридцати,
Не смейтесь, не надо, нас могут повесить,
Но раньше нас надо найти...
...Это еще что такое? Это – поручик Али, начало двадцатых... Ага, помню: ее Сашка откуда-то принес, еще в университете. Да-а, Сашка ты, Сашка. До чего же жалко его, ведь талантище был!.. Э, господа! Я же новую порцию «рассыпанного жемчуга» притаранил... Давай! Народ любит «рассыпанный жемчуг»... «На поле брани слышались крики раненых и стоны мертвецов...» Здрасьте! Сто лет назад уже было! Старьем кормишь, начальник, не уважаешь... «Он подвел ее к кушетке и сел на нее...» Расстрелять!.. Нет, почему же, вполне... Подождите, вот еще: «Под кроватью лежал труп и еще дышал. Рядом рыдала трупова жена, а брат трупа находился в соседней комнате без сознания...» Это – да, недурно! Молодца! Хвалю... Вот еще про труп: «Утром на пляже был обнаружен свежий труп. Труп состоял из девушки прекрасной красоты...» Га-га-га!.. Виконт, а помнишь инвентарную опись, в пенджикентском музее: «Пункт десятый. Картина неизвестного художника. Олень, убегающий из Сталинабадской области...»? Га-га-га... «Пункт пятый. Кинжал охотничий в ножнах. Кинжал утерян, ножны не от него...» Мальчики, помогите стол разобрать, будем сейчас пить чай... Правильно! Будем пить чай с блюдца и петь народные песни – это будет у нас чистая, трезвая, истинно русская жизнь! «По реке плывет топор с острова Неверова. И куда же ты плывешь, железяка херова?..» О, этот яркий солнечный мир частушки – абстрактный, словно живопись Сальвадора Дали: «На горе стоит кибитка, занавески новеньки. В ней живет интеллигент, его дела фуевеньки!..» Слушайте, что это у вас за манера образовалась – материться при женщинах?.. А это такая новейшая московская манера: целоваться при встрече и материться при женщинах... И через посредство женщин!.. То есть как это? Ну, когда женщины сами матерятся... Семен, Семка! А ну давай грянем мамину, любимую:
– Ой ты гарный Семенэ, приди сядь биля менэ,
И коровы в менэ е, сватай менэ, Семенэ!
И коровы в менэ е, сватай менэ, Семенэ!
– На що ж менэ ти коровы, як у тебэ рыжи бровы!
А як вот визму в одной Лёле, тай то будэ полюбовэ!..
...Ах, Клавдия Владимировна, матушка наша! Она ж – певунья была, эх!.. Да! Как вы с ней, бывало, на два голоса! А?..
– Ой ты гарный Семенэ, приди сядь биля менэ,
И кожухи в менэ е, сватай менэ, Семенэ!
И кожухи в менэ е, сватай менэ, Семенэ!
– На що ж менэ ти кожухи, як у тебэ длинны вухи!
А як вот визму в одной Лёле, тай то будэ полюбовэ!..
...А какие пироги пекла! Оладьи какие, с абрикосовым вареньем!.. Да разве наши, нынешние, такое могут?.. Куда им! Не та школа...
– Ой ты гарный Семенэ, приди сядь биля менэ,
Карбованци в менэ е, сватай менэ, Семенэ!
– Карбованци в тебэ е?! Ах ты душка мое!..
Разошлись в три ночи. У самого дома Сема Мирлин поймал такси и обратился к шоферу с историческим вопросом:
– Вилл ю телл аз зе вей ту зе Москов-сити?
А Жека с Танькой, в ожидании конца переговоров, стояли в обнимку с Виконтом и тихонько выводили – с чувством глубокого удовлетворения:
...Когда мы все уже лежали на панели,
Арончик все-таки дополз до Розанелли
И ей шепнул, от страсти пламенея:
«О Роза, или вы не будете моею?..»