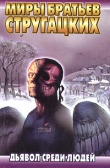Текст книги "Том 10. С.Витицкий, С.Ярославцев"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 51 страниц)
Лосю, например, ничего не полагается за то, что он лось. В лучшем случае – соли ему насыпать в деревянный желоб, чтобы посолонцевал. А человеку? Хлеб, соль, покой? Уважение? За что? А – по справедливости...
А что это вообще такое: справедливо устроенный мир? Это мир, в котором ВСЕМ ХОРОШО? Однако же что это за справедливость: когда хорошо и трудяге, и бездельнику, и тому, кто дает другим много, и тому, кто вообще ничего не дает (не может, не умеет, не хочет), а только берет? Каждому по труду? Но если труд твой – со всем его п`отом, надрывом, с кровавыми мозолями – НИКОМУ не нужен? (Классический пример: адов труд графомана или – труд Сизифа.) Ничего тебе такому не давать? Сизифу этакому. Но ты же РАБОТАЛ, работал, КАК ПРОКЛЯТЫЙ!..»
Все было правильно. Но – не интересно. Ему не было сегодня до этого никакого дела. Какая, в самом деле, может быть на свете справедливость, если одно-единственное слово, сказанное сгоряча, сжигает целый город добрых отношений... Спать пора, вот что, хоть завтра и свободный день...
Но прежде чем идти спать, он включил настольную лампу и несколько секунд сидел неподвижно, глядя в раскрытый форзац своего «Счастливого мальчика» с собственной фотографией на весь разворот. Радовался чудной золотистой бумаге и значительному лицу своему с горькими брыльями – не то пророка, не то американского генерала. И прикидывал: чего бы ей такого написать?.. Он плохо думал о ней только что – несправедливо, обидно и жестоко – и теперь чувствовал себя виноватым. Надо бы что-нибудь теплое. Смешное. Что-нибудь такое, чего еще никому не писал... И чтобы она расхохоталась...
Он вдруг вспомнил надпись, которую сделал Лариске на своей фотографии минский таксист. Сто сорок пять лет назад. В позапрошлом существовании. Когда все еще были живы, молоды и незнакомы. Когда все еще было впереди, а позади пока не было ничего... Таксист – лихой, только что из армии, с чубчиком, с прозрачными глазами ласкового негодяя, Жора, – написал молоденькой, заливающейся смехом Лариске:
Пусть милый взор твоих очей
Скольз`ят по карточке моей
И может быть в твоем уме
Проснется память обо мне.
Это было то, что надо. Самое что ни на есть ТО. И обязательно – с сохранением особенностей правописания.
Не оценит, с сожалением подумал он, корябая золотым «паркером» по роскошной бумаге. Не в коня корм. Э-хе-хе-хе-хе, а я так люблю, когда она хохочет...
ГЛАВА 3Он лежал на спине с закрытыми глазами и вполуха слушал ее щебетание. Это была обыкновенная милая чепуха – что-то там о макияже (половины слов он не понимал), о хулиганском Тимофее (Тимофей тоже все это слушал и время от времени гавкал и бухал из-под кровати, словно отругивался), о дядь-Шуре, который опять приставал насчет дачи в Усть-Луге... У нее всегда была в запасе масса замечательно пустяковых сообщений, восхитительно ни к чему не обязывающих. Потом она спросила:
– Ты меня не слушаешь?
– Еще как слушаю, – возразил он. – «...А я ему тогда сказала честно...» Что ты ему сказала честно? Напрямки, так сказать. Резанула правду-матку. По-нашему, по-стариковски.
– Да ну тебя.
Он не возражал. Хорошо было лежать с закрытыми глазами под ее кружевной шалью, пахнущей тонко и сладко, и ничего не думать, и ничего не видеть. Засыпать.
– О чем вы так долго совещались? – спросила она. – Или – нельзя?
– Отчего же. Можно.
– Я почему спрашиваю: ты какой-то выжатый сегодня. Как лимон.
– Грейпфрут. Гораздо вкуснее. Но – старый. Горьковатый.
– Не хочешь рассказывать?
– Не очень. Надоело. О Николасе опять.
Она хмыкнула, и он посмотрел на нее сквозь прижмуренные веки. Она озабоченно морщила малозначительный свой лобик, и это делало ее трогательно-некрасивой.
– Чего вам от него надо – я никак не пойму. Он что, выдает какие-нибудь ваши тайны?
– У нас нет тайн. Выдавать нечего.
– Тогда что же? Выступает против вас?
– Против меня.
– Ну да? Вранье. Он же тебя обожает.
– Обожал когда-то.
– Все равно. Он честный. Он не станет про тебя врать.
– А он и не врет...
Как ей объяснить это? Она никак не способна была понять, хотя и пыталась самым честным образом: читала все газетные вырезки про его выступления и все его статьи в «Обозревателе» и смотрела видеозаписи. Ее совершенно сбивало с толку то обстоятельство, что он никогда не врал. Он рассказывал правду, одну только правду, хотя и не всю правду. Он умел это делать. Он был профессионал, профессионал-самоучка. «Мои встречи с Хозяином». Забавные случаи. Поучительные истории. Заметки к портрету Великого Человека. Великого? Великого, великого – без всяких сомнений Великого... Но при этом, когда он выступал, скажем, перед алкашами, перед Партией, скажем, Любителей Пива, он рассказывал им, какой утомительно нудный и высокомерный трезвенник этот Хозяин. А выступая перед трезвенниками, с веселым смехом и тонко разыгранным комическим огорчением – о единственном известном ему (и всему миру) случае, когда Хозяин перебрал малость джину с тоником и оскорбил действием британского культурного атташе... (А теперь вот: «Может ли поссориться Станислав Зиновьевич с Виктором Григорьевичем? Нет, нет и еще раз нет. Ибо к тому есть серьезные причины. Например, святость старой дружбы». И дальше – на две минуты об отношении Хозяина к дружбе... Зачем? Что он имеет в виду? Намекает на что-то? На что?)
Он почувствовал ее пальцы у себя на лице.
– Только не убивай его, – прошептала она ему в самое ухо. Едва слышно. На пределе слышимости. Он не столько услышал ее, сколько догадался. – Не надо. Пожалей. Ведь ты его обидел.
Страшная штука – ревность, подумал он отстраненно. Подлая и коварная. Все видно. Ничего не скроешь. И – ни от кого.
– Лапка, – сказал он. – Что за мысли у тебя. Я и не думаю об этом. Клянусь.
– Я знаю. Но ты говорил, что тебе и думать не надо... что это само собой у тебя получается...
– Когда я это тебе говорил?
– Ну, не ты. Кто-то из твоих. Я подслушала.
– Меньше глупостей подслушивай. Они все – дурачки суеверные. Они эти глупости друг другу повторяют, когда им страшно становится. «Хозяин не выдаст. Хозяин всех врагов разразит и повергнет...» Они ничего не понимают.
– А ты – понимаешь?
– Нет. Тут и понимать-то нечего.
– Не обижай его, – снова сказала она. – Пожалуйста.
– Хорошо. Обещаю. – Он снова закрыл глаза. – Рейтинг, черт его подери, все время падает... – пожаловался он. – Второй месяц подряд. Никто не может понять, в чем дело, вот и мучаемся, чепухой головы себе забиваем... Осрамимся, провалимся. Вот увидишь.
– А я знаю, откуда это, – сказала она радостно. – Это из «Каштанки».
– Точно. Молодца!
– Я в детстве думала, что он говорит: «Осрамимся, провал`имся», а они надо мной смеялись...
Она замолчала, тихонько массируя ему веки, и вдруг сказала:
– Это потому, что ты стал думать о себе.
– То есть?
– Рейтинг падает. С самого начала ты думал о них и только о них, и они это чувствовали. Это сразу чувствуется. Тебе было все равно, что будет с тобой. А теперь... а теперь стало не все равно.
– И это тоже чувствуется?
– Да.
Он помолчал, пораженный ее словами. Потом спросил:
– И что мне теперь с этим делать?
– Не знаю. Вообще-то каждый нормальный человек должен думать о себе. Просто обязан. Как же без этого?.. Не знаю, что тут делать.
Что это у нее работает там, за витражами этих чудных многоцветных леденцовых глаз? Интуиция? Или – ум?.. Откуда у нее ум? Или ей вообще не восемнадцать лет, а все двадцать восемь, и кто-то ловко подложил ее под меня, а точнее будет: ловко подложил ее МНЕ, – как бомбу замедленного действия, обведя вокруг пальца всех: и меня, и Николаса, и Кузьму нашего Иваныча?..
Эй, эй, прикрикнул он на себя. Ты что это? Совсем оборзел? Это же Дина твоя, Динара. Последняя любовь. Верность. Нежность. Счастье... Очухайся. Подбери свой поганый язык... При чем тут, впрочем, язык? Как раз язык-то знает свое место и лежит тихо-тихо... Тут, брат, не язык, тут хуже, тут в мозгах порча завелась... И даже не в мозгах, а в душе, в душонке твоей, обремененной трупом...
Он чувствовал, что засыпает. И лень было встать и перебраться в свою спальню. И лень было по-настоящему, с пристрастием и беспощадно, заняться этой гнилью, которая последнее время завелась внутри и принялась помаленьку выедать все, что пока еще уцелело от прошлого: ум, честь, совесть... нашей советской эпохи... преобразований и побед... всегда в единстве с народом...
Он заснул.
Он проснулся (или очнулся?), словно от внезапного крика. Сердце дергалось и корчилось, будто повешенный на веревке. Но было совсем тихо, и он ничего не слышал сначала, а потом догадался, что это – интерком в соседней комнате, в его спальне.
Никаких резких движений, привычно вспомнил он. Медленно. Плавно. В три разделения... Он осторожно освободился от шали и не торопясь сел. Дина тихонько посапывала у него под боком, по-кошачьи прикрыв лаково-когтистой лапкой глаза. Бесшумно мерцал экран телевизора. И снова закурлыкал интерком – вежливый, но настойчивый и неотступный, как сам Кронид.
– Да, – сказал он, нажимая клавишу. В спальне у него было холодно, и сразу же, даже на пушистом ковре, озябли босые ноги.
– Извините, господин Президент, – сказал тихий голос Кронида. – Это – генерал Малныч. Срочно. Настаивает.
Так. Опять что-то с Виконтом... Господи, да почему же «что-то»? Ясно, ЧТО может быть с Виконтом. Не приглашение же на день рождения. Три тридцать на часах.
– Давайте его.
На экранчике появилось скуластое молодое лицо и раскосые, с азиатчинкой, глаза. Почему-то он был в форме, даже и при фуражке. Для важности, что ли? Он был осел.
– Станислав Зиновьевич, у нас очередной приступ.
– Ясно. Сильный?
– Очень сильный. Как позапрошлой зимой, и может быть, даже еще хуже. Нам никак не удается стабилизировать мерцания...
– Хорошо. Я буду готов через пятнадцать минут. Высылайте машину.
– Уже выслали. Вертолет.
– Что?
– Вертолет, – повторил генерал Малныч. – Он будет у вас через тридцать – тридцать пять минут...
– Что за черт. Где вы?
– Мы на базовом участке. Это недалеко. Сорок минут лету.
Дина была уже здесь – принесла носки, штаны, туфли. Он принялся одеваться. Раздражение одолевало его все круче и наконец одолело.
– Черт бы вас всех подрал! – рявкнул он, как на митинге. – Чего вы все ст`оите с вашими капельницами! Без знахарства – ни на шаг!.. Нашли, понимаешь, исцелителя себе! Парацельсия!.. Тошнит меня от вашей медицины, блевать хочется. Дармоеды, черт вас всех подери!..
Генерал молчал, смиренно и преданно поедая его глазами. Все шло, как обычно идет, если приступ случается в неудобное время. А он всегда случается в неудобное время. На то он и приступ.
Одной ногой в штанине, свирепея все больше, он отключил к чертям драным этого идиота в медицинских погонах и гаркнул Крониду:
– Слышали? Подготовить посадку!
– Есть подготовить...
– Полечу один. Все встречи на завтра – отменить... – Он увидел странное выражение на лице Кронида и спросил: – В чем дело? Что там еще?
– Ничего, – поспешно сказал Кронид, приводя лицо в порядок. – Ничего существенного.
Было ясно, что он уклоняется, что еще какая-то гадость там произошла – поймали кого-нибудь на взятке (в Липецком отделении), или пасквиль очередной вышел, или предал кто-нибудь, паскудник проворовавшийся... к черту, к черту, к свиньям собачьим... или – опять какую-нибудь мерзость запустили про Динару... Не желаю сейчас этим заниматься, завтра, завтра, послезавтра.
Он злобно натягивал сорочку, жилет, не глядя загонял ноги в туфли, Динара торопливо застегивала ему запонки на манжетах, сердце бухало так, что в виски отдавало, и голова была мутная, дурная, и, как всегда в такие нехорошие минуты, он вдруг обнаружил, что хуже видит.
Ему было страшно.
Очень не хотелось в этом признаваться самому себе, он беспощадно давил в себе поганые видения, но ему было ПО-НАСТОЯЩЕМУ страшно, как не бывало, может быть, с того, самого первого, Виконтова приступа (случившегося еще до новой эры)... Какие там еще мерцания? Что за мерцания такие? Почему? Не было раньше никаких мерцаний... Он, натужно кряхтя, зашнуровал туфли, распрямился, прикрывая веки, чтобы избавиться от проклятых звездочек и блесток перед глазами, и протянул руки назад, в рукава куртки, которую держала наготове Динара.
– Спасибо, лапка, – проворчал он ей, стараясь смягчить голос, все еще норовящий у него сорваться то ли на команду, то ли на истерику. – Не обращай внимания. Это я... того-этого... волнуюсь маленько, если по-честному...
– А ты не волнуйся, – сказала она спокойно и даже, пожалуй, властно. – Все обойдется очень хорошо, вот увидишь.
И он снова мельком подумал: да вправду – восемнадцать ли ей лет, этой спокойной властной женщине? Не похоже ведь. Совсем не похоже... Он тут же снова отогнал от себя эту кривую мыслишку, но он знал, что теперь уже никогда не сможет отставить ее навсегда.
– К обеду меня завтра ты не жди, не успею, – сказал он. – То есть, может быть, и успею, но лучше уж не жди. Неизвестно, как там все развернется... Впрочем, я тебе позвоню, как только освобожусь.
– Конечно. И не волнуйся так. Я же тебе говорю: все обойдется.
Он наклонился и чмокнул ее в красивую бровь. И в самом деле, подумал он, неожиданно успокаиваясь. Чего это я? Конечно же, все обойдется. Всегда обходилось, и сегодня обойдется. Профессионал же! Единственный в мире.
– Профессионал! – сказал он ей значительно.
– Да. Единственный в мире.
– Именно. Ну, я пошел. Ложись спатеньки.
– А любовь? – спросила она требовательно.
– Никогда не умрет! – отрапортовал он. И чмокнул ее в другую красивую бровь.
ГЛАВА 4В штабе оказалось полно народу, причем половина – незнакомые. Сидевшие – тут же повскакали и встали руки по швам. Стоявшие спиною развернулись с поспешностью и приняли почтительный вид. У всех моментально сделался почтительный вид, даже у нахального Артема, который, будучи командиром внешней охраны, единственный здесь позволял себе курить, стряхивая пепел в ладошку.
Он сделал им всем вместе и никому в особенности приветственный жест и сразу прошел к своему креслу под торшером.
– Так, – сказал он, усаживаясь. – Спасибо за внимание. Членов штаба прошу остаться, остальные – пожалуйте по местам... Что тут у нас происходит? – спросил он у Кронида. – Переворот? Бунт? Землетрясение? Ночь на дворе... Почему сборище?
Вообще-то ночные сборища в штабе были делом довольно обыкновенным и не требовали для себя повода ни в виде бунтов, ни тем более землетрясений. Ночная смена очень даже частенько собиралась здесь, пока его не было на посту, – потрепаться, попить кофейку, ОБМЕНЯТЬСЯ. Но сегодня ощущалось что-то необычное в атмосфере, смутная аура некоего события, быстро угасающее эхо каких-то нервных обсуждений... И непонятно было, почему Кузьма Иваныч все еще (или опять-снова) здесь, и Эдик, оказывается, не спит еще (либо – почему-то разбужен и встал), да и Крониду нечего здесь, в штабе, делать в четыре утра. При прочих равных.
Он прищурясь наблюдал, как быстро и почти без шума освобождается помещение, взгляды ловил, обращенные к нему, быстрые и раздражающе неопределенные, и замечал уклончивость Кронида, который ни на какие вопросы Хозяина отвечать не стал, а принялся с чрезмерной деловитостью наливать ему горячий кофе в персональную чашечку, и странное, неуместное, пожалуй, удовлетворение на бледном лице Эдика с застывшей полуулыбкой, и сосредоточенное сопение Кузьмы Иваныча, вдруг принявшегося изучать пачку каких-то «корочек», которые он извлек из кармана пиджака и разложил на скатерти...
Кроме них остались в комнате только Артем (пригасивший-таки ввиду присутствия начальства свою вонючую сигаретку) да здоровенный бык Шалима, начальник транспорта вообще и вертодрома в частности (плечищи, шея, мерно жующая челюсть и сонные глаза со светлыми ресницами).
Он отхлебнул кофе, благодарно кивнул Крониду и спросил у Шалимы:
– Подыматься мне не пора уже? Когда там вертушка ожидается?
– Выходили на связь в три тридцать девять, – доложил Шалима голосом сиплым и в то же время неожиданно высоким. – Ожидаются в четыре ровно. Плюс-минус.
– Ладно, – сказал он. – Тогда можно спокойно кофейку попить... Кронид Сергеевич, напомните, пожалуйста, я забыл: у меня встречи какие-нибудь были запланированы?..
– Только вечером. День мы освободили. А в девятнадцать часов – Ротари-клуб.
– Умгу. Спасибо. Вспомнил. Жалко, придется, скорее всего, извиниться.
– Слушаюсь, – сказал Кронид, и снова он поймал на себе его тайный взгляд, быстрый и неопределенный.
– Господин Шалима, – сказал он, улыбаясь по возможности приветливо (Шалима ему не нравился – слишком уж был груб и самодоволен, настоящий мужчина: пьет все, что горит, и трахает все, что шевелится). – Кофейку не хотите? Нет? А то – давайте. Горяченький... Нет? Ну хорошо, спасибо. Я буду ждать ваших распоряжений. Хотелось бы минут за пять до посадки уже быть в курсе... Спасибо.
Он проводил глазами широчайшую спинищу, обтянутую черным блестящим кожаном, и повернулся к Артему.
– Кофейку не хочу, – сейчас же объявил тот бодро и нагло. – Выметусь отсюда немедленно, но предварительно хотел бы получить разрешение сопровождать вас на базу...
– На какую еще – базу?
– На военную, – возразил Артем. – Я так понял, господин Президент, что вы сейчас вылетаете на военную базу под Красной Вишеркой. Прошу разрешения сопровождать.
– Это где же это такая – Вишерка?
– Красная Вишерка, – бодро и деловито доложил Артем. – Километров сто шестьдесят отсюда... Там у них, как я понял, база...
Карта-двухкилометровка тут же появилась и легла перед ним поверх кофейных чашек и вазочек с печеньем. Он нашел Красную Вишерку и убедился, что да, пожалуй, километров сто шестьдесят-семьдесят, но никакой базы, разумеется, на карте нет, а есть болота (Лушино болото, например, а также Дубровский Мох, Лебединый Мох и даже – Подвитчий Мох) и леса, – надо полагать, не слишком в этих местах приветливые.
Он принялся расспрашивать про базу, но никто ничего толком не знал, все либо догадывались, либо подозревали, либо так понялииз переговоров с той стороной.
– Ну ладно, – сказал он наконец, возвращая карту Артему. – Не суть важно. Скоро все сам увижу. Интересно, конечно: что это там может быть за база? У медиков? У ветеринаров?.. А сопровождать меня не надо, Артем, спасибо. Ей-богу, раз уж вертолет выслали, значит, сопровождающих там хватает, будьте уверены. Генерал Малныч – мужчина серьезный, хоть и медицинской службы. Я его давно знаю... Всё! – сказал он Артему, который, кажется, намеревался и дальше приставать на эту тему. – Всё. Не люблю.
Они прекрасно знали, что он НЕ ЛЮБИТ, но им это обстоятельство всегда крайне не нравилось, и случались поэтому между ними споры и даже ссоры. Они и сейчас смотрели одинаково укоризненно и недовольно. Но они обойдутся. Нечего.
Он оглядел их всех по очереди, как бы дополнительно осаживая, а потом сказал спокойно:
– Так. А теперь – быстро и без вранья – что еще стряслось? Что вы все от меня скрываете?
Мгновение – и они снова сделались разными. Теперь все они были смущены и оказались в неловкости, и в этом состоянии смущения-неловкости они были очень непохожи. Тут они были уже – каждый сам по себе.
– Николас... – прокряхтел наконец, по-прежнему не глядя в глаза, Кузьма Иваныч. Видимо, решил (и совершенно справедливо), что по должности полагается говорить именно ему. Впрочем, он тут же и замолчал.
– Так, Николас. Очень хорошо. Ну и что – Николас? Чего вы мнетесь? Чего он еще натворил, этот предатель? Бандит этот... Ну?
Однако Кузьма Иванович такого тона не принял. Он снова закряхтел, почти даже жалобно, и сделал несчастное лицо, словно у него вдруг прихватило зуб.
И тогда он – понял.
– Неправда, – сказал он, преодолевая мгновенное удушье.
– Правда, Станислав Зиновьевич.
Странно, но он ничего не почувствовал. Пустота какая-то возникла внутри, и сделалось зябко. А ведь я, пожалуй, ждал этого, подумал он как о чем-то постороннем. А может быть, даже хотел? Подлость... Подлость!
– Когда? – спросил он через силу. Все это теперь было уже неважно. Несущественно. Детали.
– Сегодня. Вернее, вчера. В десять вечера.
– Каким образом?
– Инсульт.
– Что?!
– Инсульт.
– Вздор! – сказал он. – Откуда у вас сведения?
Кузьма Иваныч ответил что-то – что-то в том смысле, что сведения абсолютно надежные, но он его уже больше не слушал.
«...Только не убивай его... Пожалуйста... Ведь ты его обидел. Пожалей...»
...Вот КАК они на меня все смотрели, подумал он. Я-то вообразил, что смотрят они (взглядывают украдкой, грустят глазами, чуть ли не всхлипывают) с сочувствием, с сожалением, удрученно и жалостливо. Ничего подобного. С восхищением они на меня смотрели – с опасливым восхищением, гордясь и ужасаясь, робко и радостно, с жадным испуганным любопытством, с изумлением и облегчением, – оттого с облегчением, что все, слава богу, уже кончилось и теперь позади... Так, наверное, урки украдкой взглядывают на своего пахана, только что запоровшего очередного соперника...
...Спокойнее. Спокойнее надо, сказал он себе. Они правы: все теперь уже позади. Нет человека – нет проблемы (это – Эдик, наверняка, по физиономии видно). Обошлось как бы само собой, и – ладненько (Кузьма Иванович). Он должен был знать, на что идет (Кронид – этот предательств не прощает, он просто не понимает их). Ну, Старикан! Ну дает копоти! (Общее мнение.) И – общий вздох облегчения. (Что, между прочим, убедительно мне доказывает: я Николаса недооценивал. И напрасно. Он вызывал СЕРЬЕЗНЕЙШИЕ, оказывается, опасения, раз все это так воспринято, раз не сочтено это СОБЫТИЕ стрельбою из пушки по воробью.)
(«...Только не убивай его... Пожалуйста... Ведь ты его обидел. Пожалей...» Мне предстоит еще ей об этом рассказать. Нет, нет, только не сейчас, потом... И лучше – не я.)
...Все кончилось. Все всегда кончается, надобно только потерпеть. В политике, как в науке: побеждает не тот, за кем истина, а тот, кто дольше живет. Где вы все теперь, потрясатели душ, вожди и ораторы, полководцы и крикуны? А я – вот он я, высокий и стройный... Цинизма, цинизма больше – очень хорошо помогает от печени... Надо же, как они на меня смотрят, собаки! Всё. Я уже справился. Теперь главное – верный тон.
– Кронид Сергеевич, – произнес он и мельком порадовался, что голос у него звучит вполне как обычно – голос распоряжений. – Я попрошу вас вот что. Вдове – пенсию. Из спецфонда...
– Он развелся, – сказал Кронид негромко. – Но, правда, остались дети.
– Значит, пенсию – детям... Вам придется присутствовать на похоронах, вас все знают. Венок. Речь. И все такое, сами знаете.
– Понял. Буду.
– Далее. В газетах – хорошую статью: «Ушел от нас один из самых славных зачинателей Движения Честных...»
– Обязательно, – сказал Кронид.
– Я напишу, господин Президент, – вставил Эдик с удовольствием, которого уже не скрывал.
– Хорошо. Спасибо, Эдик. Далее... Что еще? Я ничего не пропустил?
– Не беспокойтесь, господин Президент, – сказал Кузьма Иванович. – Мы сами все сделаем. Как надо. Не подведем.
– Облегчение испытываете? – не надо было этого говорить, но сказал.
– Хм... А что? Ну, и испытываю... Баба с возу – кобыле легче. Слыхали такую народную мудрость?
Видно было, что Кузьма Иванович рассердился не на шутку. Поспокойнее, снова сказал себе он. Нечего тебе с ними ссориться. Их не переделаешь. И никого не переделаешь. Ничего нельзя изменить, и никого нельзя переделать...
– Господин Президент, – сказал Эдик примирительно. – Мы все вам соболезнуем. Но мы же ведь и понимаем, что иначе было – нельзя. Я знаю, вы на эту тему говорить не любите...
– На какую это тему я говорить не люблю?
– Н-ну... Прошу вас, господин Президент. Не надо. Эту проблему по-другому решить было просто невозможно. А этот путь, ей-богу, не самый плохой. Кронид правильно сказал: он должен был знать, на что идет.
– И на что же? На что он «идет»?
Эдик оскорбленно поджал губы и замолчал. Самое смешное было, что он и в самом деле ведь хотел прийти, так сказать, на помощь... выразить соболезнование таким вот образом... поддержать... оправдать...
– Бабы, – сказал он им, не желая больше сдерживаться. – Сколько же раз вам объяснять? За кого вы меня держите, ребятки мои? За монстра?..
– Господин Президент!.. – вскричал, сейчас же всполошившись и весь побледнев, Эдик.
– Да ну вас к собакам, всех! Мне это надоело, в конце концов. Неужели вы не понимаете, что это унизительно? Каждый раз вы смотрите на меня как дети на злого волшебника, как уркаганы на своего пахана... И перестаньте называть меня президентом! – гаркнул он. – Что за манера такая, в самом деле? Я никакой не президент пока еще! И никогда не стану, если команда у меня будет – суеверные бабы с придурью! Как не стыдно! Верите дешевым байкам, слухам верите... и сами же эти слухи плодите. Думаете, так будет лучше? Не будет! Правда как гвоздь – из любого мешка торчит...
Он замолчал. Это было бесполезно. Пора бы ему понять, что такие речи – абсолютно бесполезны. Они верят так называемым фактам, а не ему. Они убеждены, что от него ничего не зависит, что он просто ТАКОЙ – и это хорошо. Это им нравится. Это удовлетворяет их и укрепляет в вере. Потому что это – на пользу дела. А все, что идет на пользу делу, – хорошо. «Таков наш мир – от пуповины разодран на две половины» – на «хорошо для дела» и «плохо для дела», на наше и не наше, на пользу и во вред. Середины нет. И не надо. К чему усложнять вещи, и без того достаточно сложные?..
...Почему, собственно, меня это так бесит? Почему не принять ситуацию как данность? Ведь с некоторой точки зрения, причем весьма естественной, они совершенно правы. Кто я им такой, в конце-то концов? Я не отличаюсь ни умом сколько-нибудь особенным, ни знаниями своими, в людях неважно разбираюсь, ошибаюсь часто, прогнозист – никудышный, интуиции – никакой, политическую ситуацию ощущаю хуже многих... Просто я первый в истории политик, который подбирает себе команду по принципу честности и бескорыстия. И который всегда честен с избирателями – даже во вред своему делу, потому что избирателю надо ВРАТЬ, избиратель предпочитает, когда ему врут, – правда холодна, неприветлива, отталкивающе безнадежна. Только ложь одна и согревает нас в этом ледяном мире... А я не лгу. И этим своим ТАРАЩЕГЛАЗЫМ лгать не велю...
«...Здравствуйте, я – Честный Стас. Я готов продать свою честность за ту единственную валюту мира, за которую можно ее купить, – за ваше доверие...»
...Честность в политике – это что-то вроде однополой любви, что-то ненастоящее и во всяком случае – неестественное. «Честный политик» – это явный оксиморон. Если честный, то – не политик. Если политик, то – какая уж тут честность. А если даже все-таки честность, то уж – не та. Другого свойства. Из других, наверное, молекул. Неподлинная. Впрочем: «честный вор» – вполне определенное понятие. «Честный вор», «честный битый фрайер»... Другой мир. Тоже реальный. Так что дело не в словах... В конце концов, честность – это всего лишь способность совершать благородные, то есть бессмысленные, поступки...
...Честный политик в реальном мире просто невозможен, его съедают обычно, и очень скоро, но меня охраняет мой Рок: всем известно, что каждый, кто встанет мне поперек пути, будет повержен. Мой путь – путь Рока, и сам Фатум освобождает мне дорогу. Это общенародное знание идет из дремучих времен начала перестройки, и теперь уже не установишь, кто первый пустил слух и породил поверье... может быть, и я сам. Вполне возможно... Время было горячее, а я и сам тогда в это верил... или хотел верить... НО ВЕДЬ ОНИ И В САМОМ ДЕЛЕ УМИРАЮТ!.. Все они. Посмевшие. Или не знавшие. Или знавшие, но не поверившие. Или рискнувшие... Все они повержены и ЛЕЖАТ. Одни в могилах, другие в больницах. Списки уже давно составлены (и друзьями, и врагами), и опубликованы давно, и тридцать три раза уже обсуждены, просчитаны на вероятность, опровергнуты или подняты до уровня Нового Мифа...
Все молчали. Каждый думал свое, а может быть, все они думали одно и то же. Но тут дверь распахнулась, и на пороге возник Шалима, и по кривому лицу его сразу стало ясно, что дела пошли наперекосяк.
– Вертушка таки грохнулась, – сказал он сипло и сглотнул. – Похоже, их подстрелили. Ракетой. И связи нет.