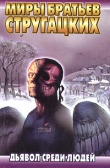Текст книги "Том 10. С.Витицкий, С.Ярославцев"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 51 страниц)
14
Дракон бедствовал, потому что управлялся самыми тёмными и стыдными органами своего тела.
Я был в тот день с Алисой у старинного приятеля, которого в своё время вытащил из тяжёлого инфаркта. Резиденция в военном городке километрах в сорока. Машина на дом. Мороз и солнце. Четыре пары гостей. Встреча Нового года с шампанским. Ночная прогулка. Сладкий и удобный сон. Утром лёгкий завтрак. Снова мороз и солнце. Отличная прогулка на лыжах, праздничный обед, послеобеденный сон. Преферанс под коньячок. В десять расписали, слегка закусили, отбой. Раннее утро, опять мороз и солнце. Прощальные объятья: «Всё же редко встречаемся, старина!» Сорок обратных километров по накатанной дороге. Останови вон у того дома, дружок. Спасибо. Пятёрка в бурую от всяких ГСМ ладонь. Хорошо живёт на свете Винни-Пух!
Я и не подозревал, какие напасти ждут меня. Как выразился Сэм Уэллер:
«Знай вы, кто тут находится поблизости, сэр, я думаю, вы запели бы другую песенку, как сказал, посмеиваясь, ястреб, услышав, как малиновка распевает за углом…»
Я переодевался в повседневное, когда в кабинете задребезжал телефон. Звонил дежурный врач. Едва я откликнулся, он заорал дурным голосом:
– Алексей Андреич? Слава те, Господи, наконец-то! Главный вас обыскался…
– С Новым годом! – строго произнёс я, физически ощущая, как сердце моё проваливается в желудок.
– Да-да, конечно… Вас тоже… Алексей Андреич, срочно в больницу. Тут у нас неприятность…
– Погоди. У кого это – у нас? У вас в хирургии?
– Как раз наоборот. У вас в терапии. Главный вас со вчерашнего дня разыскивает.
Я сосредоточился и перебрал в памяти самые скверные возможности. Нет, всё было не то. Даже если бы половина моих старушек и инфарктников скончались в одночасье, наш Главный не стал бы тратить праздничный день на розыски заведующего терапией. Не такой он человек. Но что же тогда? Словно бы в ответ голос в трубке прошелестел:
– Барашкин вчера копыта откинул.
– Умер?
– Как есть умер, – подтвердил с придыханием дежурный.
– От радикулита? – обалдело спросил я. Конечно, я был не в себе и тут же спохватился: – Хорошо. Иду.
Всё стало ослепительно ясно. Барашкин откинул копыта на моей территории, и даже если бы причиной смерти был укус гюрзы, расхлёбывать эту кашу придётся именно мне, и уже виделся я себе тонущим в море докладных, объяснительных, гневных жалоб родственников и зловещих запросов из инстанций. Потому что Барашкин, а не безвестный пенсионер с какой-нибудь Пугачёвки… Со стеснённым сердцем, на отяжелевших ногах направился я в больницу, выражаясь чуть ли не вслух по адресу покойного Барашкина, здравствующего Главного и игривой судьбы своей.
Дежурный врач уже ждал меня. Он сообщил, что Главный сидит у себя, паникует и ждёт меня, чтобы обсудить некоторые вопросы. Ладно, сказал я, это потом. Что и как произошло? Дежурный деликатно напомнил мне, что заступил только вчера вечером, когда всё значимое уже произошло, а в больнице царила одна лишь бестолковщина, производимая компетентными лицами, демонстрировавшими различные стадии алкоголического восторга.
Ладно, сказал я, но мне всё же хотелось бы выяснить всё-таки, что и как произошло. Ты же понимаешь, старина, прежде чем предстать перед Главным и обсуждать вопросы… Если спросит, скажи ему, что я у себя. И я поволок ноги в свою родную терапию. Барашкин – это Барашкин, неотвязно думалось мне, и тень прокурора реяла у меня за плечами.
Приказав нянечке разыскать старшую сестру, я забрался к себе в кабинет. Оглядел стол – истории болезни не было. Когда вошла старшая, я спросил, забыв поздороваться:
– Какой диагноз?
– Острая коронарная недостаточность.
– А где история?
– У главного врача.
Так. Я подпёр щёку кулаком и приказал:
– Рассказывайте, что и как.
Она замялась: вчера она тоже праздновала, как и я. Ещё одно лыко мне в строку. Но тут в кабинет ввалился весь наличный медперсонал плюс ещё трое бабочек, бывших вчера свидетельницами. Эта троица явилась сегодня посмотреть, что из всего этого выйдет. Так я их понял и пропустил мимо ушей, как одна из них, старейшая наша нянька Эльвира, объяснила с недостойной прямотой: «Надо ж было поделиться радостью с подругами…» Вот они и рассказали мне, что и как.
Вчера после обеда явилась к Барашкину его супруга. Естественно, она не стала дожидаться с хамами, когда освободится халат, а впёрлась прямо в котиковой шубе и расшитых валеночках-унтах. Она одарила своего страдальца гостинцами, всё чин чинарем: «А там икра, а там вино, и сыр, и печки-лавочки…» Икра, точно, была, печки-лавочки были представлены балычком и буженинкой, а вместо вина одарён был страдалец бутылкой невиданного в наших широтах коньяка. И была при этом она, супруга, пьяна. («Навеселе», – сказала деликатная санитарка Симочка; «Под бухарем», – подтвердила грубая санитарка Галина из хирургии; «По самые брови налитая», – возразила тётя Эльвира.) Впрочем, пробыла жена недолго. Тяпнули, наверное, по рюмашке за Новый год, и она отчалила, оставив повелителя своего сосать в одиночестве.
Некоторое время всё шло тихо и мирно, но вдруг дверь спецблока с треском распахнулась, и Барашкин возник на пороге – в роскошном халате нараспашку, в пёстрой фуфайке ручной вязки и в тёплых антирадикулитных подштанниках, вся аптека наружу. Больные и посетители, расположившиеся на лавочках под сенью худосочных больничных пальм, замерли от неожиданности. Барашкин же, грозно оглядев их, заговорил. А глотка у него, надо признать, была потрясающая. Когда он принимался орать, дрожали стёкла, дребезжала посуда и бедные мои старушки пациентки в ужасе прятались с головой под одеяло. И все выступления его были, как правило, обличительными и угрожающими. Таким было и его последнее выступление.
Репертуар, как явствовало из свидетельских показаний, был обычный, с обычными же непредсказуемыми перескоками с темы на тему. Он не позволит таким и сяким коновалам делать над ним свои поганые опыты и писать с него свои учёные статьи. Он очень даже хорошо понимает, что больницу заполнили за взятки разные тунеядцы, которые отлёживаются здесь за государственный счёт, чтобы уклониться, да ещё шляются в сортир мимо его двери. Он выведет на чистую воду тех, кто обворовывает в больнице народ и кормит народ помоями…
Посетители попытались урезонить его – он пригрозил сгноить их. Санитарка попыталась водворить его обратно в бокс – он объявил, что сейчас не те времена, чтобы затыкать рот. Прибежал растерянный дежурный врач – он повелел врачу в недельный срок убраться в Израиль. Тётя Эльвира, нежно обняв его за необъятную талию, стала уговаривать его пойти и прилечь – он упёрся и стал громогласно и косноязычно объяснять, кто такая тётя Эльвира и кто были её ближайшие родственники…
И вот как всё получилось. Только-только Барашкин впал в разоблачение сексуальных связей давно усопших родителей старой няньки Эльвиры, как вдруг замолк. Прямо на полуслове. Словно радио выключили. Симочка, в ужасе прятавшаяся за спиной дежурного врача, видела всё своими глазами. Барашкин смолк, морда у него посинела, он икнул, всхлипнул и повалился на бок. Его даже подхватить не успели. Упал, перебрал ногами и застыл, закатив глаза. Всё.
– Что сделали? – тупо спросил я.
Сделали всё, что можно было и что полагалось. Дефибрилляцию. Интубацию. Ничего не получилось. Труп – он и есть труп. Всё равно, что укол в протез. Сдох Барашкин. И скатертью дорога. Правильно сказал Волошин, от души. Вышел, глянул и сказал – громко так, чтобы всем слышно было: «Собаке собачья смерть»…
Сердце моё дало сбой.
– Постой, постой, – коснеющим языком выговорил я. – Кто, ты говоришь, вышел?
– Волошин… Да вы знаете, с одним глазом который…
– Откуда вышел?
– Да из соседнего же бокса! Вы что, Алексей Андреевич, забыли? Там Люсенька, жена его лежит…
Пока я собирался с мыслями, выяснилось, что Ким был очень заботливым мужем. Навещал жену чуть ли не каждый день и всегда с гостинцами. Пошил себе больничный халат, сам, видно, стирал и даже крахмалил. Часто приходил с дочкой. Тощенькая такая, конопатенькая, но ухоженная, волосики всегда расчёсанные, с бантами, и платьица аккуратные. И вчера тоже с дочкой пришёл. Она у них, бедная, не слышит и не говорит, но всё соображает, а отца так понимает с одного взгляда. Пришли они вчера, рассказывала тётя Эльвира, и устроил он в боксе целый пир. Я им кипятку, конечно. Тасенька чай разливала и разносила. А уж бублики были – объеденье, тёплые ещё, видно, сам стряпал…
– Постой, тётя Эльвира, – прервал я её. – Что ты мне про бублики… Когда Барашкин загнулся, Волошин был в коридоре?
– Не было его в коридоре, – решительно сказала тётя Эльвира. – Я же говорю, он после вышел…
– Точно, – подтвердила Галина из хирургии. – Как Барашкин грохнулся, я побежала помочь Григорию Рувимовичу, а Волошин этот как раз из бокса выходил и дверью меня в задницу толкнул…
Все они, словно почуяв что-то, с выжидательным любопытством уставились на меня. Но я только спросил:
– Что было потом?
Потом, после необходимых и бесполезных процедур, труп утащили в морг, а ближе к вечеру нагрянула компания дармоедов то ли из милиции, то ли из безопасности, большею частию по случаю праздника на взводе, и с ними жена… вдова усопшего. Та вообще лыка не вязала и только непрерывно требовала, чтобы тело мужа хоть на кусочки изрезать, а доискаться, кто совершил террористический акт. Вцепились в дежурного врача: не ударил ли он или не толкнул ли товарища Барашкина, когда тот в пылу полемики позволил себе нерекомендованные высказывания. Потом допрашивали персонал. Один добрался даже до котельной, где и был нынче утром обнаружен спящим в обнимку с пьяным нашим кочегаром…
Я слушал и не слушал. Значит, действительно Ким, лихорадочно думалось мне. Нельзя больше прятать голову в сугроб, убаюкивать себя всякой пошлятиной насчёт совпадений. Совпадение раз, совпадение два, но помилуй Боже, где же воля Твоя? В своё время узнаем, конечно. Как пел много лет назад одноногий дядя Костя, кавалер одинокой медали: «На закуску узнаем, не пройдёт ещё час, есть ли небо над раем, иль морочили нас»…
Какое-то движение почудилось мне в пустом углу за плечом санитарки Симочки. Я вгляделся. Посиневшая, с оскаленными золотыми фиксами, с закаченными бельмами морда Барашкина была там, поторчала, скривилась безобразно и исчезла. Я вытер со лба испарину. Крещендо, вспомнилось мне. Вот как это называется. Крещендо. Сначала райком. Затем собачья бойня. Затем падение Нужника. Теперь вот Барашкин. Не просто Барашкин, а ценный Барашкин.
Я спровадил наших девочек и тётечек из кабинета и отправился к Главному. Из мутных пучин непроглядной тайны на знакомую тёплую отмель обыденщины. Глубина не выше щиколотки. Отчётливо виден каждый трилобитик, копошащийся в донном песочке. Главный – не Ким Волошин, он прозрачен как стекло: профан, подхалим и трус. Заветная мечта – лекторская должность в облздраве. И, следовательно, никаких ЧП. У него в больнице не было, нет и не будет никаких ЧП. Пока он Главный, нет никаких ЧП, а есть нерадивые, авантюристы, возомнившие о себе зазнайки, о которых он своевременно и заранее сигнализирует куда надо. Тем более такое лицо, как покойный Барашкин. Пятно на репутации больницы. Следствие будет тщательным и пристрастным. Прокуратура по головке не погладит. Слава Главному! Я наливался злостью. Весёлой злостью, я бы сказал. Мертвецы перестали мерещиться по углам. Ещё немного. Вот оно, коронное: «И имейте в виду, Алексей Андреевич, никто для вас каштанов таскать не будет. Когда вызовут на ковёр, пойдёте вы, а не я. Мне на это время заболеть ничего не стоит».
Я нагло потянулся, зевая, встал и вышел, оставив его в приятном недоумении, – не сошёл ли я с ума и не должно ли меня вязать и отправить куда надо с соответствующей сопроводиловкой.
Я спустился в прозекторскую. Моисей Наумович сидел на «скорбном столе» (так он прозвал это зловещее сооружение из искусственного мрамора) и курил. Едва глянув на меня, он пробубнил скучным голосом:
– Совсем был здоровый мужик. Протокол будете читать?
Я помотал головой.
– Нет. Пусть в неврологии читают. Впрочем, какой вы диагноз поставили?
Он помолчал, затем с кряхтением слез со «скорбного стола».
– Диагноз… – проворчал он. – Нормальный. Тот же, что и дежурный врач. Острая коронарная. Какой ещё может быть диагноз? Вдруг ни с того ни с сего остановилось сердце. Бывает?
Я машинально согласился, что бывает. Моисей Наумович вдруг рассмеялся.
– Представляете, Алексей Андреевич, эта дамочка… вдовушка… настояла на немедленном вскрытии, и чтобы у неё на глазах. Чтобы убийцы в белых халатах чего не утаили. Попытался отговорить её, выпереть, – куда там! Вступились эти… как их… следователи, что ли? С красными книжечками. Ну, мне с ними не тягаться. Ладно, говорю, сами напросились, на себя пеняйте… – Он снова рассмеялся – нехорошо так, непохоже на него, словно бы злорадно. – Едва я начал, как повело их. Всё мне здесь заблевали и унеслись. И вдову уволокли… Слабые люди, как сказал бы товарищ Коба.
– Моисей Наумович, – сказал я, – у меня для вас новости.
– Это плохо, – сказал он. – Рассказывайте, Алексей Андреевич.
Я рассказал. Он выслушал. Лицо его закаменело. С минуту мы молчали, потом он проскрипел:
– Как это Волошин сказал? Собаке собачья смерть… Совсем получается по Фрейду, на Пугачёвку указывает…
Он заторопился. Напяливая свою облезлую шубёнку и кое-как обматываясь шарфом, произнёс невнятной скороговоркой:
– Но ведь и опять у него ничего не вышло! Мозги изрезаны, потроха искромсаны… Видно, не предусмотрел. Значит, будем ждать следующего случая…
Смысл этой странной сентенции он объяснил несколькими днями позже.
15
Огромная гиена, пятнистая, лобастая, с янтарными глазами, катила по дебаркадеру отгрызенную человеческую голову. Как игривый котёнок катает по ковру клубок шерсти.
Явившийся на очередной «чек-ап» и на уколы лейтенант С. сообщил мне (как всегда по секрету, конечно), что у них в управлении имело место чрезвычайно чрезвычайное происшествие. Оказывается, ещё со времён странной истории в райкоме милиция с подачи нашей ГБ взяла под колпак некоего Кима Сергеевича Волошина («Да вы его должны помнить, Алексей Андреевич, это тот, что в газете про Полынь-город… После райкомовских падений мы его разыскивали, я вам рассказывал…») И вот после смерти Барашкина его вызвали в управление. Беседовал с ним сам капитан в своём кабинете за закрытой дверью.
Вдруг Волошин распахнул дверь и гаркнул: «Эй, вертухаи! Ваш начальничек упаковочку даёт!» Кинулись. Капитан лежал головой на столе и стонал. Выяснилось, что он навалил себе в брюки. Ещё не успела подойти «скорая», как капитан очнулся, огляделся с очумелым видом, узрел Волошина и слабым голосом приказал удалить его из управления. Что и было сделано весело и беспечно. Врач же «скорой» констатировал лёгкий спазм мозговых сосудов и порекомендовал сотрудникам отвести злосчастного начальника отмываться.
Признаюсь, я преисполнился злорадства. (Силён враг добра в человеке!) А как же! Ничего им не стоит упечь какого-нибудь пархатого Григория Рувимовича или, скажем, завуча Второй школы (был такой эпизод), но вот столкнулись лоб в лоб с бесом – и полные штаны…
– Ну, и как? – спросил я, демонстрируя серость и невинность почти девичью. – Вы его, конечно, снова вызвали?
Но лейтенант С. тоже, видимо, подумал насчёт бесов. Он считает, что с таким типом лучше не связываться. И все в управлении так считают. И капитан тоже. Нет, это не дело милиции. Об этом ведь и реляцию толком не напишешь. Представляете, Алексей Андреевич, приходит к нашему полковнику в Ольденбург бумага! Да ещё о том, как наш капитан обос… А если у гэбэшников так свербит, то пусть сами и занимаются, а мы полюбуемся со стороны…
Когда С. ушёл, я бросился к Моисею Наумовичу. Выслушав меня, он невесело ухмыльнулся и бесцветным голосом выразил опасение, что дальше будет ещё хуже. И он оказался прав. Дальше получилось так плохо, что и вспоминать не хочется. Но из песенки этой ни единого слова выкидывать нельзя.
Узнали мы об этом страшном деле во всех подробностях от насмерть перепуганной сестры-хозяйки Грипы, а та – от пресловутой тётки Дуси, соседки Волошиных, очень прилепившейся в последнее время к Люсе и её убогой дочке. Устойчивая информационная цепочка, я бы сказал, совсем как в случае с Нужником… и очень для нас удобная, если здесь уместно такое слово.
Так вот, Ким сидел себе дома у окна и что-то мастерил на подоконнике, поглядывая на падчерицу, игравшую во дворе. Люся и тётка Дуся стряпали на кухне и напевали, а Ким им подсвистывал и всё поглядывал да поглядывал, следил, чтобы Тася, упаси Бог, не сбежала бы со двора на улицу, где машины. А денёк был отменный, и собралось на дворе дюжины полторы дошкольниц и девочек-первоклашек, катались со снежной горки кто на салазках, кто на дощечках, а кто и просто так. Мальчишки, как водится, играли отдельно. Такова была диспозиция к началу трагедии.
Как известно, дети – цветы жизни. Но весьма часто без видимой причины они разом обращаются все против одного, причём, как правило, слабейшего и самого робкого или, что совсем уже предпочтительно, против увечного. В тот день дьявол науськал детей на Тасю. Начала кампанию дочка монтёра, жившего этажом выше Волошиных, ученица второго класса, девочка крупная, грубоватая и задиристая. Она повалила Тасю и с торжествующим воплем: «Дура глухая, корова мычливая!» – принялась возить её мордочкой по снегу. Весёлые подружки не замедлили присоединиться. И всё это увидел Ким.
Он взревел, вскочил, запутался ногами в упавшем табурете, разбил его и, оттолкнув выскочившую в прихожую жену, бомбой вылетел на лестничную площадку. Он проскочил два пролёта, а на ступеньках третьего поскользнулся, с размаху сел и так и остался сидеть, стиснув голову руками, весь в поту, с фиолетовой лысиной. Наверное, именно в этот момент и произошло умертвие. Дети с отчаянным визгом брызнули в разные стороны, и на месте остались двое: ворочавшаяся на снегу, мычавшая от страха Тася и неподвижно распластавшаяся дочка монтёра. Мёртвая. Необратимо мёртвая.
Так рассказала нам, трясясь и закатывая глаза, наша Грипа. Уже на следующий день. «Внезапная смерть», как сформулировал корифей из кардиологической бригады «скорой». «Рефлекторная остановка кровообращения», как занёс в справку мертвеющей рукой Моисей Наумович.
Дальше начались последствия. Соседям и особенно родителям было как день ясно, что доктора либо не разобрались, либо морочат людям голову, что никакой такой «рефлекторной» у девочки не случилось, а была девочка убита, и убил её непостижимым образом Ким Волошин, всем известный колдун и злодей. Тех, кто сомневался, давили прецедентами – происшествием с Нужником и смертью Барашкина. Скоро весь город кипел возбуждением, близким к панике.
Конечно, требовались объяснения, и загуляли ужасные слухи. Материалисты убеждали, будто злодей Волошин вооружён неким ручным газомётом, мистики талдычили насчёт дурного глаза, порчи и какого-то авестийского волшебства. Но требовались не только объяснения, требовалось и немедленное отмщение. В райком, в милицию, в газету посыпались письма. Арестовать и произвести доскональное расследование. Если потребуется, то и с применением форсированных методов допроса. А ещё лучше – просто взять и повесить на площади Ленина…
И были соответствующие делегации. Ветеранов партии и труда. Общества защиты животных. Воинствующих безбожников и воинствующих патриотов. В райкоме им сказали, что проблема сложная, необходимых специалистов нет, послан запрос в область. В милиции объявили, что никакие действия Волошина К.С. ни под какую статью УК РСФСР не подпадают, попытки же самосуда над Волошиным К.С. будут пресекаться строго и беспощадно. А редактор нашей славной газеты, хоть и рад был бы свести счёты с бывшим сотрудником, самоустранился, ибо только недавно получил втык за статью о высадке инопланетян в соседней области.
Характерно, что градус гражданского возмущения не был одинаков для всего города. Больше всех волновались в районах, наиболее удалённых от «Черёмушек», – за Большим Оврагом. В доме же, где жили Волошины, и ближайших окрестностях население держалось тише самой застойной воды и ниже самой низкой муравушки. Похоронив дочку, монтёр немедленно увёз обезумевшую от горя жену куда-то к родственникам, и всё замерло. Некоторые по примеру монтёра тоже вывезли свои семьи – от неведомого греха. Не играли больше детишки во дворах. Самые бесшабашные сорвиголовы, старшеклассники, пэтэушники, молодые рабочие стремглав шарахались в ближайшие подворотни, когда Ким выходил из своей берлоги в магазин или прогулять Тасю. (Люся не выходила из дому ни на шаг. Навещала её украдкой, когда уходил хозяин, одна лишь тётка Дуся. По её словам, Люся, осунувшаяся и поблёкшая, дни напролёт сидела на кровати, сложив руки на коленях, и глядела в окно, говорила мало и нехотя.)
Прошла неделя, и монтёр с женой вернулись в дом. Вечером жена монтёра, пьяная и растрёпанная, отпихнув мужа, пытавшегося её удержать, спустилась к дверям квартиры Волошиных и принялась колотить в неё кулаками и ногами, крича во весь голос.
– Убийца! – кричала она. – Отвори, убийца! Где моя дочь, проклятый упырь? Думаешь, убил и шито-крыто? Не выйдет! Я с тебя с живого не слезу! Ты у меня землю жрать будешь! Ты у меня сам в петлю полезешь! Отворяй, я тебе последний глаз выцарапаю!
Надо полагать, весь дом в ужасе внимал этому вызову. Тётка Дуся попыталась увести несчастную мать, но была отбита с шумным негодованием. Попытался оттащить её муж, но только переключил внимание жены на себя и вообще на всех мужчин в этом доме.
– Отойди, отзынь, трус паршивый! – взвилась она. – Почему ты не убил убийцу твоей дочери? Почему он жив и в ус не дует? Боишься, слизняк? Я одна здесь не боюсь! А вы здесь все трясётесь, затаились, шкурники проклятые! Мужчины, называется! Алкоголики сраные! Все вместе одного упыря задавить трусят!
Так она бушевала, совсем охрипла, билась в истерике, выкрикивая уже совершенно непечатное. При некотором усилии воображения можно представить себе, что происходило тогда в квартирке Волошиных. Как Люся, чтобы не слышать, зажимала уши и прятала голову под подушку. Как недоуменно хлопала глазами маленькая Тася, отрезанная от событий своей глухотой. Как метался из угла в угол Ким, скрипя зубами, с налитым кровью лицом, и всё пытался… нет, тут воображение отказывает мне. С тем же успехом могу представить себе, как он сидит у стола, потягивая водку, прикрыв глаз тяжёлым синеватым веком, и даже слегка ухмыляется зловещей бесовской ухмылкой…
Жена монтёра замолкла на полуслове и потеряла сознание, а очнулась через несколько минут хрестоматийным кретином, утратившим вдобавок память и речь. Час спустя кто-то догадался вызвать «скорую», и её увезли. Потом след её затерялся.
Весть об этом новом злодеянии (а в том, что это именно злодеяние, никто в городе уже не сомневался) обычным чудом облетела нашу публику той же ночью. Во всяком случае, когда я в девять утра пришёл в больницу, о случившемся знали все больные, все сёстры и няньки. Я связался с Моисеем Наумовичем. Он тоже уже всё знал. Я предложил выйти потолковать под открытым небом: в больнице было полно народа и лишних ушей. Мы сошлись на середине двора и закурили.