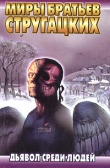Текст книги "Том 10. С.Витицкий, С.Ярославцев"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 51 страниц)
Эпилог первый
(фантастический)
Действие происходит в жаркий летний день в Москве на конспиративной квартире. Наличествуют: полковник Титов (КГБ), полковник Плотник (Моссад), полковник Хайтауэр (ЦРУ).
Хайтауэр, изнемогая от жары, полулежит на диване и обмахивается журналом. Плотник сидит напротив него в кресле, водрузив скрещённые ноги на низкий круглый столик. Титов нервно расхаживает по комнате.
X. (расслабленным голосом):Моё мнение – кто нагадал, тому и расхлёбывать.
Т. (раздражённо):Опять двадцать пять, за рыбу деньги! Мы же не возражаем! Но тогда, полковник, на кой чёрт вы в Москве?
X.: Опять двадцать пять. Нам нужна информация! Надо же нам знать, как действовать, если этот ваш бес всё-таки вынырнет на Западе…
Т.: Нет у нас такой информации, полковник! Сколько можно долбить одно и то же?
П.: Пока не забрезжит истина, полковник. Он где сейчас?
Т.: В окрестностях Краснодара.
X.: Это на Енисее?
Т.: В окрестностях Краснодара, я сказал, а не Красноярска!
X.: Это я уловил. На Енисее?
Титов безнадёжно машет рукой.
П.: Краснодар на Кубани. А на Енисее Красноярск. Вы, я вижу, тот ещё знаток России, полковник.
X.: Ага… Кубань… Минуточку!
Он достаёт из портфеля атлас и принимается листать.
Плотник обращает лицо к Титову.
П.: Слушайте сюда, полковник, неужели здесь не найдётся пары ботлов холодного пивка?
Т.: Пары… чего?
П.: Пары склянок, если так вам понятнее.
Титов идёт к могучему холодильнику в углу, заглядывает в камеры, злобно оскаливается.
Т.: Всё вылакали, подлецы… Водка вот есть ледяная. Будете, полковник?
П.: Временно воздержусь, полковник. Водка…
X.: Минуточку внимания. Вот. Краснодар действительно стоит на Кубани. И что интересно, здесь имеется обширное водохранилище. Сама собой напрашивается идея. Определить точно местопребывание объекта. Затем десяток ловких ребят… У вас найдётся десяток ловких ребят, полковник? Если не найдётся, я пришлю своих. Они доберутся до объекта по дну этого озера, спустятся по Ени… э-э… по Кубани и всё в два счета обделают.
П.: И к утру тёплые воды Кубани вынесут десяток трупов в Чёрное море.
Т.: Не вынесут. Там плавни. Так и останутся бедняги гнить на плавнях.
X. (смущённо, но агрессивно):Это почему же непременно трупы? Они же приблизятся под водой…
Т.: Засечёт, полковник, как пить дать засечёт. И тут же ударит. Никто и пикнуть не успеет.
X.: Но разве психоволны через воду проходят? Радиоволны, например…
П.: Радиоволны и психоволны – две большие разницы, полковник.
X.: Это что – точная информация?
Т. (мрачно):Самая точная.
X.: Ну вот видите, кое-что всё-таки известно…
П.: Методом проб и ошибок, полковник.
Т.: Да уж, на пробы ничего не жалели.
X.: А договориться с ним никто не пробовал?
Т. (Плотнику):Расскажите ему, полковник. Если хотите, конечно.
П.: Отчего же, полковник… Со всем нашим решпектом. Это было ещё в Ташлинске. Ну-с, я подпустил к нему одного человечка с самыми широкими полномочиями: деньги, комфорт, политическое убежище… стандартный набор для российского патриота. А за всё про всё – деликатное порученьице. Не в России даже – в одной мусульманской странишке…
X.: Ещё в Ташлинске… «Белый верблюд», да?
П.: Не в этом дело, полковник. Вы же об договориться интересовались… Ну, поначалу всё пошло гладенько, поговорили, объект не отказывается… А через день этот мой человечек отдаёт концы. Острая коронарная недостаточность. И привет от тёти Франи. А объект сидел себе дома в шести километрах. Вот так с ним договариваться.
Т. (мрачно):Теперь-то мы знаем, что для него и шесть тысяч не предел.
X.: Шесть тысяч километров… три тысячи семьсот пятьдесят миль!
П.: Вы считаете, как покойный Архимед, мой Портос.
X.: Что? Да… (Титову.)А вы ещё уверяете, полковник, что у вас нет никакой информации!
Т.: А вы полагаете, полковник, что такая информация вам поможет?
X.: Ну, всё-таки…
Пауза.
X.: Одно утешение – в советские руки он тоже не дался.
Пауза.
X.: А если ударить из космоса?
Т.: Куда ударить? По Краснодару? А если мы в ответ врежем по вашей Филадельфии какой-нибудь?
X. (уныло):Да нет, полковник, вы меня не так поняли… Но послушайте, ведь у него есть жена, ребёнок…
П.: Двое детей, полковник. С прошлого года – двое.
X.: Тем более! Я уверен, всем нам известно, что существует набор определённых приёмов…
Т. (резко):Это не наши методы, полковник!
П.: И шо вы, начальничек, целку с себя строите? Не ваши методы… Вы же с профессионалами говорите!
X.: Вот именно. Стыдитесь, полковник!
Т.: Уверяю вас… О чем бишь я? Да! Краснодар!
X.: Вот-вот. Сами-то вы были на этом Енисее?
П. (разражаясь хохотом.):На Кубани, полковник! Не на Енисее, не на Рейне, не на Меконге, чтоб я так жил! На Кубани!
X.: Ладно, на Кубани… Так вы сами-то были на Кубани?
Т.: Не приходилось, полковник.
X.: Вот и мне не приходилось, полковник. А между тем…
П.: А между тем не пора ли нам… Полковник, вы говорили, что здесь есть ледяная водка.
Т.: И я не соврал, полковник. Уберите-ка со столика ноги, что за манеры…
Он достаёт из холодильника водку и ставит на столик. Секунду любуется запотевшей бутылкой, затем виновато разводит руками.
Т.: Только придётся, видимо, без закуски…
П.: А вот тут, батенька, мы вас и поправим!
Он ставит к себе на колени объёмистый «дипломат», раскрывает его и выставляет на столик солидную пластмассовую коробку.
X.: Если уж на то пошло… (Извлекает из портфеля несколько пакетов в пергаментной бумаге.)Американцу не к лицу оставаться в долгу.
Т.: Нет слов.
Он идёт к буфету и возвращается с рюмками, тарелками и вилками, после чего живо подсаживается к столику.
Т.: Ну-ка, ну-ка, полковник, что у вас там?
X. (разворачивая пакеты):Сандвичи, полковник. Прославленные американские сандвичи. Вот с ветчиной, вот с куриным салатом… а вот и с анчоусами…
Т.: М-м-м! Прелесть. Где вы всё это достаёте, полковник?
X.: Секрет фирмы, полковник… (Плотнику.)А вы чем нас порадуете, полковник?
П. (снимая крышку с пластмассовой коробки):У меня скромно, по-домашнему.
X. (подозрительно):Что это?
Титов наклоняется над коробкой, нюхает. На лице его появляется выражение восторга.
Т.: Не может быть! Шкварки? Гусиные шкварки?
П.: Точно, полковник. Самые натуральные грибины. И заметьте, свежие. Гусь ещё вчера утром гулял на птицеферме. А уж о мастерстве поварихи…
X. (нетерпеливо):К делу, к делу! Полковник, распорядитесь, будьте любезны.
Титов разливает водку, все поднимают рюмки.
Т.: Ваше здоровье, полковник. Ваше здоровье, полковник.
П.: Лыхаим, полковник! Лыхаим, полковник…
X.: Гамбэй, полковник. Гамбэй, полковник!..
Т.: Это по-каковски, полковник?
X.: По-китайски, полковник.
Т.: Тоже красиво. Что ж, сдвинем их разом!
X.: Содвинем!
Все чокаются, выпивают и набрасываются на шкварки.
X.: Чудесно. Так вы говорите, полковник, у вас здесь есть знакомая птицеферма и знакомая повариха…
П.: Провокатор, чтоб я так жил…
Т.: В таком случае, по второй.
Разливает водку. Все выпивают и принимаются за сандвичи.
Хайтауэр вдруг отваливается на спинку дивана.
X.: Вот странное дело, меня потянуло в дремоту…
П.: А я так наоборот, разошёлся. Как, если по третьей, полковник?
Титов с готовностью разливает.
X. (расслабленным голосом):Мне не надо, пожалуй. Если не возражаете, я слегка прилягу…
Т.: Сделайте одолжение, полковник…
Хайтауэр умащивается на диване, подложив под голову свой портфель, и почти тотчас же издаёт заливистый храп.
Плотник и Титов с недоумением глядят на него.
П.: Что это его так развезло? С двух-то рюмок…
Т.: От жары, наверное…
П.: Может, и от жары… Ничего, проспится. Послушайте, полковник, вы так мне ничего и не скажете?
Пауза.
Т.: Мне нечего сказать. Я ничего не знаю. Знаю лишь одно.
П.: Выкладывайте.
Т. (мрачно):На небе один Бог, на земле один его наместник. Одно солнце озаряет Вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Всё, что непокорно Москве, должно быть… (Умолкает, словно спохватившись, торопливо опрокидывает свою рюмку и откусывает половину сандвича.)
П.: Всё, что непокорно Москве, должно быть… Понятно. Значит, бес – это ваша работа? Методом проб и ошибок, как говаривала тётя Бася.
Хайтауэр говорит, не открывая глаз.
X.: О чём вы там шепчетесь?
П.: Я его вербую, а он не поддаётся, чудак…
Хайтауэр, кряхтя, принимает сидячее положение.
X.: Нашли где вербовать… Здесь, наверное, в каждой стене по «жучку».
П.: Вы правы, полковник. Моя ошибка. А ну их к бесу, все эти дела. Предлагаю веселиться. Что бы такого… Да вот хоть бы… Сейчас я вам спою и спляшу!
Титов судорожно хохочет.
X. (брюзгливо):Спляшете… В последний раз я видел, как вы плясали, в Эль-Кунтилле. С петлёй на шее. И ваши божественные ножки в драных ковровых туфлях дрыгались в футе от земли…
П.: И всегда-то вы всё путаете, полковник! На вешалке там плясал не я, а бедняга Мэдкеп Хью, которого вы…
Т.: Да хватит вам препираться, в самом деле!
П.: Правильно. Хватит, хватит, хватит. К чёрту дела! Смотрите и слушайте сюда!
Полковник Плотник вскакивает, засовывает большие пальцы рук под мышки и запевает, высоко вскидывая ноги:
Авраам, Авраам, дедушек ты наш!
Ицок, Ицок, старушек ты наш…
Эпилог второй
(простодушный)
Внутренний монолог Кима Волошина. Ранним августовским вечером он сидит на берегу речки Бейсуг и предаётся бесплодным размышлениям о превратностях своей странной судьбы. Солнце клонится к закату, от речки пованивает, комары массами выходят на приём пищи, но ни один не приближается к бесу.
Хорошо было богам. Зевсу, например. Выпил, закусил, трахнул молнией кого надо, грохнул громом где надо и обратно выпивать и закусывать. Даже промашки им с рук сходили. Кормит это Геба отцовского орла и проливает, руки-крюки, громокипящий кубок, как нерадивая лахудра кастрюлю со щами на коммунальной кухне. Ну и ухмыляется – так-де всё и было задумано… Её бы в мои сапоги! А здорово было бы, кабы опрокинула она этот самый кубок папочке Зевсу на бороду! Он бы доченьке показал небо с овчинку…
Да, боги нынче повывелись. И я при всей своей мощи никакой не бог. Бедный разум мой человеческий, не поспевает он за этой мощью. С другой стороны, можно было бы и гордиться. В моём лице создался невиданный юридический прецедент. Во всём мире (и у богов тоже) принцип какой? Устанавливается преступление, и за него следует наказание. Сто тысяч лет этот принцип действовал, и тут возник я и его перевернул. Я не устанавливаю преступление. Доказательством преступления является моя кара. Казнён – значит, злоумышлял. Лишён разума – значит, преступил. В штаны навалил – значит, намеревался причинить ущерб Киму Волошину…
Но мне от этого радости мало, вообще только душевная смута. Во-первых, злоумышление злоумышлению рознь, а наказания – какие попало. Вон та девчонка Таську по снегу валяла, шалость детская, невинная… И погибла. А эти, что сговаривались меня ракетами ущучить, всего лишь поносом отделались. Правда, больше не сговаривались и, надо полагать, другим сговариваться заказали…
Чу! Ну вот, ещё кому-то досталось. И крепко досталось, упокой грешную душу его, Господи… Интересно, за что это я его так? Досадно, что не всегда дано мне это знать. А впрочем, что-то, наверное, вроде инстинкта сохранения разума. Наверное, знай я всё, с ума бы сошёл от ужаса и злости. Много, много их, и сильны они, и все против меня… Но я хоть и один, но сильнее их всех, я для них дьявол, источник всех зол… Они сами создали дьявола, а теперь норовят загнать его в преисподнюю. Интересно, хоть это-то они соображают? Нет, по-моему. Просто как эти комары: толкутся вокруг, крови жаждут, а приблизиться не смеют…
Ладно, если хотят жить, пусть научатся вертеться. Пусть привыкают к сосуществованию с дьяволом. Хотят мира – будет им мир, а к войне я готов всегда. И не о них моя забота. Васька, Васенька, Василёк мой, сыночек. Так-то всё вроде хорошо. Люсенька здорова, Таська уже и слышит, и говорит довольно внятно. Васька розовый и резвый, лихо ползает по комнате, смеётся-заливается, когда его к потолку подбрасываешь… И лезть к ним я отучил. Два раза лезли, вспомнить противно. А может, и больше двух раз… Да, пока всё вроде хорошо. Но боязно мне, боязно, Ким Сергеевич!
Ведь Васька – моя плоть и кровь. Люся рожать боялась. Что, если перешло к нему от меня всё это? Нет, не боязно мне, а страшно. Бесовское отродье. Мать манной кашей пичкает – злоумышление. Тут же удар – и конец. Сестрёнка на прогулке в лужу не пускает – злоумышление. Удар – и конец. А удар по матери или по Таське – это моментально мой ответный удар. Мощь моя, как всегда, намного опередит мой бедный разум… Нет, страшно мне, страшно. А может быть, обойдётся? Господа, глупо ведь наделять младенца такими силами!
Вот опять. Ещё кто-то попался. Летят сегодня, как мошкара на огонь. Знают же, как у меня: напавшего – истреби. И всё равно летят…
Точно это вырвалось из безумной души знаменитого японца: неужели никого не найдётся, кто бы задушил меня, пока я сплю?
Эпилог третий
(стандартный)
Без даты. Без географии.
Машина вынеслась на взгорок, и полковник Титов резко затормозил и выключил двигатель. Впереди, шагах в полутораста, посередине просёлка зияла глубокая яма, окаймлённая бугристым ободом из застывшей стекловидной массы. Из ямы ещё поднимался сероватый пар и несло химической вонью.
– Термофугас?… – то ли вопросительно, то ли утвердительно проговорил Хайтауэр.
– И всё-то вы знаете, полковник, – огрызнулся Титов.
– Ещё бы не знать… Вы же его с нашего слизали.
Не сводя глаз с ямы, Хайтауэр выбрался из машины, извлёк из заднего кармана плоскую флягу и отхлебнул. Полковник Плотник тоже вылез и остановился рядом.
– Оставьте глоток, полковник, – попросил он.
Хайтауэр, не глядя, сунул флягу в его протянутую руку.
– Всё, как будто, – произнёс он, вытирая ладонью губы.
– Да, бес умер, – отозвался Титов.
– И давно пора, – рассеянно сказал Плотник и тоже вытер губы. Протянул флягу Титову. – Будете, полковник?
Титов помотал головой. Плотник вернул флягу Хайтауэру. Тот, по-прежнему не спуская глаз с ямы, снова приложился.
Изувеченные, наголо ободранные деревца по сторонам ямы курились сизыми и белыми дымками, потрескивало невидимое на солнце пламя. Налетел порыв ветра, и одно из деревьев с шумом рухнуло поперёк просёлка. Все вздрогнули. Плотник вдруг шагнул в сторону, нагнулся и поднял из травы какую-то чёрную тряпицу. Тряпица тоже слегка дымилась – неширокая полоска чёрного бархата.
– Да, – произнёс Плотник. – Конец, и Богу слава. И вовремя, вовремя, друзья мои. Мы в этом маленьком дельце уже увязли по самое «не балуйся». А теперь всё шито-крыто. И никто не узнает, где могилка его.
Титов оторвал взгляд от ямы и посмотрел на небо. Небо было синее, по нему лениво ползли снежного цвета облачка. Хорошее небо. Отменная погода. И прекрасный пейзаж. Только вот яма смердит… и откуда вдруг взялось здесь столько ворон? Гляди-ка, десятки, сотни налетели! И ещё летят… и не каркают, сволочи, вот что странно… Э, ерунда. Всё в порядке. Конец, и Богу слава, хотя я и атеист, кажется…
И тут что-то мигнуло в огромном пространстве. И их не стало. Всех троих. Только валялась в траве полоска чёрного бархата. Но вскоре и она исчезла.
С. ВИТИЦКИЙ
ПОИСК ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ, или ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ТЕОРЕМА ЭТИКИ
Эволюция не может быть справедливой.
_Фридрих_ _Хайек_«Пагубная самонадеянность»
Милым друзьям моим, с которыми я сегодня – чаще или реже, но – встречаюсь, и тем из них, с которыми, может быть, не встречусь теперь уже больше никогда.
ОТ АВТОРА
У всех, без исключения, героев этой книги несколько прототипов. Черты этих прототипов в каждом из героев перемешаны в достаточно произвольной пропорции. То же можно сказать и о наиболее острых из описанных в книге ситуаций. Поэтому, хотя многое и даже очень многое здесь – незамысловатая калька с реальности, бессмысленно задаваться вопросами типа: «кто есть кто, что есть что, где и когда именно?»
Большинство процитированных в книге «машинных» афоризмов взяты автором из сборника «Компьютерные игры» (Лениздат, 1988). Автор пользуется случаем выразить свою благодарность и восхищение создателю соответствующих программ для ЭВМ Д. М. Любичу.
Часть первая СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЬЧИК
ГЛАВА 1...Вдруг наступает такой момент, когда ты ощущаешь потребность подвести итоги, сказал тогда Станислав. И вовсе не обязательно это случается с тобой на старости лет... (Он испытывал приступ глубокомыслия.) И не обязательно тому должна быть какая-то особая причина! Происходит вот что: некто, живущий внутри и обычно занятый своими делами, вдруг отвлекается от этих дел и задумчиво произносит: «Что же, сударь мой, кажется, нам пора подводить итоги...»
Виконт выслушал этот период благосклонно, хлюпнул трубкой и произнес: «Покупаю. Записывай...» Но Станислав ничего записывать, естественно, не стал – он прислушивался к своему внутреннему ощущению, понимая уже, что это – предзнаменование. Ощущение постепенно пропадало, теряло остроту... определенность... первоначальную свою свирепую многозначительность – ясную непреложность счастливого стиха... Он так и не понял, какие, собственно, итоги понадобилось ему вдруг подводить.
Это происходило в тысяча девятьсот семидесятом году, весной, в день, когда Станиславу стукнуло тридцать семь. Точнее, вечером того дня, а еще точнее – ночью, когда гости все уже разошлись, мама принялась прибирать посуду, а Станислав вместе с другом своим Виктором Кикониным (по кличке Виконт) пошли проветриться, а проветрившись, вознамерились еще немного посидеть – теперь уже у Виконта.
Была бутылка розового «Вин-де-масэ», был крепкий кофе со сливовым вареньем, гитара тихонько звенела, и двое творцов, подлинных поэтов, двое кровных друзей, почти братьев, осторожно и с чувством выводили:
На штурвале застыла рука,
Мачты срезал седой туман,
Тяжело на душе моряка,
Впереди только ветер и тьма...
(Стихи коллективного автора: Красногоров плюс Киконин, музыка – его же.) Почему-то Станиславу вспомнилось, что он неоднократно тонул. Собственно, он тонул трижды. В первый раз – совсем маленьким, еще до войны, в каком-то пруду Лесного парка. Мама сидела на бережку и разговаривала с тетей Лидой, а маленький Слава плескался сначала на мелководье, а потом решил сходить вглубь. Сперва под ногами было твердо, потом появился тоненький и противный слой ила, потом – что-то вроде кирпичного поребрика, а потом не стало ничего. Плавать Слава не умел. От страха он широко раскрыл глаза, увидел тусклый свет вверху, колышущуюся тьму впереди и забился судорожно, уже зная, что – пропал. И вдруг под ногами снова появилось твердое с тоненьким слоем ила. Он быстро выбрался на берег и сел рядом с мамой на разостланное покрывало. Никто ничего не заметил. И ничего вокруг не изменилось. И он вдруг подумал, что на самом деле он уже утонул, а на покрывале вместо него сидит кто-то другой, но никто этого важного обстоятельства не замечает. И вот именно (и только) в этот момент он испугался по-настоящему.
Второй случай был гораздо интереснее. Это была довольно странная история. Уже во время войны, в эвакуации – они жили в деревушке Кишла Чкаловской области, – Слава с деревенскими ребятишками затеял кататься в лодке. Они залезли в лодку впятером, разобрали весла, и вдруг Толька Брунов заорал ужасным голосом и сделался белый, как молоко. Это уже и само-то по себе было страшно до судороги, а тут еще Слава увидел, ПОЧЕМУ Толька орет: на корме, на каких-то драных тряпках, сидел, оказывается, чудовищный, громадный, зеленый с красными пятнами паук величиною с кулак. Слава и вспомнить потом не мог, как очутился в воде. Все пятеро оказались в воде, а лодка не перевернулась разве что чудом. Слава к этому времени уже научился плавать, он вынырнул и только было нацелился рвануть изо всех сил к недалекому берегу, как обнаружил, что прямо перед лицом его, раскинув зеленые ноги во все стороны, качается на воде все тот же паук и смотрит на него кровавыми россыпями блестящих глазок, которых у него было – миллион. И вот тут Слава отключился. Больше он ничего не запомнил. Ребята рассказали потом, что он плавал неподвижно у самой поверхности, так что затылок торчал наружу, и был в полной отключке. Его по-быстрому вытащили и откачали. Паука больше никто не видел. Потом, много позже, уже снова в Ленинграде, уже взрослый, Слава перерыл множество определителей членистоногих и даже ходил консультироваться в Зоологический музей, и все зря – неизвестен оказался биологической науке этот странный и страшный паук. Не существовало его в природе, во всяком случае – на российских широтах...
А про третье утонутие... утопитие... «катастрофическое погружение в воду с невыходом из оной...», про третье – Станислав сколько-нибудь подробно вспоминать не любил, а тем более – рассказывать. Там тонула целая команда – шесть парней, четыре девушки: провалились под лед на Ладоге во всем своем обмундировании, с чудовищными рюкзаками своими, с палатками... Одна девушка утонула совсем, а Слава выплыл. Не должен был выплыть, если по-честному, но – выплыл...
Так был начат отсчет. Ни с того ни с сего, по сути дела. Совершенно случайно.
Он рассказал все три случая Виконту, и Виконт (с некоторой горечью) признался, что сам он не тонул ни разу. Если не считать детского случая с подрывом на детонаторе, он вообще никогда не подвергал свою жизнь опасности. Станислав удивился. Ему в голову немедленно пришло еще три или даже четыре случая, когда он был на волосок от гибели. Это была самая простая штука – оказаться на волосок от гибели. Он не поверил Виконту. Он решил, что Виконт, по обыкновению, темнит. Виконт был темнило, темнило вульгарис.
Работал он в «ящике», и совершенно непонятно было, чем он там занимается. «А, ерундой разной...» – отвечал он обычно на расспросы и брезгливо кривил при этом свое длинное бледное личико – врал. Занимался он, надо было думать, вовсе не ерундой. За последние десять лет он успел уже раз сто побывать за границей. Причем все время в каких-то диковинных странах, куда нормальные советские люди никогда и не ездят: Бразилия, Лесото, Гайана... Почему-то – Иран. На кой хрен советскому человеку, окончившему Четвертый медицинский, ездить в Иран?
Добиться у Виконта сколько-нибудь вразумительного ответа было невозможно. Он никогда и ничего не рассказывал о своей работе. Никому. Да и некому было ему об этом рассказывать. У него не было друзей, если не считать Станислава.
Когда у Станислава собиралась обычная компания, Виконт (изредка) вдруг ни с того ни с сего принимался рассказывать о чужих странах. Рассказчик он был редкостный. Все затихали, когда на него это находило, и слушали не дыша, боясь, что он спохватится и закончит говорить так же неожиданно и беспричинно, как и начал.
Начинал он всегда с середины, с некоего непонятного пункта, представлявшегося ему, видимо, ключевым.
– ...Белый пояс вокруг горы... – начинал он, например. – Белые деревья... вернее, белые СКЕЛЕТЫ деревьев в тошнотворном, ядовитом тумане. Будто под ногами не дикая гора, а какое-то забытое богом испаряющееся кладбище... кладбище нелюдей... И в тумане – колючие остролистые растения, которые называются здесь «терновый венец Христа»... И гигантские пауки, раскинувшие паутину между растениями... Земли не видно совсем – сплошь густой уродливый мох да ямы, наполненные черной водой, а на каждом белесом стволе – омерзительные, скользкие, многоцветные грибы...
Узкое лицо его становилось серым, словно от невыносимой внутренней боли, голос садился – воспоминание мучило его как болезнь. Эти рассказы, и даже не сами рассказы, а манера рассказывания, производили на слушателей впечатление ошеломляющее. И на Станислава, разумеется, тоже. Виконт казался ему в эти минуты сверхчеловеком, или человеком из ада, или даже оборотнем – он переставал узнавать его в эти минуты... А потом он вдруг встретил один из Виконтовых рассказов в книжке, изданной Географгизом (кажется, это был Кауэлл, «В сердце леса»). Совпадение было почти дословное. В первый момент он глазам своим не поверил. Потом – разозлился. Потом восхитился. А потом подумал: какого черта он это делает, пижон задрипанный?..
Конечно, он был пижоном. Он был пижоном во всех своих проявлениях – в разговоре, в литературных пристрастиях, в обыденной жизни. Становясь в очередь к пивному ларьку, он мог спросить с неописуемым высокомерием: «Н-ну-с, кто тут не побоится признаться, что он последний?» На дрожащих с похмелья, остервенелых алкашей это производило неизгладимое впечатление...
На низеньком полированном столике у него стояла обширная деревянная чаша, черная, с золотыми драконами. С острова Минданао. Чаша была полна курительными трубками. Их там было штук тридцать – от самодельных, корявых негритянских носогреек до тяжелых, прикладистых, словно пистолет, самшитовых (?) – музейных, антикварных, именных... Он, не глядя, запускал левую свою, беспалую, руку в эту груду, в эту кучу, в эту провонявшую перегаром роскошную свалку, безошибочно извлекал искомое, привычно орудуя, набивал, раскуривал от спички, закутывался медвяным дымом – щурил левый, слепой, глаз... И вдруг произносил с подвыванием:
Ты сидишь у камина, и отблески красного света
Мерно пляшут вокруг, повторяя узоры портьер,
И, рыдая над рифмой, читаешь ты мраку сонеты,
И задумчиво смотрит на тебя твой седой фокстерьер...
На козетке луи мирно дремлет мартышка из Само,
И картины Ватто застилает клубящийся мрак,
Ты сидишь у камина, закутавшись в шаль «димуамо»,
На коленях твоих шевелится страницами Стак...
«Кто такой Стак?» – осведомлялся Станислав, стараясь преодолеть впечатление. «Какая тебе разница?.. – отвечал Виконт с величественным раздражением. – Ну, например: СТА-нислав К-расногоров – это тебя удовлетворяет?» – «Ладно, хорошо... А почему Само? Нет никакого Само, есть – Сомо». – «Потому что димуАмо – звучит, а димуОмо – нет». И это было совершенно справедливо: димуамо – звучало, а димуомо почему-то – нет...
Когда они познакомились (в пятом классе), это был мелкий, не опасный, но остроумный хулиган. Он ходил тогда в клешах, развалистой походкой бывалого моричмана и носил тельняшку. Он был шкодник. Мастер шкоды. Однажды они вместе дежурили в классе на перемене. Была весна сорок пятого. Класс гудел, топотал и клубился в коридоре, а они сидели на подоконнике классной комнаты на втором этаже и смотрели вниз. Сначала там не было ничего интересного, а потом вдруг на панели под самым окном объявился директор школы. В шляпе. Выдержать это было невозможно, и Виконт (тогда он был еще всего лишь Кикон, или Киконя) сейчас же харкнул на эту шляпу и, разумеется, попал.
Все было как в душном тягучем кошмаре. Как в замедленном кино. Директор остановился... аккуратно снял шляпу... внимательно изучил свисающее с нее... и принялся – неописуемо, мучительно, изнуряюще медленно – поднимать голову...
Их вихрем снесло с подоконника. Они, как две торпеды, вылетели в коридор, и тут Станиславу показалось, что Кикон совсем обезумел от страха: он вдруг подскочил к Папаше – самому страшному, беспощадному и могучему хулигану пятого «А» класса – и залепил ему по рылу!
Папаша обалдел. Он был на две головы длиннее маленького Кикона и с высоты своего роста пучил на него очумелые свои шары, совершенно, видимо, утратив сцепление с реальностью. Тогда Кикон влепил ему по морде вторично... И вот тут – началось!..
«Киконя Папаше по чавке накидал!» – пронеслось, казалось, по всей школе. Мгновенно образовалась толпа жадных зрителей и болельщиков. Папаша наконец осознал, что с ним произошло, и, ревя дурным голосом, обрушился на наглеца, работая сразу всеми четырьмя своими гигантскими конечностями... Так что, когда директор со шляпой и со всем, что с нее свисало, возник, наконец, в коридоре, на него сначала даже не обратили внимания.
«Кто это сделал?» – гремел директор, высоко воздевая шляпу, но его не слышали и не видели. «Прекратить драку!» – гремел директор, но это уже была не драка, это была воспитательная работа, спецпроцедура, и прекратить ее просто так было невозможно... И когда наконец порядок установился и в наступившей подобострастной тишине директор задал свой ГЛАВНЫЙ вопрос: «Кто дежурный?!!», Кикон радостно откликнулся: «Я!» – с кровавым носом, с подбитым глазом, в рубахе, разодранной до пупа, – и сразу же стало ясно, что это – не он преступный грешник, что ТАМ его не было, его там просто не могло быть, он был ЗДЕСЬ, а кто был ТАМ – он не знает и знать никак не может...
«Где умный человек прячет лист? В лесу». Честертона они прочли двумя-тремя годами позже и не слишком высоко оценили его тогда – после Конан Дойла, Луи Буссенара и Понсон дю Террайля.
Летом сорок пятого Кикон подорвался на детонаторе. Он в очередной раз сгонял с огольцами за город, где на полях недавних боев еще разлагались не похороненные толком люди и погибали без всякого проку тысячи и тысячи единиц разнообразнейшего оружия. Из этой своей последней поездки приволок Киконя мешок добра, главным образом – пучки желтоватых макарон бездымного пороха, да мотки бикфордова шнура, да великое множество разнокалиберных патронов от стрелкового оружия всех видов... Добро он спрятал в подвале родного дома, а в комнату к себе взял только красивую многоцветную металлическую штучку размером с карандаш. В этом карандаше он и принялся ковырять перочинным ножом, стараясь красивую штучку развинтить на части. Штучка – рванула.
К счастью, бабушка оказалась дома, она вызвала знакомого врача из Военно-медицинской, и Кикона увезли в больницу – сюда же, рядом, в Военно-медицинскую академию... Три пальца на левой руке пришлось отнять, мизинец и безымянный уцелели. В левом глазу навсегда остался маленький осколок – он был медный, и его поэтому не сумели извлечь магнитом. Из правой ладони был выдран большой кусок мяса и кожи. Дабы возместить утраченное, врачи прирастили Киконе правую руку к животу, а возникшую перемычку каждый день разминали раскаленными щипцами, чтобы постепенно отсоединить. (Такие операции тогда, видимо, были в моде. В палате с Киконей лежал воин, которому эскулапы таким же вот образом наращивали утерянную в боях красоту: он ходил с левой рукой, соединенной кожно-мясной перемычкой с тем местом, где у него раньше, до ранения в лицо, был нос. По словам Кикони, во всех остальных отношениях воин был абсолютно здоровый и даже здоровенный мужик. Каждые полмесяца он регулярно уходил из клиники в самоход, к бабам, там обязательно ввязывался в пьяную драку, и в драке ему обязательно обрывали эту его перемычку. Утром он, весь в крови, возвращался с покаянием в палату, и врачи начинали все сначала.)
Киконя пролежал в больнице больше полугода, и, когда он снова появился в классе, это был уже совсем другой человек. В нем вдруг обнаружился интеллектуал. Оказалось, что он начитан, хорошо играет в шахматы и довольно свободно читает по-немецки и по-английски. С ним стало интересно разговаривать. О книгах. О кино. О марках. Он способен был с изысканной небрежностью толковать о Мату-Гросу, Великой Сабане и о таинственных мезас, послуживших прообразом Затерянного Мира. Он без запинки перечислял имена первобытных чудовищ, таящихся в трясинах Конго и Убанги-Шари: лдау, шипекве, липата, мокеле-мбембе, аилали, ба-ди-гуи, нгакуола-нгоу... Станислав обнаружил все это с некоторым удивлением, и они стали общаться регулярно. Тем более выяснилось, что Кикон с бабушкой и с дедом, медицинским генерал-лейтенантом, профессором Военно-медицинской академии, живет, оказывается, как раз напротив Станиславова дома, так что они могли через улицу обмениваться условными жестами, а также перемигиваться электрическими фонариками по системе Морзе.