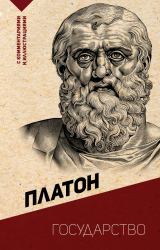
Текст книги "Государство. С комментариями и иллюстрациями"
Автор книги: Аристокл
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– Каким образом? – спросил он.
– Если заболевает плотник, – отвечал я, – то он обращается к врачу за лекарством, вызывающим рвоту или слабительное действие, чтобы таким путем избавиться от болезни, а не то просит сделать ему прижигание или разрез. А когда станут предписывать ему долговременную диету, обвязывать его голову мягкими повязками и так далее, – он тотчас говорит, что ему хворать некогда и нет пользы жить, обращая внимание на болезнь и не заботясь о надлежащей работе. После сего, распрощавшись с таким врачом, он обращается к обыкновенной своей диете, выздоравливает и живет, занимаясь своим делом. Если же тело не в силах перенести болезнь, он умирает и оставляет все дела.
Мягкие повязки у Платона – это что-то вроде шапочек, оказывавших полезное воздействие на голову.
– С подобными людьми врачебное искусство так и должно обходиться, – сказал он.
– Не потому ли, – спросил я, – что у них были дела, которых если не делать им, то и жить не для чего?
– Очевидно, – отвечал он.
– Но вот богатый, как мы сказали, не имеет такого настоятельного дела, воздерживаясь от которого, он считал бы и жизнь не в жизнь.
– Да говорят, что так.
– Ведь ты не слушаешь Фокилида, когда он говорит, что у кого уже есть хлеб, тот должен еще выработать добродетель.
Фокилид – древнегреческий поэт родом из Милета. «Не слушать» означает «не одобрять». Воспринимать жизнь лишь как средство зарабатывать деньги – значит упускать ее истинную цель. Поэтому Полемарх далее говорит, что добродетель должна быть приобретаема прежде денег.
– Добродетель, мне кажется, даже прежде, – сказал он.
– Не будем спорить об этом с Фокилидом, – продолжал я, – но постараемся прояснить для самих себя, должен ли богатый человек заботиться о добродетели, чтобы, без заботливости о ней, жизнь была не в жизнь, или протягивание болезни, отвлекающее внимательность плотнического и всякого другого искусства, богатому не препятствует исполнять предписание Фокилида.
– О, клянусь Зевсом, – сказал он, – та излишняя заботливость о теле, выступающая из пределов гимнастики, почти всего более препятствует этому: она неудобна ни для управления хозяйством, ни для занятий воина, ни для поставленных в государстве властей, особенно же досадительна для всяких наук, для внимательного размышления с самим собою, возбуждая опасение, как бы не произошло напряжения и кружения головы, и причину этого находя в философии; так что где та заботливость есть, там исполнение и проявление добродетели совершенно невозможно; ибо ею всегда возбуждается мысль, что ты болен, при ней никогда не перестаешь жаловаться на телесные страдания.
– Итак, не скажем ли, что и Асклепию это было известно: у кого от природы здоровое тело и кто ведет здоровый образ жизни, но схватил какую-нибудь необычную болезнь, таким людям и при таком их состоянии он указывал такое врачебное искусство, которое изгоняет недуги лекарствами, либо надсечениями, предписывая вместе с тем обыкновенную диету, чтобы не повредить делам общества, а тела, внутренне и всецело пораженные болезнью, не решался исчерпывать и наливать понемногу, чтобы доставить человеку долгую и несчастную жизнь и произвести от него, как надобно думать, другое такое же поколение; напротив, кто назначенного природой периода прожить не может, того, как человека, неполезного ни себе самому, ни обществу, положил и не лечить?
– По твоему мнению, Асклепий был политик, – сказал он.
– Это очевидно. Это могли бы доказать и сыновья его. Разве не видишь, что под Троей они и хороши были в сражении, и владели, как я говорю, искусством врачевания? Разве не помнишь, что из раны, которую Пандар нанес Менелаю, –
Они выжали кровь и потом приложили пригодные травы?
Этот стих из «Илиады» несколько изменен Платоном.
А что надлежало есть или пить, – предписывали не больше, как и Эврипилу, – в той мысли, что для мужей, которые до получения ран были здоровы и по диете воздержны, довольно и одних лекарств, хотя, если бы случилось, тотчас же пили они искусственно составленный напиток. Напротив, жить больному по природе и невоздержному не почиталось полезным ни у них, ни у других; для таких людей не должно быть искусства, таких не надобно лечить, хотя бы они были богаче Мидаса.
Фригийский царь Мидас был очень богат. Все, что напоминало золото, привлекало к себе его внимание, а все, что было настоящим золотом, он прятал в своей подземной сокровищнице.
– Ты слишком превозносишь сыновей Асклепия, – сказал он.
– Так им и полагается, хотя трагики и Пиндар не верят нам, называя Асклепия сыном Аполлона, они говорят, что, убежденный золотом, Асклепий исцелил одного едва не умершего богача и за то поражен был громом. Мы, как объяснили выше, не послушаем их ни в том, ни в другом, но скажем, что если он был божий, то не корыстолюбив, а когда корыстолюбив, то не божий.
– Это-то совершенно справедливо, но что скажешь, Сократ, вот о чем: государство не должно ли приобрести себе добрых врачей? А добрыми врачами могли бы быть вероятно, те, которые имели бы на своих руках множество и здоровых и больных, равно как и судьи имеют дело с разными по своим природным задаткам людьми.
– Без сомнения, нужны добрые, – сказал я. – Но знаешь ли, кто представляется мне таким?
– Пожалуйста, скажи мне.
– Постараюсь, только одним и тем же выражением ты спрашиваешь меня не об одном и том же предмете.
– Как? – сказал он.
– Врачи сделаются совершеннейшими, – продолжал я, – если, начав с детства, будут не только изучать свое искусство, но и заниматься весьма многими совсем безнадежными больными, да и сами на себе переиспытают все болезни и по природе окажутся не слишком здоровыми, потому что тело лечат они, думаю, не телом – иначе тела не позволили бы себе когда-либо быть и делаться худыми, – но тело душой, а ею невозможно хорошо лечить, если она у врача плохая или стала такой.
Имеется в виду следующее: тело врача, если врачует оно, не должно подвергаться болезням, а должно быть каноном здоровья. Но если врач, страдая разными болезнями, тем не менее берется лечить, значит, он лечит не телом, а душой.
– Справедливо, – сказал он.
– Напротив, судья, друг мой, душою начальствует над душою: поэтому ей непозволительно с юных лет воспитываться и обращаться с душами развратными и переиспытывать все роды пороков, чтобы по своим собственным проницательно угадывать пороки других, как по телу угадывают болезни; но каждая смолоду должна развиться невинною и незапятнанною дурными привычками, если надобно ей сделаться прекрасною и доброю и судить о справедливом здраво. Потому-то юноши добронравные кажутся и простодушными, легко подчиняющимися обману со стороны порочных, что не знают примеров, подобострастных примерам лукавцев.
– В самом деле, они много терпят от этого, – сказал он.
– И вот почему добрым судьей, – продолжал я, – должен быть не юноша, а старец, приобретший позднее знание о том, какова бывает несправедливость, и ощутивший ее не как собственную – в своей душе, а как чужую, чрез долговременное обращение с душами других и чрез наблюдение, каково по природе зло, пользуясь, то есть, знанием, а не собственною опытностью.
– Да, такой судья, вероятно, был бы благоразумнейшим человеком, – сказал он.
– И добрым, о каком ты спрашивал, – заметил я. – Ведь имеющий добрую душу добр: напротив тот, человек бойкий и склонный подозревать зло, – тот, почитающий себя способным и мудрым и наделавший сам много несправедливостей, обращаясь с подобными, представляется искусно осторожным, потому что смотрит на собственные примеры; а сближаясь с людьми добрыми и старейшими, тотчас является он глупым, потому что несовременному не доверяет и, не имея в себе примеров благонравия, незнаком с ним. Между тем, встречаясь более с порочными, нежели с честными, он и себе, и другим кажется более мудрецом, нежели невеждою.
– Это, без сомнения, справедливо, – сказал он.
– Итак, в судье надобно искать не такой доброты и мудрости, а первой, потому что лукавство еще не может знать ни добродетели, ни себя: напротив, добродетель, вместе с воспитанием природы, время от времени приобретает познание и о себе, и о лукавстве. Таким образом, судьей бывает, как мне кажется, не злой человек, а мудрец.
– И мне тоже кажется, – сказал он.
– Поэтому с судебным знанием не учредишь ли ты в государстве и врачебного искусства, каким мы поняли его, чтобы, то есть, гражданам, пользующимся благосостоянием телесным и душевным, они служили у тебя, а другим – нет, – чтобы таких по телу оставляли умереть, а дурных и неисцелимых по душе умерщвляли сами?
– Да, это должно казаться весьма хорошим и для них самих, и для государства, – сказал он.
– А юноши-то, – продолжал я, – занимаясь той простой музыкою, которая, говорили мы, рождает рассудительность, очевидно, будут остерегаться у тебя, как бы не понадобилось им иметь дело с судебным знанием.
– Конечно, – сказал он.
– Не по тем же ли следам преследуя гимнастику, любитель музыки будет также стараться, если захочет, чтобы, без крайней необходимости, не нуждаться и во врачебном искусстве?
– Я с этим согласен.
– Ведь самые гимнастические упражнения и труды будет он предпринимать, смотря больше на раздражительную сторону своей природы, как бы возбудить ее, чем на силу, – не то, что иные бойцы – едят и трудятся для того, чтобы стать покрепче.
По мнению Платона, между двумя противоположностями душа обнаруживает еще природу среднюю или посредствующую, которая, с одной стороны, находится в ближайшей связи с природой разумной, а с другой – поставлена в непосредственное отношение к природе неразумной. Средняя часть души является началом раздражительным. В отношении к ней часть неразумная называется у Платона пожелательной и каждой происходящей в себе переменой желаний или стремлений действует на раздражительность или на сердце. На этом основании Платон и гимнастике, действующей на природу пожелательную, приписывает также влияние и на силу раздражительную.
– Весьма справедливо, – сказал он.
– Да и введшие в воспитание музыку и гимнастику не для того ввели их, Главкон, чтобы, как некоторые думают, одним из этих упражнений образовать тело, другим душу?
– Для чего же более?
– То и другое ввели они, должно быть, особенно для души, – отвечал я.
– Как это?
– Не замечаешь ли ты, – сказал я, – каковы по самой душе те, которые всю жизнь занимаются гимнастикой, не касаясь музыки, или каково расположение других, занимающихся противным тому?
– О чем хочешь ты сказать? – спросил он.
– О грубости и жестокости, – отвечал я, – и наоборот – о нежности и тихости.
– Да, я замечаю, – сказал он, – что неумеренно занимающиеся гимнастикой выходят грубее надлежащего, а неумеренные в музыке бывают нежнее того, чем сколько это нужно им.
– Но грубость, – сказал я, – могла бы способствовать природной ярости духа и при правильном воспитании обратилась бы в мужество, а чрезмерная грубость обыкновенно превращается в жестокость и вздорность.
– Да, мне так кажется.
– Что же? Разве кротость не есть ли свойство философской природы? И если она простирается слишком далеко, то делается нежнее надлежащего, а воспитываемая хорошо, остается только кротостью и благонравностью.
– Именно так.
– И стражи, говорим мы, должны иметь ту и другую природу.
– Конечно.
– Так не должны ли эти природы быть в согласии одна с другою?
– Должны.
– И душа человека, в котором они в согласии, есть душа рассудительная и мужественная.
– Конечно.
– А в ком не в согласии, – трусливая и грубая.
– И очень даже.
– Итак, если человек допускает, чтобы музыка завораживала его звуками флейт и через уши, словно через воронку, вливала в его душу те сладостные, нежные и жалобные звуки гармонии, о которых мы только что говорили, если он проводит всю жизнь то жалобно стеная, то радуясь под воздействием песнопений, тогда, если был в нем яростный дух, он на первых порах смягчается наподобие того, как становится ковким железо, и ранее бесполезный, жесткий его нрав может пойти ему теперь на пользу. Но если, не делая передышки, он непрестанно поддается такому очарованию, то он растопляет чувство, ослабляет свой дух, пока не ослабит его совсем, словно вырезав прочь из души все нервы, и станет он тогда воином изнеженным.
– Без сомнения, – сказал он.
– Если и с самого начала он получил природу без сердечной горячности, – продолжал я, – то выйдет таким скоро. А когда природа его была горяча, – ослабит ее жар и сделает ее удобовозбуждаемой, скоро раздражающеюся и охладевающей от причин самых ничтожных. Таким образом, вместо сердечного жара, исполнившись чувством недовольства, люди становятся желчны и вздорны.
– Именно так.
– Что ж? А если бы кто, напротив, много занимался гимнастикой и слишком пировал, не касаясь музыки и философии? Имея здоровое тело, не исполнится ли он сперва надменностью и юношеским жаром и не сделается ли мужественнее самого себя?
Связь между пированьем и гимнастикой можно понять, если вспомнить о греческих атлетах, которые параллельно с занятиями гимнастикой сытно и много ели.
– Уж конечно.
– Но что потом? Так как он не делает ничего другого, не разделяет времени ни с какою музою, то душа его, если бы в ней и была какая любознательность, не наслаждаясь ни учением, ни исследованием какого-либо предмета, не занимаясь ни словом, ни иною музыкою, становится слабой, глухой и слепой, потому что она и не возбуждается, и не питается, и не очищает чувств своих.
– Это так, – сказал он.
– Вот же я и полагаю, что такой человек есть ненавистник слова и враг муз. Для убеждения он не пользуется словами, но при всяком случае, подобно зверю, добивается всего насилием и жестокостью, проводит жизнь в невежестве и дикости, нескладно и непривлекательно.
– Это совершенно справедливо.
– Итак, ради этих-то, вероятно, двух крайностей, какой-то бог, сказал бы я, даровал людям и два искусства: музыку и гимнастику. Даровал то есть для раздражительной и философской природы, а не для души и тела. Последнего касаются они разве мимоходом, прямо же относятся к первой, чтобы обе эти природы ее, через напряжение и ослабление до надлежащей степени, приходили к взаимному согласию.
– В самом деле, вероятно, – сказал он.
– Поэтому, кто превосходно соединяет гимнастику с музыкой и в надлежащей мере преподносит их душе, того мы по всей справедливости можем называть человеком совершенно музыкальным и гораздо лучше настроенным, чем тот, кто умеет подстроить одну струну под другую.
– Конечно должно быть так, Сократ.
– Но не то же ли и в государстве, Главкон? Не будет ли нужен нам всегда именно такой начальник для сохранения его устройства?
– Точно, будет нужен, и притом всего более.
– Пусть же типы учения и воспитания будут таковы. Но что сказать о плясках этих людей, о звероловстве, псовой охоте, состязаниях атлетов и соревнованиях в управлении конями и колесницами? Впрочем, почти уж очевидно, что последние должны быть сообразны с первыми, и тогда определятся без труда.
– Может быть, и без труда.
– Положим, – сказал я. – Но после этого-то, что еще предстоит исследовать нам? Не то ли, кому начальствовать и кому быть под начальством?
– Конечно.
– Не явно ли, что начальниками должны быть старшие, а под начальством – младшие?
– Явно.
– И что отличнейшие из них?
– И это явно.
– Но отличнейшие из земледельцев не суть ли самые лучшие знатоки земледелия?
– Да.
– А так как теперь они должны быть и отличнейшими стражами, то не следует ли им также превосходно знать и обязанности стражей государства?
– Да.
– Но для этого они должны быть благоразумны, сильны и сверх того должны заботиться о государстве.
– Это правда.
– А всякий больше всего заботится о том, что он особенно любит.
– Непременно.
– А любят по большой части то, в отношении к чему полезное находят полезным для себя и чье благоденствие почитают залогом благоденствия частного. Будь же иначе – выйдет противное.
– Так, – сказал он.
– Стало быть, из всех стражей надобно избирать таких мужей, которые, по нашему наблюдению, оказывались бы во всю свою жизнь усердными ревнителями в исполнении дел, признаваемых полезными для государства, а что неполезно ему, того никак не хотели бы делать.
– Да, такие и нужны, – сказал он.
– Так мне кажется, надобно подстерегать их во всех возрастах жизни, точно ли сохраняют они это правило и, не поддаваясь ни обольщению, ни насилию, не изгоняют ли из своей души мнения, что должно делать все, в отношении к государству наилучшее.
– О каком изгнании говоришь ты? – спросил он.
– Это я скажу тебе, – был мой ответ. – Мне кажется, что мнения выпадают из сознания человека иногда по его воле, а иногда невольно: по его воле, если человек, передумав, отбрасывает мнение ложное, невольно же – когда он отбрасывает всякое мнение истинное.
– Охотное изгнание мнения я понимаю, – сказал он, – а вот невольное еще нужно понять.
– Что? Разве не так думаешь и ты, – спросил я, – что благ люди лишаются поневоле, а зол – охотно? Разве уклонение от истины – не зло, а хранение ее – не благо? Или держаться мнения истинного разве не значит хранить истину?
– Да, ты справедливо говоришь, – заметил он. – И я также полагаю, что мнения истинного лишаются поневоле.
– А не правда ли, что теряют его либо обокраденные, либо обольщенные, либо изнасилованные?
– Я все еще не понимаю, – сказал он.
– Видно, моя речь идет трагически. Но ведь обокраденными я называю тех, которые переуверены и омрачены забвением, потому что последних обкрадывает время, а первых – гибельное слово.
– Так.
– Потом, – изнасилованными тех, которые вынуждены переменить мнение от какого-нибудь страдания, либо от мучения.
– И это понятно, – сказал он, – ты говоришь справедливо.
– А обольщенными и сам ты, думаю, назвал бы тех, которые переменили свое мнение, быв либо обворожены удовольствием, либо испуганы страхом.
– Да, уж конечно, все обманывающее обольщает.
– Итак, надобно исследовать, как недавно было сказано, кто таковы – отличнейшие хранители принятого нами положения, что должно совершать дела, представляющиеся во всяком случае наилучшими для государства. Надобно то есть поручить им занятия, и наблюдать за ними от самого их детства, в каком роде дел кто из них забывчив и доступен обману, – и памятливого и не поддающегося обману избирать, а противного тому отвергать. Не правда ли?
– Да.
– Надобно также возлагать на них труды, страдания и подвиги, и в этом случае опять подстерегать то же самое.
– Справедливо, – сказал он.
– Надобно, наконец, – продолжал я, – подвергать их и третьего рода испытанию, то есть со стороны обольщения. Как молодых коней подводят под шум и гам, чтобы видеть, пугливы ли они, так и молодых людей нужно сближать с чем-нибудь страшным, и эти страшные зрелища сменять потом удовольствиями, чтобы юную душу испытать гораздо более, нежели золото огнем, благонравна ли она во всяком случае и довольно ли недоступна для обольщений, как добрый страж над собою и хранитель изученной ею музыки, показывающий себя во всех подобных обстоятельствах ровным и стройным, – каким надлежит ему быть для пользы собственной и общественной. И кто, быв испытываем всегда, в детстве, в юности и в мужеском возрасте, выказал себя человеком цельным, того и надо ставить начальником и стражем государства, тому должно воздавать почести при жизни и по смерти и назначать великие награды в виде гробниц и других памятников. А кто не таков, того следует отвергать. Говоря вообще, а не в частности, – прибавил я, – таковым, кажется, должно быть, Главкон, избрание и постановление начальников и стражей.
– Почти то же представляется и мне, – сказал он.
– Так не будет ли в самом деле весьма справедливо – называть их стражами совершенными в отношении и к внешним врагам, и к домашним друзьям, чтобы одни не захотели, а другие не могли делать зло, – юношей же, которым недавно дали мы наименование стражей, почитать помощниками и исполнителями их предписаний?
– Мне кажется, – сказал он.
– Итак, какое у нас средство, когда мы лжем, – продолжал я, – убедить преимущественно самих начальников, а если это невозможно, так хоть остальных граждан – поверить некоему благородному вымыслу из числа тех, которые, как мы недавно говорили, возникают по необходимости?
– Какому же это вымыслу? – спросил он.
– Не ожидай ничего нового: это – нечто финикийское, нередко случавшееся уже прежде, как говорят и уверяют поэты, чего однако же у нас не случалось, и что случится ли – не знаю, а между тем требует совершенного убеждения.
Нечто финикийское – это какая-то ложь. Сократ хочет говорить не в защиту лжи, а в пользу какой-нибудь выдумки правителя во спасение народа. Подобную ложь позволяли себе правители и мудрецы Кадм, Солон, Агенор и прочие, и она называется здесь финикийской. Кстати, дальнейшая история о происхождении людей из земли – это тоже есть финикийское произведение.
– Как нерешительно говоришь ты! – заметил он.
– Но если скажу, сам увидишь, что моя нерешительность весьма основательна.
– Говори же, не бойся.
– Сейчас говорю, только не знаю, какая нужна мне смелость и какими выразиться словами. Я приступлю к убеждению сперва самих начальников и воинов, а потом и прочих граждан, что, получив от нас воспитание и быв наставлены нами, они должны вообразить, что все это чувствовали и испытывали над собою, как бы сновидение, на самом же деле тогда формировались и воспитывались они в недре земли, вместе со своим оружием и прочими, там же приготовлявшимися доспехами, и что, когда дело с ними было совсем окончено, – мать-земля произвела их на свет. Поэтому о матери и кормилице страны, в которой живут, они должны теперь заботиться и защищать ее, если кто нападает, а обо всех других гражданах мыслить, как о братьях, также порожденных землей.
Сократ говорит о том, что взаимному согласию, братству и равенству всех граждан служит их происхождение от одной матери, от эллинской земли.
– Недаром же давно стыдился ты говорить ложь, – сказал он.
– И стыдился очень естественно, однако же выслушай и остальное в басне. Так вот все вы в государстве хоть и братья, но Бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золота, отчего они очень драгоценны, а к помощникам их – серебра, а к земледельцам и прочим мастеровым – железа и меди. Таким образом, как родственники, все вы рождаетесь весьма похожими на самих себя, и однако же из золота иногда происходит порода серебряная, а из серебра – золотая, как и все прочее – одно из другого. Поэтому начальствующим Бог прежде всего и особенно повелевает, чтобы стражи ни в чем не были столь добрыми, и чтобы начальствующие ничего так усердно не оберегали, как свое потомство, рассматривая, что примешано к душе каждого из них. Если такое потомство будет отчасти медное, либо отчасти железное, то никак не должны они иметь к нему снисхождение, но, воздавая надлежащую честь природе, должны отсылать его к мастеровым или к земледельцам. А кто, напротив, произошедши от этих последних, родился частью золотым, либо частью серебряным, того с честью возводили бы или в стражи, или в помощники, ибо есть предсказание, что государство разрушится, если будет охраняемо железом или медью. Так имеешь ли ты какое-нибудь средство заставить их верить этой басне?
Согласно Платону, при одних и тех же правах на любовь и покровительство матери-земли каждый получает от Бога не одинаковые наклонности и разные способности и таланты. Перед законами все равны, а по своим личным качествам и действиям – различны.
– Никакого, – отвечал он, – по крайней мере что касается до самых этих лиц, но по отношению к их сыновьям и потомкам, к людям последующим – дело другое.
– Однако уже и это способствовало бы тому, – сказал я, – чтобы граждане с большей заботой относились и к государству, и друг к другу, я примерно так понимаю твои слова. Успех здесь зависит от того, насколько распространится такая молва. Мы же, снабдив этих наших земнородных людей оружием, двинемся с ними вперед под управлением начальников. Придя на место, пусть они осмотрятся, где им всего лучше раскинуть лагерь, чтобы удобнее было держать жителей в повиновении в случае, если кто-нибудь не захочет повиноваться законам, и отражать внешних врагов, если неприятель нападет, как волк на стадо. Избрав же лагерное место и совершив надлежащие жертвоприношения, пусть они ставят палатки. Не так ли?
– Так, – сказал он.
– И не такие ли, какие могли бы укрывать их?
– Как же не такие? Ведь о жилищах, кажется, говоришь ты? – прибавил он.
– Да, и притом о военных, а не о промышленных.
– Но чем же отличаешь ты их одни от других? – спросил он.
– Постараюсь объяснить тебе это, – сказал я. – Должно быть, всего ужаснее и постыднее, когда пастухи таких содержат и так кормят собак – оберегателей стада, что, побуждаясь наглостью, голодом или какой-нибудь иной дурной привычкой, они решаются наносить зло овцам и, вместо собак, уподобляются волкам.
– Ужасно, как не ужасно?
– Итак, надобно всячески наблюдать, чтобы у нас оберегатели не делали этого гражданам, если они лучше последних, и вместо благосклонных защитников не уподоблялись жестоким господам.
– Надобно наблюдать, – сказал он.
– А не тогда ли в отношении к ним принята будет величайшая осторожность, когда они окажутся поистине хорошо наставленными?
– Но они уже таковы и есть.
– Это не годится утверждать, любезный Главкон, – возразил я, – хотя то, конечно, годится, что сказано прежде, то есть, что они должны получить какие бы то ни было правильные наставления, чтобы впоследствии иметь весьма много решимости быть кроткими и между собою, и в отношении к тем, которых охраняют.
– Это мы правильно говорили.
– Итак, кроме упомянутых наставлений, скажет какой-нибудь умный человек, надобно, чтобы и жилища, и все другие вещи были у них таковы, какие и не мешали бы стражам оставаться отличнейшими самим по себе, и не наводили бы их на злые дела в отношении к другим гражданам.
– Да и справедливо скажет.
– Смотри же, – продолжал я, – чтобы быть такими, не так ли как-нибудь обязаны они жить и помещаться? Во-первых, никто из них не должен иметь никакой собственности, кроме совершенно необходимого. Во-вторых, ни у кого из них не должно быть ни жилья, ни такой кладовой, в которую не мог бы войти всякий желающий. А нужные вещи, сколько их требуется для рассудительных и мужественных подвижников на войне, надобно им, в награду за охранение, получать от прочих граждан, определив такое количество всего, какое было бы и не велико на год, и не мало. Они должны ходить в артельные столовые, как бы целым лагерем, и жить сообща. А что касается до золота и серебра, то им следует говорить, что в душе их всегда есть золото божественное от богов и что ни в чем человеческом они не имеют нужды. Стяжав это сокровище. и не годилось бы осквернять его примесью золота тленного. Монета народная произвела много нечестивого, а полученная от богов чиста. В обществе граждан им одним не должно принимать и касаться золота и серебра, даже вступать под ту самую кровлю, обкладываться золотыми и серебряными вещами и пить из них. Так только спасутся они сами и сохранят государство. А когда приобретут собственную землю, дома и деньги, тогда, вместо стражей, сделаются хозяевами и земледельцами; вместо защитников прочих граждан – неприязненными господами, и во всю свою жизнь будут ненавидеть и находиться в ненависти, коварствовать и подвергаться коварству; будут гораздо более бояться внутренних, чем внешних неприятелей, и как сами, так и целым государством, приблизятся к погибели. По всем этим причинам согласимся, заключил я, что и касательно жилищ, и в рассуждении всего прочего так именно должны быть снаряжены стражи. Постановим это или нет?
– Без сомнения, – отвечал Главкон.








