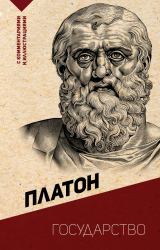
Текст книги "Государство. С комментариями и иллюстрациями"
Автор книги: Аристокл
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Здесь Платон подразумевает форму речи повествовательную, чуждую подражания. Она проста, неразнообразна, и чем чище и возвышеннее изображаемое ею добро, тем менее в ней изменяемости. При описании добра поэт не рассчитывает на эффект, потому что эффекты поражают только чувственность и вызывают человека из области духа в мир скоропреходящих явлений. Кто изображает добро в чистоте его природы, тот увлекает душу истинной и постоянной его красотой, а не модуляциями видимых образов.
– В самом деле так бывает, – сказал он.
– Что ж? А род речи, свойственный другому, не требует ли противного, то есть всяких гармоний и всяких рифм, если говорить опять как следует? Ведь формы изменений в нем весьма различны?
– Это-то и очень несомненно.
– Так не все ли поэты и говорящие что-нибудь употребляют либо тот тип речи, либо этот, либо смешанный из того и другого?
– Необходимо, – отвечал он.
– Что же мы сделаем? – спросил я. – Все ли эти типы примем в свое государство или который-нибудь один из несмешанных или смешанный?
– Если нужно мое мнение, – сказал он, – то примем несмешанного подражателя честному.
– Однако ж, Адимант, приятен ведь и смешанный; но детям, воспитателям и большой толпе народа гораздо приятнее противный тому, который ты избираешь.
Смешанный – т. е. тот, который принимает множество различных форм.
– Да, весьма приятен.
– Но ты, может быть, скажешь, что он не гармонирует с нашим политическим обществом, поколику у нас человек не двоится и не развлекается многими делами, а делает каждый одно.
– Без сомнения, не гармонирует.
– Значит, это общество будет иметь в кожевнике только кожевника, а не кормчего сверх кожевнического мастерства, в земледельце – только земледельца, а не судью сверх земледельческих занятий, в военном человеке – только военного, а не ростовщика сверх военного искусства, и всех таким же образом?
– Справедливо, – сказал он.
– А кто, по-видимому, стяжав мудрость быть многоразличным и подражать всему, придет со своими творениями и будет стараться показать их; тому мы поклонимся, как мужу дивному и приятному, и, сказав, что подобного человека в нашем государстве нет и быть не должно, помажем его голову благовониями, увенчаем овечьею шерстью и вышлем его в другое государство. Сами же, ради пользы, обратимся к поэту и баснослову более суровому и не столь приятному, который у нас будет подражать речи человека честного и говорить сообразно типам, постановленным нами вначале, когда мы приступили к образованию воинов.
Это место в книге Платона все критики достойно превозносили, но немногие из них правильно понимали его. Одни в словах «помажем голову и т. д.» видели обидную насмешку Платона. Другим эта насмешка казалась тем обиднее и несправедливее, что они относили ее к Гомеру. Дионисий Галикарнасский говорит: «Платон, при многих достоинствах своей природы, был весьма самолюбив. Это выразил он особенно своею завистью к Гомеру, которого, увенчав и помазав благовониями, выслал из устрояемого им государства». Но правильно все же слова Платона понимать в их собственном смысле, а не в ироническом. Платон на самом деле высоко ценит дар поэта-подражателя, как человека божественного, и по искреннему убеждению возлагает на него венок и намащает его. Но развиваемая им идея государства при этом не позволяла ему принять его в свой «город».
– Конечно, так сделаем, – примолвил он, – лишь бы это было в нашей воле.
– Итак, музыка речей и рассказов теперь у нас, друг мой, должна быть окончательно определена, – сказал я, ибо показано, что и как надобно говорить.
Музыка речей – это гармония содержания и выражения в произведениях, предназначаемых для чтения воспитывающемуся юношеству.
– Мне и самому кажется.
– Не остается ли нам после этого рассмотреть еще образ песни и мелодий?
– Разумеется.
– Но не видно ли уже всем, что должны мы сказать об их качествах, если хотим быть согласны с прежними положениями?
Тут Главкон улыбнулся и возразил:
– Должно быть, я не принадлежу к числу всех, Сократ, потому что в настоящую минуту не могу достаточно сообразить, о чем надобно беседовать, а только догадываюсь.
– Непременно принадлежишь, – заметил я, – ибо, во-первых, достаточно понимаешь, что мелодия слагается из трех частей: из слов, гармонии и рифмы.
– Это-то так, – отвечал он.
– Но со стороны слов, она, конечно, ничем не отличается от речи невоспеваемой, так как ее слова должны быть сообразны тем и таким типам, о которых мы говорили прежде?
Упоминая о типах, Платон подразумевал содержание речей или те их характеры, о которых он говорил прежде. Тем типам должны соответствовать и слова. Таким образом, учение о выражении речей ставится в теснейшую связь с содержанием их именно посредством слов. Поэтому слова у Платона остаются в этом месте без рассмотрения, и делается переход прямо к определению гармонии и рифмы, различие между которыми он ясно показывает в своем диалоге «О законах», где говорит, что «порядок движения называется рифмой, а настроение голоса, поскольку он слагается из звуков высоких и низких, носит имя гармонии».
– Правда, – сказал он.
– А гармония-то и рифмы будут следовать словам.
– Как же иначе?
– Между тем в речах, сказали мы, не нужно ничего плаксивого и печального.
– Конечно, не нужно.
– Какие же бывают гармонии плаксивые? Скажи мне, ты ведь музыкант.
О различии, силе и характере тонов в греческой музыке писали Гераклид Понтийский, Аристотель и другие авторы.
– Смешанно-лидийская, мольно-лидийская и некоторые другие, – отвечал он.
О смешанно-лидийской гармонии упоминает Аристоксен у Плутарха. «Гамма смешанно-лидийская, – говорит он, – имеет характер патетический, свойственный трагедии». Считается, что изобретательницей ее была Сафо, у которой ее потом переняли трагики. Аристотель говорит, что эта гамма отличалась плаксивостью и твердостью. Специалисты насчитывают пять наклонений или характеров греческой музыки: характер дорический, лидийский, фригийский, ионийский и эолийский. Дорический был самый твердый, фригийский занимал средину, а лидийский был самый острый. Два другие наклонения занимали интервалы между ними: ионийское стояло между дорическим и фригийским; а эолийское – между фригийским и лидийским. Дорическое наклонение имело характер важный и пылкий, эолийское – величественный, ионическое – строгий и грубый, а лидийское – приятный и игривый.
– Стало быть, их надобно исключить, – сказал я, – потому что они не полезны даже и женщинам, которые должны быть скромными, не только мужчинам.
– Конечно.
– Что же касается до упоения, неги и расслабления, то стражам это весьма несвойственно.
– Как же иначе?
– А какие бывают гармонии разнеживающие и пиршественные?
– Ионийская и лидийская, известные под именем расслабляющих, – отвечал он.
– Так приспособишь ли ты их, друг мой, к людям военным?
– Отнюдь нет, – сказал он, – тебе остаются, должно быть, только дорийская и фригийская.
Аристотель порицал Платона за то, что тот допустил в свое государство только фригийский характер гармонии. Но Платон имел причины терпеть в своем «городе» только те роды музыки, которые в военное время могли побуждать стражей к мужеству и великодушию, а во время мира помогать рассудительности и умеренности. Прочие же, служащие к возбуждению страстей и страстных пожеланий, он изгонял из создаваемого им общества. Из двух, допускаемых Платоном, родов музыки (фригийской и дорийской) первая способна была к возбуждению энтузиазма и годилась на войне, а последняя успокаивала душу, настраивала ее на тон серьезный и потому была полезна во время мира.
– Гармоний не знаю, – сказал я, – оставь мне ту, которая могла бы живо подражать голосу и напевам человека мужественного среди военных подвигов и всякой напряженной деятельности, человека, испытавшего неудачу, либо идущего на раны и смерть, или впавшего в какое иное несчастье, и во всех этих случаях стройно и настойчиво защищающего свою судьбу. Оставь мне и другую, которая бы опять подражала человеку среди мирной и не напряженной, а произвольной его деятельности, когда он убеждает и просит – либо Бога, посредством молитвы, либо человека, посредством наставления и увещания, – когда бывает внимателен к прошению, наставлению и убеждениям другого и свою внимательность, по силе разумения, оправдывает делом, когда он не кичится, но во всем этом поступает рассудительно и мерно и довольствуется случайностями. Эти-то две гармонии – напряженности и произвола, людей несчастных и счастливых, рассудительных и мужественных, – эти две оставь мне гармонии, наилучшим образом подражающие голосу.

– Но ты приказываешь оставить именно те, о которых я сейчас говорил.
– Следственно, многострунность-то и всегармоничность в песнях и мелодиях нам не понадобятся, – продолжал я.
– Мне кажется, нет, – отвечал он.
– Поэтому мы не будем содержать тех мастеров, которые делают тригоны, пиктиды и все многострунные и многогармоничные инструменты?
Тригон – это музыкальный инструмент (треугольник), введенный в употребление, вероятно, незадолго до времен Платона.
Пиктида – двадцатиструнный инструмент, на котором играли пальцами. Считается, что ее изобретателем был Тимофей, переделавший семиструнную Орфееву лиру в двадцатиструнную и образовавший хроматическую гамму, за что он был изгнан из Спарты, как извратитель прежней простой музыки.
– Кажется, не будем.
– Ну, а изготовителей флейт и флейтщиков ты допустишь в наше государство? Ведь вся эта многострунность и всегармоничность – не есть ли подражание флейте?
Изгоняя из своего государства все музыкальные инструменты, снабженные излишним количеством струн, Платон не пощадил и флейту, которую, еще прежде него, не любил и Пифагор. Впрочем, устройство флейт было различно. Первое изобретение ее приписывают жене Кадма, Гармонии. А вот Марсиас, современник Аполлона, изобрел двойную флейту. Этот инструмент у греков был любимым и, по их мнению, имел способность в высшей степени возбуждать страсти. Флейты стоили очень дорого.
– Очевидно, – сказал он.
– Значит, для пользы государства, тебе остаются лира и цитра, – сказал я, – а пастухи в поле будут употреблять свирель.
Изобретение лиры приписывают Аполлону, и она потом приняла множество форм и являлась под разными названиями: цитра, форминкс, хилис, тестудо и т. д.
– Так показывает наше рассуждение.
– Так мы не делаем ничего нового, друг мой, – продолжал я, – когда Аполлона и его инструменты предпочитаем Марсиасу и его инструментам.
Марсиас (Марсий) – в древнегреческой мифологии это сатир, пастух. Якобы Афина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. Марсиас, однако, подобрал флейту, за что Афина ударила его. Марсиас непрестанно упражнялся и довел игру на флейте до такого совершенства, что осмелился вызвать Аполлона на состязание. Судьей был Мидас, который, будучи близким по духу и вкусам Марсиасу, вынес приговор в его пользу. И тогда разозленный Аполлон подвесил Марсиаса на высокой сосне и содрал с него кожу, а Мидаса за его решение наградил ослиными ушами.
– Да, ради Зевса, – отвечал он, – это, по-моему, именно так.
– Клянусь собакой, – сказал я, – мы и не заметили, как очистили государство, которое прежде назвали роскошествующим.
– Да ведь мы люди-то рассудительные.
– Пусть, – сказал я, – но очистим и прочее. Ведь после гармоний у нас должна быть речь о размерах, чтобы нам не гоняться за размерами различными и движениями разнообразными, а узнать, которые из них приличны жизни добропорядочной и мужественной, и чтобы, узнав их, сделать так, чтобы ритм и напев следовали за соответствующими словами, а не слова – за ритмом и напевом. Итак – твое дело сказать, какие бывают размеры, как прежде сказал ты о гармониях.
– Но клянусь Зевсом, что этого сказать я не могу. Следуя правилам, пожалуй, скажу, что есть три рода размеров, из которых сплетаются движения, подобно четырем звукам, из которых образуются все гармонии: но какой жизни подражает который из них, сказать не в состоянии.
Размер, или рифм, греков был совершенно отличен от нашего. В их поэзии он определялся длиннее и короче произносимыми гласными, тогда как в нашей определяется силою голоса или ударением. На этом основании рифм греческий называют количественным, а новоевропейский – тоническим. Главных размеров у древних было три, а потом к трем был прибавлен четвертый. Те три были равный, полуторный и двойной. В равном рифме удлинение и укорачивание гласных равномерно; в полуторном одна гласная бывает вполовину короче или длиннее другой; а в двойном – одна вдвое дольше или короче другой.
– Ну так посоветуемся и с Дамоном, именно какие размеры подходят для выражения низости, дерзости, бешенства и другого зла, и какие размеры надобно оставить для противоположных состояний. Кажется, я слыхал, хоть и неясно, что он упоминает о каком-то сложном военном размере, который называет то героическим, то дактилем, только не знаю, как составляет его и сообщает ему одинаковый характер с высшим и низшим тоном, когда он делается коротким и долгим. Упоминается у него также, кажется, о ямбе и о каком-то другом – трохее, и определяется их долгота и краткость. В некоторых из них движение стопы он, помнится, не менее порицает и хвалит, как и самые размеры, либо даже то и другое. Определенно сказать об этом не могу. Впрочем тут, как выше замечено, надобно сослаться на Дамона, потому что в краткой речи раскрыть это невозможно. Или ты думаешь иначе?
Дамон – современник Сократа, знаменитый музыкант, по свидетельству Плутарха, бывший учителем Перикла.
Дактиль – трехдольный размер античной метрики из одного долгого и двух следующих за ним кратких слогов; в силлабо-тоническом стихосложении ему соответствует стопа из одного ударного слога и двух безударных за ним.
Ямб – в античной метрике простая стопа, двусложная, короткий слог + долгий слог; в силлабо-тоническом стихосложении (например, русском) – безударный слог + ударный слог.
Трохей (хорей) – двусложный стихотворный размер (метр), стопа которого содержит долгий (с ударением) и следующий за ним короткий (без ударения) слоги.
– Нет, клянусь Зевсом.
– Но, по крайней мере, ты можешь отметить соответствие между благообразием и ритмичностью, с одной стороны, и уродством и неритмичностью – с другой?
– Да, конечно.
– Подобным же образом ритмичность отвечает хорошему слогу речи, а неритмичность – его противоположности. То же самое и с хорошей или плохой гармонией, раз уж размер и гармония, как было положено выше, должны сообразоваться со словом, а не слово – с ними.
– Да, уж конечно, им следует сообразоваться со словом, – сказал он.
– Но образ речи и речь? – спросил я, – не сообразуются ли они с нравом души?
– Как не сообразоваться?
– А с речью все прочее?
– Да.
– Стало быть, и хороший подбор слов, и гармоничность, и благоприличие, и благоразмеренность сообразуются с благонравием. Благонравие же у нас – не недостаток ума, не простосердечие в смысле ласки, а действительно доброе и прекрасное свойство сердца со стороны нравственной.
Простосердечный – означает человека и доброго, и глупого. Поэтому Сократ считает нужным определить, в каком смысле понимает он здесь слово «простосердечие».
– Без сомнения, – сказал он.
– Так не должны ли юноши стремиться к этому во всем, если хотят делать свое дело?
– Конечно, должны.
– Этим-то ведь все отпечатлевается и в живописи, и в каждом художестве. Это всегда есть и в тканье, и в раскрашивании, и в постройке дома, и в отделке разной утвари, даже в природе тел и растений: благоприличие и неблагоприличие имеет место везде. И неблагоприличие, неблагоразмеренность, негармоничность суть сестры злословия и злонравия, а противные свойства сродны противному, бывают сестрами, или подражаниями рассудительности и доброго нрава.
– Совершенно справедливо, – сказал он.
– Но только ли поэтов должны мы ограничивать и принуждать к тому, чтобы в своих стихотворениях представляли они образы благонравия, либо уж и не писали бы у нас, или требовать, чтобы и другие мастера ни на живописных картинах, ни на зданиях, ни на какой иной художественной вещи не изображали ничего безнравственного, постыдного, низкого и непристойного; а кто не может не делать этого, тому не позволять работать у нас, чтобы наши стражи, питаясь образами зла, будто дурною травою, и каждый день собирая себе в пищу постепенно многое от многих предметов, незаметно не скопили в своей душе одного великого зла? Не таких ли надобно искать художников, которые могут благородно исследовать природу прекрасного и благопристойного, чтобы юноши, живя будто в каком здоровом месте, получали пользу от всего, что ни приражается доброго к их зрению или слуху, несясь подобно ветерку, навевающему здоровье от целебных мест, и незаметно, с самого детства, приводя их к подобию, содружеству и согласию с прекрасным словом?
– Да, питаться таким образом было бы весьма хорошо, – сказал он.
– Поэтому-то, Главкон, – продолжал я, – главнейшая пища не заключается ли в музыке, так как рифм и гармония особенно внедряются в душу, весьма сильно трогают ее и делают благопристойною, если кто питается правильно, а когда нет, – выходит противное? Притом воспитанный этим по надлежащему живо чувствует, как скоро что упущено, или неловко отделано, или нехорошо произведено. Быв расположен к справедливому негодованию, он хвалит прекрасное, с радостью принимает его в душу и, питаясь им, становится честным и добрым человеком, а постыдное дело порицает и ненавидит от самой юности, прежде чем может дать себе в том отчет. Когда же потом представляется причина, – с любовью объемлет ее, как знакомую, – особенно тот, кто получил подобное воспитание.
– Да, мне кажется, – сказал он, – что в музыке есть для этого пища.
– Следовательно, как в отношении к грамоте мы бываем достаточно сведущи тогда, когда известны нам те не многие, но во все, что есть, входящие начала, и когда не презираем их ни в великом, ни в малом, будто вещи, которые не нужно знать, но стараемся везде различать их – в той мысли, что не прежде можно сделаться грамотным, как получив такой навык.
– Верно.
– Да и изображения букв, если они отражаются либо в воде, либо в зеркале, можем ли узнать, не узнав наперед, посредством того же искусства и старания, что такое самые буквы?
– Без всякого сомнения, не можем.
– Не так же ли, ради богов, и касательно предмета моей речи? Сделаемся ли мы музыкантами сами, либо сделаем ли ими воспитываемых нами стражей, прежде нежели узнаем виды рассудительности, мужества, благородства, величия и всего сродного им, равно как всего им противного и повсюду встречающегося, – прежде нежели ощутим их везде, где они есть – либо вещественно, либо в своих образах, и ни в малых вещах, ни в великих не будем презирать их, но признаем достойными того же искусства и старания?
– Совершенно необходимо, – сказал он.
– Если бы в чьей-нибудь душе, – продолжал я, – сошлись наилучшие черты нрава, и если бы соответствующие им, согласные с ними, и имеющие тот же характер, выступили на самое лице; то не прекраснейшее ли было бы это зрелище для всякого способного созерцателя?
– И очень.
– А самое прекрасное есть самое привлекательное.
– Как же иначе?
– И ведь таких-то особенно людей может любить музыкант. А в ком нет этого согласия – того не может.
– Конечно не может, – сказал он. – Когда оказывается недостаток в душе, а когда в теле, – переносит и охотно любит.
– Знаю, – заметил я, – что у тебя есть или был такой любимец, и соглашаюсь с тобой. Но скажи-ка мне вот что: между рассудительностью и чрезмерною страстью бывает ли какое-нибудь общение?
– Что за общение, когда страсть сводит с ума не менее, чем скорбь?
– А между ею и иною добродетелью?
– Никакого.
– Ну, а между буйством и распутством?
– С ними-то более всего.
– Но можешь ли ты назвать страсть сильнее и живее чувственной любви?
– Не могу, – отвечал он, – да не представляю и неистовее ее.
– Ведь правильная-то любовь обыкновенно любит благонравное и прекрасное рассудительно и музыкально?
– Конечно, – сказал он.
– Следовательно, к правильной любви не дóлжно относить ничего неистового и сродного с распутством?
– Не должно.
– Стало быть, не должно относить к ней и той страсти: любители и любимцы, любящие и любимые правильно не должны иметь общения с нею.
То есть чувственной любви. Здесь подразумевается сладострастие, которое называется любовью сильной и живой.
– Да, клянусь Зевсом, Сократ, не должно относить.
– Итак, в учреждаемом государстве ты, вероятно, постановишь такой закон: любителю должно любить своего любимца, обращаться с ним и прикасаться к нему, как к сыну, ради прекрасного, которое он внушает, – вообще беседовать с предметом своего попечения так, чтобы отнюдь не казалось, будто он простирает свои желания далее этого. В противном случае он подвергается порицанию, как невежда в музыке и красоте.
– Правда, – сказал он.
– Ну что? Не кажется ли и тебе, что здесь конец нашей речи о музыке? Ведь где надлежало ей окончиться, там она и окончилась. Музыка чем должна кончить – как не любовью к прекрасному?
Всякое учение о музыке, по мнению Платона, нужно направлять к возбуждению души и к ее возвышению, чтобы она была способна созерцать истинное, доброе и прекрасное.
– Согласен, – сказал он.
– После музыки-то уже надобно воспитывать юношей гимнастикой.
Сократ во второй книге сказал, что весь круг образования стражей государства определяется музыкой, под которой подразумеваются свободные науки, а также гимнастикой. Обе эти сферы, по учению Платона, соединены между собой теснейшим образом, так что, при недостатке той или другой, воспитание юношей не может быть удовлетворительно, то есть они не станут образованными и мужественными. Платон не отделяет музыку и гимнастику друг от друга, как отделяет он душу и тело. По его представлениям, одна гимнастика не может дать телу нужную крепость и благообразное развитие, она должна подкрепляться действием музыки на душу, а уже сила души потом поможет развитию тела. С другой стороны, и одна музыка не может успешно и гармонично настраивать душу.
– Почему бы и нет.
– Ведь и это воспитание должно быть тщательно даваемо им всю жизнь, с самого их детства. А состоит оно, как я думаю, в чем-то таком. Впрочем, смотри и ты, ведь мне не представляется, что у кого хорошо тело, у того оно собственною силою образует добрую душу. Напротив, я думаю, что добрая душа собственною силою доставляет возможно наилучшее тело. А тебе как представляется?
– И мне так же, – отвечал он.
– Стало быть, если, достаточно раскрыв мышление, мы передадим ему попечение о теле, а сами, для избежания многословия, постановим несколько типов, то не правильно ли поступим?
– Без сомнения, правильно.
– Ведь мы уже сказали, что от пьянства стражи должны воздерживаться, потому что напиться и не знать, где находишься, может быть простительнее кому-то другому, чем стражу.
– Да, смешно, когда стража самого надобно караулить, – сказал он.
– Но что скажем еще о пище? Ведь эти люди – борцы, подвизающиеся на великом поприще, не правда ли?
То есть борцы на поприще защиты и охраны свободы отечества.
– Да.
– Так не будет ли приличен им образ жизни подвижников?
– Может быть.
– Но этот образ жизни как-то сонлив и для здоровья опасен, – сказал я. – Разве не видишь, что подвижники просыпают свою жизнь и, если хоть немного отступают от принятого правила, непременно подвергаются великим и сильным болезням?
– Вижу.
– Стало-быть, военным борцам, – сказал я, – нужно какое-нибудь лучшее подвижничество. По крайней мере им, как собакам, необходимо бодрствовать, сколько возможно острее видеть и слышать и, часто во время войны употребляя переменную воду и пищу, перенося зной и холод, иметь довольно крепости для сохранения здоровья.
– Мне кажется.
– Так наилучшая гимнастика не есть ли подруга той простой музыки, о которой мы недавно рассуждали?
– Какую разумеешь ты?
– Простая и настоящая гимнастика, думаю, есть особенно военная.
– Как это?
– Да это всякий может узнать и от Гомера, – сказал я. – Тебе ведь известно, что в военное время он кормит своих героев не рыбою, хотя это было близ моря, у Геллеспонта, и не вареным мясом, а только жареным, которое для воинов особенно удобно, потому что везде, как говорится, иметь под руками огонь гораздо удобнее, чем возить с собою посуду.
Геллеспонт – так назывался пролив, отделявший фракийский Херсонес от Азии. Ныне этот морской путь, соединяющий Эгейское море с Мраморным (раньше оно называлось Пропонтидою), называется Дарданеллами, Галлипольским проливом. Так же называлось прибрежье – преимущественно азиатское.
– И очень.
– Гомер, кажется, нигде не упоминает и о лакомствах. Впрочем, это-то знают и другие подвижники. То есть, кто хочет быть здоров телом, тот должен воздерживаться от всего подобного.
– Да и справедливо, – сказал он. – Знают и воздерживаются.
– Если же это кажется тебе справедливым, друг мой, то ты, вероятно, не хвалишь сиракузский стол и сицилийское разнообразие кушаний.
– Не думаю хвалить.
– Следовательно, порицаешь и коринфскую девицу, что она любит мужчин, которые хотят поддерживать свое тело в хорошем состоянии.
Коринф – это древнегреческий полис и современный город на Коринфском перешейке, соединяющем материковую Грецию и полуостров Пелопоннес. О развратной жизни коринфян говорили во времена Платона многие.
– Без сомнения.
– И кажущуюся приятность аттических лакомств?
– Конечно.
– Потому что всякую этого рода пищу и такую диету мы справедливо можем уподобить мелодии и песне, в которой сходятся все гармонии и рифмы.
– Как не уподобить?
– И если там разнообразие есть мать распутства, то здесь оно – источник болезней. Напротив, простота в музыке водворяет в душу рассудительность, а простота в гимнастике сообщает телу здоровье.
– Весьма справедливо, – сказал он.
– Когда же в государстве распространяются разврат и болезни, тогда не открывается ли в нем множество судов и больниц? Не приобретают ли уважения судебное и врачебное искусство? Тогда не стараются ли заниматься ими и многие люди благородные?
– Да, как не быть этому?
– Следовательно, что примешь ты за яснейший признак худого и постыдного воспитания в государстве – как не то, что не один черный народ и низшие ремесленники, но и люди, прикидывающиеся воспитанными по правилам людей благородных, имеют нужду в ученейших врачах и судьях? Разве не стыд и не великий признак невежества – поставить себя в необходимость пользоваться справедливостью, навязанной другими, будто господами и судьями, за неимением собственных?
– Конечно, всего постыднее, – отвечал он.

– А не кажется ли тебе, – сказал я, – что и того постыднее, когда кто не только тратит большую часть своей жизни в судах, то защищаясь, то нападая, но еще, по незнанию хорошего, почитает пищей тщеславия именно то, что он искусен в нанесении обиды и способен ко всякой изворотливости, что рассматривая все исходы дела, он разными уловками может отвратить от себя наказание, – и все это для вещей маловажных, ничего не стоящих, забывая, во сколько похвальнее и лучше провождать жизнь так, чтобы не иметь никакой надобности в дремлющем судье?
То есть в таком судье, который допускает нарушение прав и потворствует несправедливости.
– Да, это-то еще более постыдно, чем прежнее, – сказал он.
– Равным образом иметь нужду во врачебном искусстве, не для ран и не для каких-нибудь болезней, производимых временами года, а для нашего бездействия и упомянутой диеты, которая начиняет нас, будто болото, жидкостями и парами, и заставляет почтенных асклепиадов давать болезням имена флюса и катарры, не кажется ли тебе постыдным?
Асклепиады – члены семейств, ведущих свой род от древнегреческого бога медицины Асклепия (или Эскулапа). Они занимались лечением больных в посвященных Асклепию святилищах – асклепионах.
– И конечно, – отвечал он, – эти названия болезней, в самом деле, новы и странны.
– Во времена Асклепия таких, как мне кажется, не бывало. Основываю свою догадку на том, что его сыновья под Троей не порицали Гекамеды, когда раненому Эврипилу она дала выпить прамнийского вина, посыпав его изобильно мукою и наскоблив на него сыру, что, по-видимому, должно было произвести воспаление. Не бранили они также за лечение и Патрокла.
Сыновья Асклепия – Махаон и Подалир. Сократ имеет в виду, что Гекамеда дала напиток не Эврипилу (сыну Посейдона), а Махаону, а Патрокл поднес раненому Эврипилу не напиток, а приложил к его ране истертый в порошок корень.
Прамнийское вино – одни говорили, что это крепкое и кислое красное вино, неизвестно какого сорта, по мнению других – смешанное с морской водой вино, долго сохраняющееся. Целебные свойства прамнийского вина отмечались многими греками.
– Между тем это питье для человека в таком положении действительно-таки странно, – сказал он.
– Не странно, если вспомнишь, – заметил я, – что до появления Геродика у асклепиадов не было педагогики болезней в смысле нынешнего врачебного искусства. Геродик был учредитель гимназии и, по случаю своей болезни, смешав гимнастику с врачебным искусством, сперва жестоко мучил самого себя, а потом и многих других.
Геродик Силимврийский был знаменитым содержателем гимназии в Афинах и учителем гимнастики. Он первый решил использовать гимнастику не как средство для укрепления сил в здоровом теле, а для восстановления человека, когда тот был болен. Он первый приложил гимнастику к медицине. Платон упрекает его за такое изменение цели гимнастических упражнений, потому что от этого больные быстро не поправлялись, а лишь многие годы страдали от болезней. Например, Геродик лечил лихорадку усиленными и дальними прогулками.
– Как же это? – спросил он.
– Сделав свою смерть долговременною, – отвечал я. – То есть, следя за болезнью, которая была смертельна, он хотя и не мог, думаю, вылечить себя, однако ж ничем не занимаясь и леча всю жизнь, жил в мучениях, как бы не отступить от принятой диеты, и, под руководством мудрости борясь со смертью, дожил до поздних лет.
Следя за болезнью – то есть излечивая ее гимнастикой.
– Так прекрасную же получил он награду за свое искусство, – сказал Главкон.
– Какую следовало получить тому, кто не знал, что Асклепий не показал потомкам такого лечения – не по неведению или неопытности, а сознавая, что на каждого человека, управляющегося хорошими законами, возложена в государстве какая-нибудь должность, и что никому нет времени так лечиться, чтобы хворать во всю жизнь. Это – смешно сказать – оправдывается на мастеровых, а между людьми богатыми и по-видимому счастливыми мы не замечаем подобного явления.








