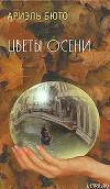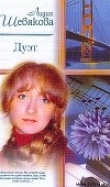Текст книги "Самурайша"
Автор книги: Ариэль Бюто
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Глава 11
Наблюдать, оставаясь незамеченным.
Мать больше не интересует Эрика настолько, чтобы шпионить за ней, просто деревья подросли со времени его последнего визита. Он курит, прячась в листве, и наблюдает за Флоранс. В детстве ему никогда не были рады в этом доме, а теперь при взгляде на него Эрик чувствует только скуку. Мать так и не смогла переубедить его, он не забыл чувство, испытанное однажды в Люксембургском саду. «Мелочь, – сказала бы Флоранс. – Вечно ты делаешь из мухи слона!» Может, и так, но мелочи копятся, копятся, и в конце концов родители и дети становятся чужими друг другу.
Такой мелочью в тот день стала улыбка. Флоранс улыбнулась Эрику, но улыбка шла не от души и не красила ее, она скрывала страстное желание перестать быть матерью мальчика, похожего на своего отца. Этот «муж в миниатюре» выдает ее возраст, отравляет беззаботность прогулки рука об руку с другим мужчиной. Эрик идет шагов на десять впереди, но чувствует спиной, как они переплели пальцы и целуются. Он – лишний. От него то и дело избавляются, откупаются задешево: круг-другой на карусели, поездка на пони, два франка в ладошку: «Беги к киоску, купи себе конфет!» Ребенок хотел бы стать совсем крошечным, может, даже невидимым, но получается плохо, и взрослые считают, что он капризничает назло им.
Чужака зовут Мишель, он высокий – выше Флоранс, и она опирается на него, как будто прежде и шага не могла сделать самостоятельно. Он обнимает ее за талию и все время улыбается, но мальчик видит только зубы. У Мишеля взгляд хищника, который никогда ни с кем не делится добычей.
В полдник они отправляются в чайный салон Понса. Эрик любит миндальные пирожные, но сейчас едва на них смотрит. Его мать не притрагивается к своему чаю, Мишель заказывает третью чашку кофе. Фонтан за окном фырчит и без устали плюется водой. Взрослые молчат, но ребенок ощущает висящее в воздухе напряжение. Кто начнет? Какими будут первые слова важных признаний? Сначала они к нему подольстятся – чтобы легче прошла горькая пилюля: «Дорогой, ты уже взрослый мальчик, я знаю, ты поймешь. Мы с твоим отцом больше не можем жить вместе». Или так: «Ты ведь знаешь, как сильно я тебя люблю, главная моя забота, чтобы тебе было хорошо, но мне придется тебя огорчить».
Ничего не происходит. Флоранс берет Мишеля за руку, прижимается к нему. Любовь Эрика к матери разбивается о стену этих слившихся воедино тел. Если он сам хочет обнять Флоранс, она в ответ недовольно ворчит: «Ты слишком взрослый, чтобы вести себя подобным образом», или «Веди себя прилично, мы в ресторане», или «Ты вымыл руки, прежде чем хвататься за мое белое платье?», или «Сразу видно, что стираешь не ты!»
Неужели вторгшийся в их жизнь мужчина получит право на поблажки? Нет, это невозможно! Мама просто-напросто забыла собственные принципы. Она миллион раз повторяла, что только дураки никогда не меняют мнение.
Эрик обходит вокруг стола и забирается к матери на колени. «Боже, осторожно! Помнешь платье!» Флоранс с холодной улыбкой отталкивает сынишку. В глазах Мишеля Эрик читает торжество победителя, тому плевать, что это жалкая победа, триумф взрослого мужчины над ребенком.
Какие чары позволили этому человеку за несколько недель получить то, чего Эрик отчаянно добивался все восемь лет своей жизни, да так и не добился? Эрик съеживается, ему холодно, его тошнит. Он возвращается на свое место. Ему хочется плакать, но он ни за что не доставит такого удовольствия Мишелю. Эрик сжимает кулачки и позволяет разверзнуться бездне, которая поглотит его любовь к матери. Он больше не хочет страдать и заставит себя ненавидеть маму, принизит ее образ и без долгих сожалений уступит новому избраннику, постарается избегать ее ласк и отвыкнет от них. Такая ненависть противоестественна, но зерно брошено и вот-вот прорастет.
Взрослые что-то говорят, но внимание Эрика привлекает музыка – неотъемлемый атрибут изысканной обстановки наравне с круглыми столиками и мягкими стульями. Мелодия знакома мальчику, учитель музыки играл ему «Экспромт» Шуберта, и он показался Эрику скучным, но теперь музыка звучит только и исключительно для него, безмятежная и одновременно такая печальная.
Флоранс говорит с Эриком, пытается убедить его, но он не слышит. Музыка выражает все, что чувствует его разбитое сердце, опрокидывает защитные барьеры, доводит до слез, как если бы его пожалел товарищ по несчастью.
– Ты не должен так огорчаться, малыш! – Флоранс встревожена и раздосадована. – Неужели ты не хочешь, чтобы мамочка была счастлива?
Эрик непонимающим взглядом смотрит на мать.
– Так будет лучше, сам увидишь. У тебя снова будет папа.
Мишель мешает ложечкой кофе. Он явно обескуражен и надеется, что ослышался.
– У меня уже есть папа. А двух пап не бывает.
– Отца ты видишь в лучшем случае раз в месяц, а Мишель будет с тобой каждый день.
Эрик готов сорваться, нагрубить, сказать матери, что она может забрать Мишеля себе, но Шуберт снова обволакивает его нежным состраданием. Если бы он мог сыграть эту музыку, часы утомительных занятий обрели бы наконец смысл. Он начнет разбирать пьесу, и Милан перестанет говорить, что Эрик совершенно лишен артистизма. Его отец преклоняется перед музыкантами. Он полюбил Флоранс, услышав, как она играет «Фантазию ре минор» Моцарта. Увы – когда они поженились, обнаружилось, что это единственный номер ее репертуара.
– Скажи наконец что-нибудь!
– Оставь его в покое, – вмешивается Мишель. – Что за манера – вечно спрашивать, что думают дети?!
Флоранс просит принести счет, Мишель «позволяет» ей заплатить, а Эрик притворяется, что ему нужно в туалет, – он хочет дослушать «Экспромт».
Мишель надолго не задержался. Он подарил Эрику пластинку – «Экспромты» в исполнении Рудольфа Серкина,[3]3
Американский пианист. – Здесь и далее примеч. перев.
[Закрыть] нашел хорошего преподавателя музыки, но однажды – Эрику как раз исполнилось девять, и отчим преподнес ему «Интермеццо» Брамса в интерпретации Кетчена[4]4
Джулиус Кетчен – американский пианист и дирижер.
[Закрыть] – Флоранс попросила Мишеля уйти. Ей не терпелось освободить место для нового любовника, и она собрала вещи предыдущего в его отсутствие. Флоранс умолила Мишеля не дожидаться возвращения Эрика из школы, чтобы освободить мальчика от горечи расставания. Мишель не стал спорить: он устал от жизни с раздражительной женщиной и был ей благодарен, что позволяет уйти, не потеряв лица.
В тот же вечер преподаватель музыки Жан Вияр проводил до дома своего самого способного ученика и остался жить с его матерью. Злые языки утверждали, будто Флоранс соблазнила Жана Вияра, чтобы ее сын мог заниматься у настоящего мэтра, чьи услуги были ей не по карману. Но недоброжелатели ошибались, считая эту женщину самоотверженной матерью. Истина заключалась в том, что Жан Вияр встретил наконец ученика, о котором мечтает любой учитель: бесспорный дар, страстное желание учиться и то понимание музыки, какого не испортит ни плохой, ни хороший совет, – одним словом, идеальный ребенок для того, чтобы малой кровью заработать репутацию выдающегося педагога.
Интерес Жана Вияра к Эрику распространился и на Флоранс: молодая женщина (в последний раз она играла роль Музы двенадцать лет назад, когда Милан писал ее портрет) взмахнула ресницами, давая понять, что такому талантливому человеку не следует прятать свой дар от мира. Лесть сработала. Жан Вияр решил, что влюблен, хотя любил он, конечно, только себя.
Самую большую выгоду из нового союза извлек Эрик. Его мать, удивленная и польщенная интересом Вияра к своему отпрыску, прониклась по отношению к сыну восхищением и начала проявлять к нему нежность. Эрик делал успехи в игре, Вияр все больше ощущал себя его отцом, а Флоранс хотела быть с любовником «на одной волне».
* * *
Эрик подошел к дому. Он увидел, как постарела мать, но его это оставило равнодушным. Флоранс вешала вторую штору на открытое окно его комнаты. Хрупкая и увядшая женщина больше никого не хотела обольщать, она раз и навсегда отказалась от общения с мужчинами, когда Жан Вияр покинул ее ради матери девочки-вундеркинда.
– Привет, мама!
– Эрик! Я не ждала тебя так рано!
– Если я помешал…
– Ну что ты! Просто я хотела убрать комнату до твоего приезда.
Эрик печально улыбнулся запоздалому проявлению материнской нежности, которой ему так не хватало в детстве. Нынешняя заботливость Флоранс – такая благопристойная, такая равнодушная – ничем его не утешала.
– Я спускаюсь, – крикнула Флоранс.
И спустилась – почти тем же путем, каким двадцатью шестью годами раньше покинула римскую клинику. Она не удержалась на стремянке и упала к ногам сына со свернутой шеей, так и не выпустив из кулака штору, за которую пыталась уцепиться в падении.
В первое мгновение Эрик воспринял несчастье как звук – короткий глухой звук падения тела на гравий дорожки. Он был частью этого тела, но как же мало получил от него! Он дотронулся пальцем до струйки крови, вытекавшей из уха матери, поднес его ко рту и почему-то вспомнил музыку, которую услышал в восемь лет, за чаем и миндальным печеньем. Та музыка выражала сочувствие и обещала помощь, она дала ему силу, и он разорвал связь с женщиной, не умевшей любить своего ребенка.
Взгляд Флоранс выражал удивление. Солнечный луч отразился от потухших глаз, и Эрик понял, что мать не придет в себя. «Она умерла ради меня», – подумал он с чувством бессмысленного, бесполезного торжества.
Он уронил несколько слезинок – то ли свет был слишком ярким, то ли аллергия на пыльцу проявилась. А может, он раскис, почувствовав, каким сладким бывает прощение.
Глава 12
Хисако изнемогает от благодарности: ее школьная форма лежит в сундуке, футон застелен перинкой, книги сложены на столе аккуратной стопкой. У Шинго и Суми никогда не было лишних денег, они жили в двух крошечных комнатках, но у Хисако была своя, личная территория – закуток без окна. Она покинула свой дом, но родители не покусились на него. «Они сохранили для меня мое место», – думает Хисако. Как часто мать говорила, что мечтает выгородить себе уголок для шитья, а отец жалел, что у него нет письменного стола, но они не воспользовались ее отсутствием, чтобы завладеть несколькими квадратными метрами личного комфорта. Все осталось прежним: запах в комнатах, характеры родителей – отец выглядел замкнутым, мать удрученной, – скупой разговор за едой. Отсутствие Хисако никак не повлияло на обыденную жизнь ее родителей.
В первый же вечер семья собралась за ужином. Над столом витал густой дух тэмпуры[5]5
Морепродукты, обжаренные в сыре.
[Закрыть] – любимого блюда Хисако. Они не разговаривали – то ли наслаждались едой, то ли говорить было не о чем.
– Очень вкусно, мама, – шепчет Хисако.
– Ты не голодаешь там, в твоем Париже? – беспокоится Суми.
– У меня все в порядке, я ко всему привыкла, даже к сыру.
– Ты стала своей на Западе, – вздыхает Суми.
Хисако не может определить, чего больше в голосе матери – горечи или удивления. Возможно, Суми всего лишь делится своим ощущением, но Хисако чувствует себя виноватой и сердится на мать. Разве знает Суми, как в первые ночи в Париже она плакала в подушку, потому что все вокруг казалось ей… нет, не враждебным, а непонятным? Что ей известно о том, сколько сил потратила дочь, чтобы стать похожей на студентку, а не на маленькую горничную-японку?
– Твоя учеба скоро завершится? Хисако угадывает опасность в вопросе отца – первом после ее возвращения. Неужели он хочет урезать содержание? Возможно ли, что он не оставил надежду выдать ее за сына коллеги-инженера?
– Если попаду на третью ступень, буду учиться еще два года.
Хисако уже объясняла все это в письмах, но Шинго переспрашивает, ему нужны детали.
– Это будет дорого стоить… – Шинго отталкивает пиалу с рисом. – Я больше не смогу посылать тебе билеты, чтобы ты проводила здесь каникулы.
– Но… Я думала, что раз в год тебе полагается бесплатный билет.
– А почему ты принимаешь это как должное? Между прочим, мы с твоей матерью никогда не покидали Токио…
Хисако опускает глаза, но успевает заметить, как покраснела Суми. Она сожалеет, что поддалась ностальгии, что, живя в Париже, забыла, как узок мирок ее родителей.
«Мы не виделись целый год, провели вместе три часа, а они уже упрекают меня за то, что я им слишком дорого стою».
– Я могу найти работу и буду сама платить за учебу. Все студенты консерватории так поступают.
– Тебе нет нужды работать! – восклицает Суми.
Таким же ясным и твердым голосом она прогоняла детские страхи Хисако.
Шинго бросает палочки и уходит в соседнюю комнату выкурить сигарету. Мать и дочь чувствуют облегчение, как много лет назад, когда они сидели обнявшись в темноте и надеялись, что отец поздно вернется с работы.
– Не сердись на него, – просит Суми.
– Я не знала, что у вас проблемы с деньгами. Мне правда жаль, мама.
– Проблемы были всегда. Но сейчас дела обстоят гораздо хуже – четыре месяца назад твой отец потерял работу.
– Четыре месяца?! Почему ты ничего мне не сообщила? Я возьму учеников, мама. Мне предлагали работу концертмейстера на балетном факультете. Я не хочу, чтобы вы терпели нужду из-за меня.
Суми хочет обнять дочь, но не решается и прижимает руки к груди. Запястья у нее тонкие, как у ребенка, к мокрой – от слез? от пота? – щеке прилипла седая прядь.
– Не уезжай, Хисако.
Суми произнесла эти слова так быстро и так тихо, что Хисако не уверена, правильно ли она поняла. Но Суми повторяет их снова и снова, как молитву, и вдруг начинает рыдать. «Не уезжай» – всего два слова, но в них звучат двадцать прожитых в печали лет.
– Мама!
Хисако прижимает мать к себе, смотрит в пустоту, пытается найти слова утешения – и не может. Волосы Суми пахнут готовкой.
– Я буду чаще звонить!
– Не уезжай!
– Я оплачу тебе поездку в Париж, как только получу первый гонорар за концерт.
– Не уезжай!
– Но почему, мама? Почему?
– Подумай об отце, Хисако, подумай о своем бедном отце!
Неужели Шинго поручил матери удержать дочь дома? Если и так, дело не в чувствах. Когда Хисако жила дома, он почти не глядел в ее сторону.
– Не волнуйся, я поговорю с папой.
– Нет! – Суми смотрит на дочь безумными глазами.
– Но его нужно успокоить…
– Мы не справимся, если ты уедешь!
– На меня вы больше денег тратить не будете, обещаю.
Хисако встает, упирается взглядом в жирное пятно на стене. Слезы высохли, она даже не моргает. Она выходит из дома, идет тяжелым шагом куда глаза глядят, предчувствуя, что наткнулась на какую-то тайну. Пока ее не было, что-то случилось, что-то очень плохое, – и от нее это утаили. Как смерть маленького брата в утробе матери – ей сообщила об этом мама Виолетта. Как «командировка» Шинго, когда та же мама Виолетта видела его в токийском кинотеатре с женщиной. Мама Виолетта всегда знала, что скрывают ее родители, но рассказывала об этом, только если сама хотела.
Хисако догадывается, что отношения между мамой Виолеттой и ее родителями расстроились, как только она перестала быть ежедневным связующим звеном.
Они живут в маленьком квартале, здесь все друг друга знают, а мадам Фужероль страстно интересуется жизнью соседей. Муж давно ее бросил, но она осталась в Японии, чтобы жить на собственные сбережения и алименты от мсье Фужероля. Она стала восточной женщиной гораздо легче множества азиаток, жаждущих приобщиться к западному образу жизни.
Хисако идет вдоль решетки обожженного солнцем сада. Она вздрагивает, услышав музыку. Шопен, «Четвертая баллада». Та самая, которую мама Виолетта играла ей в детстве, чтобы задержать на вилле подольше.
Хисако не звонит – она не решалась прервать музыку, даже когда была совсем маленькой. Виолетта Фужероль сидит за роялем в гостиной спиной к двери, но она замечает отражение своей дорогой девочки в крышке инструмента и восклицает:
– Иза!
Она вскакивает, забыв о Шопене.
– Мама Виолетта!
Они обнимаются, стоя в центре огромной и все еще богато убранной комнаты. Мама Виолетта плачет, повергая Хисако в смущение, берет ее руки в свои, целует, обволакивает запахом духов. «L'Heure bleue» от Герлен, душный аромат женщины без возраста.
Слуга подает чай и сладости. Хисако рассказывает о Париже, о Дюссельдорфском конкурсе, мама Виолетта спрашивает с хитрым прищуром:
– Твою подругу Эрику случайно зовут не Эрик? Я читаю французские газеты…
– Вы ведь ничего не скажете родителям, правда?
– Врать родителям очень плохо, малышка Иза!
– А детям – хорошо?
– Опасно. Ты расскажешь мне об этом юноше?
– Рассказывать нечего. Он просто товарищ. Соученик по консерватории. Но вы знаете моих родителей… Они могли бы забеспокоиться, что я провожу столько времени с мужчиной. Особенно с европейцем.
– Твои родители не способны понять множество вещей. Они – простые, приверженные традициям люди. Если бы я не занималась тобой с самого детства, ты давно была бы замужем за каким-нибудь мелким клерком, стала бы матерью семейства!
Неистовый блеск зеленых глаз Виолетты Фужероль обжигает Хисако. Ей не нравится попытка выставить себя в лучшем свете за счет Шинго и Суми.
– Они были достаточно открыты, чтобы пожертвовать своим удобством ради моей учебы. Если бы не их великодушие и щедрость, я бы никогда не поехала во Францию.
Как она защищает своих родителей, как хочет сбить спесь с мамы Виолетты! Их соперничество, невысказанные тревога и неловкость всплыли на поверхность неожиданно и бесшумно, как мерзкий пузырь зловонного болотного газа. Мама Виолетта всегда была доброй, но Хисако должна была слушаться, предпочитать ее Суми, делать вид, будто она и правда ее дочь.
– Итак, они сказали, что жертвуют собой ради твоей учебы во Франции?
– Да.
– И ты им благодарна?
– Конечно.
– Ты любишь их за это еще больше?
– Я люблю их, потому что они – мои родители.
Хисако не хотела ранить маму Виолетту. Госпожа Фужероль устало закрыла глаза. Несколько капель чая скатились на платье и обожгли ей ноги, но она этого не замечает. У Виолетты Фужероль разрывается сердце, потому что она так и не сумела заставить Изу любить себя, только музыка способна разбудить чувства этой холодной девочки.
– Ты ничего не должна родителям, Иза. Это они… они всем тебе обязаны. Пора узнать правду.
– Не хочу, чтобы вы говорили гадости о моих родителях.
– Раньше ты часто на них жаловалась.
– Я была неблагодарной.
– Нет, прозорливой. Ты была прозорливой. И все понимала без слов. Кажется, жизнь в Европе тебя изменила… Ты вовремя вернулась!
Да они сговорились у нее за спиной!
– Я не могу здесь остаться. Я победила на важном конкурсе. Буду концертировать в Германии и во Франции. Я…
– «Я, я, я!» – срывается мама Виолетта. – Разве так должна говорить о себе японка?
– Вы сделали все, чтобы превратить меня в человека иной, западной культуры!
– И была не права! Заметь, что сама я стала большей японкой, чем твоя мать!
Японка, которая пьет чай из чашек лиможского фарфора и размешивает сахар серебряной ложечкой своей провансальской бабушки… Хисако старается скрыть улыбку. Солнце, пробивающееся через ставни, щекочет ей ступни, и она прячет ноги под креслом.
Розы в хрустальной вазе склоняют тяжелые головки, часы отсчитывают маленькие злые порции скуки. Ветерок шелестит нотами Шопена на пюпитре.
– Я нашла для тебя агента в Токио. Он может организовать турне по Японии уже в октябре. Концерты камерной музыки вместе с другими лауреатами международных конкурсов, тоже японцами.
– В октябре я продолжу занятия с профессором Монброном. С родителями все улажено.
– Как будто они что-то решают!..
Она произнесла эту фразу на безупречном японском – Хисако не знала, что в арсенале мамы Виолетты появилось новое – и сильное! – оружие. Языковой барьер между ее родителями и мамой Виолеттой был той невидимой преградой, которую могла преодолеть только она, а теперь он разлетелся вдребезги. Хисако бросается в атаку:
– Зачем вы лишили моего отца работы? – Она намеренно задает вопрос по-французски.
– Иза, маленькая моя девочка! Почему ты выдвигаешь столь тяжкое обвинение?
– Отец потерял работу в агентстве.
– Вчера?
– Четыре месяца назад.
– Тогда объясни, почему вчера, когда я пришла в агентство за билетом для сестры, именно он мне его оформил?!
Она снова говорит по-японски, чтобы заманить ее в ловушку неопределенности, где взрослые перестают казаться добрыми и ты больше не можешь им верить.
– Откуда взялись проблемы с деньгами, если отец продолжает работать?
Задавая вопрос, Хисако вдруг осознает правду, уродливую, как ложь, но с ужасом и нетерпением ждет подтверждения давно угаданного предательства.
– Пора сбросить маски, – шепчет по-японски Виолетта Фужероль и добавляет по-французски: – Твои родители бедны, потому что твой отец никогда не мог содержать семью. Восемнадцать лет они жили вполне обеспеченно, но потом курица, которая несла золотые яйца, улетела во Францию.
– Сколько? – ледяным тоном спрашивает Хисако. – Сколько вы им заплатили, чтобы заставить меня называть вас «мамой»? Ведь так все было, верно?
– Я оплатила твою учебу, – защищается Виолетта.
– Вы купили себе ребенка, которого не могло выносить ваше лоно!
– Я люблю тебя, как любила бы родную дочь, Иза. Я перестала платить твоим родителям, чтобы ты могла учиться в Париже. Но, если ты вернешься в Токио, я снова буду им помогать. Ведь ты вернешься, правда? Я сама займусь твоими делами, буду заказывать концертные платья. Я заново отделала спальню на втором этаже, она станет твоей. Когда-то в ней жил мой муж – до того, как поставил меня перед выбором: он или ты. Что мне было делать? Твои родители запросили слишком большие деньги за разрешение увезти тебя в Китай, и я осталась здесь. Не могла же я покинуть тебя в тот самый момент, когда ты начала походить на меня! Ведь не могла, а, Иза?
Блеск зеленых глаз померк, рассеялся в бледном свете гостиной. Иза – от Изабель, это имя она дала ребенку, которого полюбила всем сердцем и считала своим, – убегает, бежит через сад, толкает решетку, мчится по улице – вне себя и вне этого построенного на песке мира. Ложь… Обман… «Четвертая баллада» Шопена звучит у нее в голове, перекрывая шум машин и бешеный стук обезумевшего сердца.