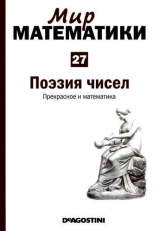
Текст книги "Том 27. Поэзия чисел. Прекрасное и математика"
Автор книги: Антонио Дуран
Жанр:
Математика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Глава 4
Цель: красота математических рассуждений
Мы уже знаем, где следует искать красоту математики и почему ее сложно увидеть. Мы также знаем, что математику всегда нужно рассматривать в эмоциональном контексте, чтобы воспринять ее красоту.
В этой главе мы перенесемся по другую сторону зеркала и представим, что наш мозг оказался способен понять структуру идей, наделяющую математические рассуждения эстетической ценностью. Теперь попробуем совершить двойное сальто-мортале и попытаемся объяснить, что именно в этих идеях эстетически ценно. Пусть читатель не пугается, ведь мы следуем совету философа Джорджа Сантаяны: «Чувствовать красоту лучше, чем понимать, как мы ее чувствуем».
Чтобы пройти намеченным путем, возьмемся за руки гиганта (не будем, подобно Ньютону, взбираться на его плечи), который проведет нас по этой дороге, полной опасностей. Нашим проводником станет Годфри Харолд Харди (1877–1947): пацифист в военное время, предположительно гомосексуалист (по словам его ближайшего коллеги), стилист от математики, гурман чисел.
Англичанин, который не любил Бога
Как и в других главах этой книги, перед тем как изложить мысли Харди об эстетической ценности математики, познакомим читателя с некоторыми моментами его биографии.
Харолд Харди, по своей собственной оценке, был пятым в списке лучших математиков своего времени. Составление списков и рейтингов ему очень нравилось – возможно, оно вполне соответствовало его любви к соревнованиям. Как-то Харди составил рейтинг математической одаренности, в котором присвоил себе 25 очков из 100, своему коллеге Джону Литлвуду – 30, а немецкому ученому Давиду Гильберту, первому математику того времени, – 80. Высшего балла, 100, был удостоен Сриниваса Рамануджан, индийский математик-самоучка, бывший клерк в мадрасском порту, неограненный алмаз, которого Харди, к его великой гордости, открыл миру. Чуть позже мы расскажем о Рамануджане.
По мнению Бертрана Рассела, у Харди были блестящие глаза, какие бывают только у очень умных людей. Возможно, он не был гением, подобно Эйнштейну, но, с точки зрения многих, в одном Харди превосходил Эйнштейна: он умел превратить любой результат интеллектуального труда в произведение искусства. Эта его способность ярко проявилась в небольшой книге под названием «Апология математика», написанной им за несколько лет до смерти. По мнению Грэма Грина, эта книга дает наиболее полное представление о том, что такое быть художником-творцом. Именно это эссе Харди станет для нас путеводной звездой в попытках объективно оценить те свойства, которые наделяют математические идеи эстетической ценностью.

Кто-то как-то сказал: чтобы сесть в кресле так, как сидит Харди на этой фотографии, нужно закончить английскую частную школу.
Харди получил прекрасное образование: сначала он окончил школу в Суррее, к западу от Лондона, где работали его родители-учителя. В 13 лет, став первым из 102 кандидатов, он получил право обучаться в Винчестере, в престижной частной школе. Наконец, в 19 лет он был принят в кембриджский Тринити-колледж, где чуть больше двух веков назад учился и работал Исаак Ньютон.
Харди отличался типично английской холодностью и был при этом довольно эксцентричен и сумасброден. Он ненавидел зеркала (в гостиничных номерах он завешивал все зеркала полотенцами) и брился наощупь. Также он не любил механические устройства, никогда не пользовался часами, авторучкой и отказывался фотографироваться. Не пользовался он и телефоном, за исключением экстренных ситуаций, при этом говорил только он сам. Еще одной его страстью, помимо математики, был крикет – игра, полная тайн и загадок почти в той же степени, что и математика.
Харди был близким другом Бертрана Рассела и разделял его пацифистские убеждения во время Первой мировой войны. Он был верным защитником идеалов единства и общности математического братства. Видя обстановку, которая сложилась в Кембридже во время Первой мировой войны, он решил сменить университет и в 1919 году принял приглашение занять место преподавателя в Оксфорде. Спустя двенадцать лет Харди вернулся в Кембридж. Он по-прежнему хотел находиться в центре английской математики, который в то время располагался в Кембридже, а кроме того, здесь ему было гарантировано жилье и после выхода в отставку. Харди всегда жил один, в последние годы за ним ухаживала сестра Гертруда, которой он в детстве по неосторожности выбил глаз крикетной битой. Этот инцидент не испортил их прекрасные отношения, которые они сохраняли всю жизнь.
Харди был отличным собеседником, однако, возможно, за его кажущейся искренностью и непринужденностью скрывалось нечто большее. Кто-то сказал, что Харди был другом для очень многих, но близким другом – лишь для некоторых.
«Апостолы»
Харди входил в эксклюзивное общество «Апостолы» – тайное кембриджское братство, членами которого были выдающиеся интеллектуалы: Эдвард Морган Форстер, Джон Мейнард Кейнс, Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн, Литтон Стрейчи и другие члены образовавшейся позднее группы Блумсбери. Рассел писал об «апостолах» так: «Не существовало ни табу, ни ограничений, ничто не считалось скандальным, а на пути свободы мысли и дискуссии не возводилось никаких препятствий».

Справа – писатель Литтон Стрейчи, слева – художница Дора Каррингтон, в центре – ее муж Ральф Партридж. История отношений Стрейчи, Каррингтон и Партриджа была экранизирована в 1995 году.
Во время учебы в кембриджском Тринити-колледже Харди перестал верить в Бога. Он объявил декану о своем нежелании посещать часовню, что в Тринити-колледже было обязательным. На это декан ответил, что не будет возражать, если Харди оповестит о своем решении родителей. Декану было известно, что родители Харди очень религиозны и признание сына огорчит их. Понимал это и сам Харди. Однако, тщательно обдумав все за и против, он написал родителям письмо, которое действительно очень их огорчило. После этого случая Харди не только перестал верить в Бога, но и начал считать его своим личным врагом – эта идея ученого стала темой многих анекдотов. Так, Харди выходил из дома в солнечный день, одетый в плащ и с зонтиком под мышкой: он считал, что если Бог увидит его с зонтиком, то не станет портить вечер дождем.
* * *
ХАРДИ, БОГ И ГИПОТЕЗА РИМАНА
Самый «божественный» из анекдотов о вражде Харди с Богом связан с гипотезой Римана. Не будем объяснять, в чем заключается смысл этой гипотезы, лишь укажем, что ее доказательство позволит нам понять, как распределяются простые числа.
Выдвинутая немецким математиком Бернхардом Риманом (1826–1866) в 1859 году, эта гипотеза стала важнейшей задачей математики и одной из самых любопытных для Харди. Перед тем как сесть на корабль, отплывавший в Данию, Харди отправил открытку, в которой написал, что доказал гипотезу Римана. Благодаря математическому авторитету Харди, если бы он погиб при кораблекрушении, другие математики сочли бы, что он действительно решил важнейшую задачу математики, и лишь несчастный случай помешал ему опубликовать доказательство. Харди вознесся бы на математический олимп, присоединившись к Гауссу, Архимеду, Ньютону и Эйлеру.
Позднее Харди объяснил, что вся эта затея была мерой предосторожности: Бог, заклятый враг Харди, не допустил бы, чтобы тот попал на математический олимп, и успокоил буйные ветры Северного моря.
* * *
Сотрудничество с Рамануджаном
О моральных качествах Харди лучше всего свидетельствуют его взаимоотношения с индийским математиком Сринивасой Рамануджаном.
Рамануджан родился в 1887 году в деревне к югу от Мадраса, в бедной семье брахманов. Он не получил даже среднего образования, но не по финансовым причинам, а потому, что из всех дисциплин его интересовала только математика. Он еще мальчиком попал под очарование чисел и возвел прочное математическое здание буквально на пустом месте: Рамануджан размышлял, сидя в одиночестве у дверей своего дома, он записывал формулы на грифельной доске и стирал их локтем.
Когда о его теоремах и формулах стало известно, небольшое научное сообщество Мадраса не смогло определить, кто же был перед ним: гений или сумасшедший. Осознавая, что никто в ближайшем окружении не способен понять его формул, Рамануджан отправил рукописи в Кембридж – центр английской математики. Первое и второе его письмо остались без ответа: английские профессора не сочли нужным вникать в записи неизвестного клерка из мадрасского порта. А третье письмо попало в руки Харолда Харди.
Харди отнесся к письму Рамануджана серьезно и, подробно изучив его, сделал все возможное и невозможное для того, чтобы Рамануджан смог приехать в Кембридж. Он перебрался в Англию в 1914 году, почти одновременно с началом Первой мировой войны. Харди убедился, что Рамануджан был подобен неограненному алмазу: он обладал сверхъестественной интуицией во всем, что касалось чисел и формул, однако не владел базовыми понятиями и методами. Однако произошло невозможное: Рамануджан, который изучил математику самостоятельно, смог плодотворно и на равных сотрудничать с Харди, воспитанным британской системой образования.
Рамануджан провел в Англии почти пять лет, то есть всю Первую мировую войну, последние два года он обитал в различных санаториях из-за своей болезни: одиночество, влажный климат и скудная вегетарианская диета привели к тому, что он заболел, и никто из врачей не смог поставить ему правильный диагноз.
Рамануджан вернулся в Индию в 1919 году – чтобы умереть. Он покинул родину цветущим и полным сил, а вернулся, съедаемый болезнью и овеянный славой: он был избран членом Лондонского королевского общества, став самым молодым ученым, удостоенным этой чести за многовековую историю общества, а также первым индийцем – членом Тринити-колледжа. Вскоре после его возвращения мадрасская газета «Таймс» посвятила ему статью, где были такие строки: «Как сказал некто из Кембриджа, со времен Ньютона не было никого, подобного Рамануджану, – не следует и говорить, что это высшая похвала». Математик умер в апреле 1920 года в возрасте 32 лет.

Индийская марка, выпущенная в честь математика Сринивасы Рамануджана – великого открытия Харди.
Харди как-то признался: «Мой союз с Рамануджаном был единственным романтическим событием в моей жизни. Ему я обязан больше, чем кому-то еще в целом мире, за единственным исключением». Харди всегда гордился тем, что работал с Рамануджаном. В «Апологии математика» он писал: «Когда я бываю в плохом настроении и вынужден выслушивать людей напыщенных и скучных, я говорю про себя: „А все-таки мне выпало пережить нечто такое, о чем вы даже не подозреваете: мне довелось сотрудничать с Литлвудом и Рамануджаном почти на равных“». Это сотрудничество началось в конце января 1913 года, когда с утренней почтой он получил письмо из Мадраса. «Вне сомнений, это было самое удивительное письмо, которое я когда-либо получал», – позднее признавался Харди.
Харди жил исключительно математикой и ради математики и был ведущим английским математиком с 1910-х годов и до начала Второй мировой войны. Для него математика была сродни соревнованию: он стремился стать первым, кто решил ту или иную сложную задачу. Харди был автором свыше 300 статей и И книг, и его научное творчество охватывало почти все разделы анализа и теории чисел.
Искусство и математика: целесообразность без цели?
Занятия математикой для Харди имели преимущественно эстетический характер. Как он писал в «Апологии математика», «красота служит первым критерием: в мире нет места безобразной математике».
Харди считал, что красота – единственное, что наделяло математику ценностью, а его жизнь – смыслом: «По любым практическим меркам ценность моей математической жизни равна нулю, а вне математики она, так или иначе, тривиальна. У меня есть лишь один шанс избежать вердикта полной тривиальности – если будет признано, что я создал нечто такое, что заслуживает быть созданным. […] Смысл моей жизни или жизни кого-нибудь еще, кто был математиком в том же смысле, в каком был математиком я, заключается в следующем: я внес нечто свое в сокровищницу знания и помог другим сделать то же, и это „нечто" обладало ценностью, которая отличалась только величиной, но никак не сущностью, от творений великих математиков или любых других художников, больших и малых, которые оставили после себя нерукотворные памятники»[10]10
Здесь и далее перевод Ю. А. Данилова. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Упорство, с которым Харди настаивал на бесполезности «истинной» математики, часто считается еще одним проявлением его экстравагантного характера. Его провокационные строки: «Настоящая математика не оказывает влияния на войну. Никому еще не удалось обнаружить ни одну военную или имеющую отношение к войне задачу, которой служила бы теория чисел или теория относительности, и маловероятно, что кому-нибудь удастся обнаружить нечто подобное, на сколько бы лет мы ни заглядывали в будущее», – были написаны почти в то же самое время, когда в США начинался проект «Манхэттен», имевший целью создание атомной бомбы. Ирония судьбы: в энциклопедии «Британника» в статье о Харди самому математику уделено меньше места, чем закону Харди – Вайнберга. В энциклопедии отмечается: «Харди не считал этот закон особенно ценным, однако он имеет определяющее значение при решении множества задач генетики, в том числе задачи о распределении Rh в зависимости от группы крови и гемолитических болезней».
Однако для меня беззастенчивые похвалы бесполезности математики были не просто проявлением сумасбродства Харди: он в своей манере заявлял, что в вопросах эстетики был последователем Канта.
Эстетическое удовольствие, по-видимому, имеет иную природу, нежели другие удовольствия, теснее связанные с нашим животным происхождением. Так, удовольствие, которое чувствовал доисторический человек, видя разукрашенную глиняную чашку, не могло сравниться с удовольствием, которое он чувствовал, когда утолял голод или жажду из этой чашки. Аналогично, сексуальное удовольствие и тяга к удобствам также отличаются от удовольствия, которое мы испытываем, когда слушаем Второй фортепианный концерт Рахманинова. Согласно Канту, разница между эстетическим удовольствием и другими происходит от того, что последние возникают при удовлетворении какой-либо необходимости, следовательно, мы заинтересованы в них; удовольствие, вызванное восприятием художественного произведения, напротив, не подразумевает никакой полезности. Человек, утверждал Кант, единственное животное, способное к эстетическим суждениям: «Вкус есть способность судить о предмете или о способе представления на основании удовольствия или неудовольствия, свободного от всякого интереса». Именно эта «свобода от всякого интереса» – важнейшая характеристика любого произведения искусства: искусство, как писал Кант в «Критике способности суждения», есть «целесообразность без цели».
Поэтому Харди восхвалял бесполезность математики не из экстравагантности – следуя теории Канта об эстетике, он отстаивал точку зрения, согласно которой математика – больше искусство, чем наука.
Это доказательство эстетической ценности математики, а следовательно, ее бесполезности, повсеместно присутствует в «Апологии математика». Так как далее именно на примере этого эссе мы проясним, какие свойства математических идей наделяют их эстетической ценностью, в завершение этого раздела мы приведем несколько слов о том, что переживал Харди, когда работал над этим произведением.

Обложка английского издания «Апологии математика».
Страсть Харди к математике в итоге поглотила его. В конце жизни, когда у него уже не было сил заниматься математикой, он чувствовал себя угнетенным и попытался покончить жизнь самоубийством. Именно на этом последнем этапе своей жизни, прожив шесть десятилетий, он создал «Апологию математика», полную горечи, которую он чувствовал. «"Апология математика", если читать ее с тем вниманием к тексту, которое она заслуживает, – писал в предисловии Чарльз Сноу, – книга, пронизанная неизбывной печалью. Да, она блещет остроумием и игрой ума, да, ее все еще отличает кристальная ясность и искренность, да, это завещание художника-творца.
И вместе с тем „Апология математика" – это стоически сдержанный сокрушенный плач по творческим силам, которые некогда были и никогда не вернутся снова».
Сам Харди подтверждает это в первых строках своего эссе: «Писать о математике – печальное занятие для профессионального математика. Математик должен делать что-то значимое, доказывать новые теоремы, чтобы увеличивать математические знания, а не рассказывать о том, что сделал он сам или другие математики.
Государственные деятели презирают пишущих о политике, художники презирают пишущих об искусстве. Врачи, физики или математики обычно испытывают аналогичные чувства. Нет презрения более глубокого или в целом более обоснованного, чем то, которое люди создающие испытывают по отношению к людям объясняющим. Изложение чужих результатов, критика, оценка – работа для умов второго сорта». Он продолжает: «Но если я теперь сижу и пишу о математике, а не занимаюсь собственно математикой, то это – признание в собственной слабости, за которую молодые и более сильные математики с полным основанием могут презирать или жалеть меня. Я пишу о математике потому, что, подобно любому другому математику после шестидесяти, я не обладаю более свежестью ума, энергией и терпением, чтобы успешно выполнять свою непосредственную работу».
Общность и глубина
Цель этого раздела – описать свойства математики, которые наделяют ее эстетической ценностью. Во-первых, напомним, что математик создает образы из идей. Харди писал в «Апологии математика»: «Создаваемые математиком образы, подобно образам художника или поэта, должны обладать красотой; подобно краскам или словам, идеи должны сочетаться гармонически».
Таким образом, чтобы достичь поставленной цели, мы должны определить, какие основные свойства наделяют математические идеи эстетической ценностью. Начнем с того, что выделим два основных аспекта, внутренне присущих математическим идеям и способных перевести их в эстетическое измерение. Эти аспекты – общность и глубина.
Пример из Эйлера как отправная точка
Проиллюстрируем рассуждения Харди об этих свойствах математических идей на не слишком сложном примере, чтобы читатель, не обладающий обширными знаниями математики, мог понять его. При этом наш пример достаточно сложен, чтобы адекватно проиллюстрировать все рассуждения Харди об эстетической ценности математических идей и связать их с философскими рассуждениями об эстетике, принадлежащими другим авторам. Выбранный нами пример показывает, как Эйлер вычислил сумму чисел, обратных квадратам натуральных чисел, в своей книге «Введение в анализ бесконечно малых» (Introductio in analysin infinitorum). Эйлер вычислил следующую сумму:

Заметьте, что знаменатели этих дробей – квадраты натуральных чисел, а многоточие означает, что число слагаемых бесконечно велико. Математики называют сумму бесконечного числа слагаемых рядом. Сумма ряда – это число, к которому мы приближаемся по мере увеличения числа слагаемых так, что разность между этим числом и суммой слагаемых уменьшается с увеличением их количества.
Представленный выше бесконечный ряд содержит некоторый контекст, о котором будет полезно рассказать.
История этого ряда такова. В марте 1672 года юный Лейбниц, которому было двадцать с небольшим, прибыл в Париж. Он хотел улучшить свое математическое образование и углубить знания, которые на тот момент были весьма скудными. Спустя несколько месяцев Лейбниц придумал хитроумный метод вычисления сумм бесконечных рядов. Его метод заключался в записи слагаемых в виде разности с последовательным сокращением членов. Ввиду врожденного оптимизма и недостатка математических знаний Лейбниц посчитал, что открытый им способ позволяет найти сумму произвольного ряда. Не будем забывать, что, по мнению Лейбница, мы жили в лучшем из миров, причем он произнес эти слова вскоре после окончания Тридцатилетней войны.

Слева – портрет Лейбница работы Иоганна Фридриха Вентцеля, около 1700 года. Справа – портрет Гюйгенса, выполненный Каспаром Нечером в 1671 году.
Оптимизм Лейбница по отношению к его методу вычисления сумм рядов только усилился, когда он узнал об открытии Христиана Гюйгенса, одного из авторитетнейших ученых. Гюйгенс родился в Голландии и к описываемому моменту уже несколько лет работал в Парижской академии наук. Чтобы проверить метод Лейбница, Гюйгенс предложил ему найти сумму ряда чисел, обратных треугольным. Треугольные числа имеют вид n·(n + 1)/2. Своим названием они обязаны пифагорейцам и их геометрическому толкованию чисел: треугольное число – это число кружков, которые можно расставить в форме равностороннего треугольника. Таким образом, Лейбницу требовалось вычислить сумму ряда: 1 + 1/3 + 1/6 + 1/10 + 1/13 + 1/21 + 1/28 + …
По случайному совпадению этот ряд – один из немногих, для которых способ, открытый Лейбницем, позволяет найти верное значение суммы (см. врезку):
1 + 1/3 + 1/6 + 1/10 + 1/13 + 1/21 + 1/28 + … = 2.
В 1673 году Лейбниц посетил Лондон, где запомнился как наивный оптимист и дилетант. С математической точки зрения его поведение не раз сослужило ему плохую службу – англичане припомнили некоторые эпизоды сорок лет спустя, в разгар дискуссии с Ньютоном об авторстве анализа бесконечно малых.
По возвращении в Париж Лейбниц получил письмо от Джона Коллинза, который предложил ему найти сумму чисел, обратных квадратам натуральных чисел:
1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + 1/25 + 1/36 + 1/49 + …
Коллинза нельзя было назвать великим математиком, он был скорее посредником между британскими математиками и учеными континента. Он не обладал достаточными способностями, чтобы понять истинную сложность задачи, поэтому весьма вероятно, что это предложение было выдвинуто более авторитетными математиками, к примеру Джеймсом Грегори или самим Исааком Ньютоном. Как бы то ни было, тот, кто со злым умыслом предложил Лейбницу эту задачу, мог сказать ему, что вычислить искомую сумму вряд ли будет слишком сложно, так как искомые слагаемые были почти равны членам ряда, сумму которого Лейбницу удалось найти: в одном случае слагаемые имели вид 2/(n·(n + 1)), в другом – 1/(n·n).
* * *
ВЫЧИТАЙ, КОГДА ХОЧЕШЬ СЛОЖИТЬ
Как мы уже говорили, метод Лейбница заключался в том, что при вычислении суммы ряда каждый член записывался в виде разности так, что искомую сумму было нетрудно вычислить путем последовательного сокращения членов. Именно так сокращаются числа, обратные треугольным числам. В самом деле, число, обратное треугольному числу 2/(n·(n + 1)), – это разность 2/n и 2/(n + 1):

Приняв n = 1, 2, 3, 4…, получим: 1 = 2 – 1; 1/3 = 1 – 2/3; 1/6 = 2/3 – 2/4; 1/10 = 2/4 – 2/5; 1/15 = 2/5 – 2/6; 1/21 = 2/6 – 2/7 и так далее. Сложив указанные дроби, заметим, что вычитаемое в каждой разности и уменьшаемое в следующей разности сокращаются и в конце концов остается лишь уменьшаемое первой разности: 1 + 1/3 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + … = 2.
* * *
Однако найти сумму ряда не удалось ни Лейбницу, ни его ученикам, братьям Иоганну и Якобу Бернулли. Не сохранилось документальных свидетельств того, что этой задачей занимались Грегори или Ньютон, однако это не означает, что они обошли ее своим вниманием – возможно, их, как и других математиков, постигла неудача.
Прошло почти полвека, прежде чем Леонарду Эйлеру удалось найти сумму этого ряда. Идея, которую использовал Эйлер для сложения чисел, обратных квадратам натуральных, очень проста. Отправная точка его рассуждений такова: рассмотрим произведение вида (1 – 2z2)·(1 – 5z2)·(1 – 6z2), раскроем скобки и приведем подобные слагаемые:
(1 – 2z2)·(1 – 5z2)·(1 – 6z2) = 1 – 13z2 + 52z4 – 60z6.
* * *
ЛЕОНАРД ЭЙЛЕР (1707–1783)
Эйлер был одним из величайших математиков всех времен и, вне всяких сомнений, лучшим в XVIII веке. Он родился в 1707 году в Базеле, окончил местный университет, брал частные уроки у Иоганна Бернулли – одного из учеников Лейбница.
В 1727 году он переехал в Санкт-Петербург, с 1731 по 1741 год был членом Петербургской академии наук, затем работал в Пруссии и был избран членом Берлинской академии наук. Несмотря на непростые отношения с прусским королем Фридрихом II, Эйлер прожил в Берлине 25 лет и в итоге возглавил академию наук. По словам Фридриха II, усилиями которого Берлин стал одним из культурных центров Европы, Эйлеру недоставало блеска, таланта и элегантности. Эйлер был простым человеком, лишенным качеств, необходимых для «салонной жизни», которую так любил король. В одном из писем к Вольтеру Фридрих II назвал Эйлера «огромным циклопом геометрии» – злая шутка о математике, который в 1738 году ослеп на один глаз. После Берлина Эйлер вновь вернулся в Санкт-Петербургскую академию наук и умер в Санкт-Петербурге в 1783 году.
О влиянии Эйлера на математику последующих эпох лучше всего скажет классическая фраза Лапласа: «Читайте, читайте Эйлера – он учитель всех нас!». Или процитируем Гаусса: «Изучение трудов Эйлера остается лучшей школой в различных областях математики и не может быть заменено ничем другим».

* * *
Нетрудно видеть, что число, которое умножается на z2 в полученном выражении, равно сумме чисел, на которые умножается z2 в левой части равенства. Также нетрудно показать, что это соотношение верно для любого числа сомножителей в этом произведении. Эйлер понял: все, что верно для конечных произведений и сумм, верно и для бесконечных. Иными словами, если мы запишем:
(1 – az2)·(1 – bz2)·(1 – cz2)·… = 1 – Az2 + Bz4 – Cz6 +…,
то A = а + Ь + с + …
Далее Эйлер ввел в игру функцию синуса. Синус и косинус – две основные тригонометрические функции. Они определяются очень просто. Изобразим угол х на координатной плоскости следующим образом: одной из сторон угла будет горизонтальная ось, вторая сторона угла будет иметь длину, равную 1. Синус определяется как длина проекции этой стороны угла на вертикальную ось, косинус – как длина проекции этой стороны на горизонтальную ось, что показано на следующем рисунке.

Эйлер последовательно рассмотрел два разложения функции синуса в ряд. Один из этих бесконечных рядов открыл сам Эйлер:

где знаменатели дробей – квадраты натуральных чисел, умноженные на квадрат числа 71. Второе разложение синуса в бесконечный ряд открыл Ньютон:

Здесь знаменатели представляют собой факториалы последовательных чисел. Напомним, что факториал произвольного числа n определяется как произведение всех чисел, меньших n: n·(n – 1)·(n – 2)· … ·3·2·1. Следовательно, знаменатели в представленной выше формуле равны факториалам показателя степени z плюс 1.
Иными словами, если показатель степени z равен 2, то знаменатель будет факториалом 3: 3·2·1 = 6; если показатель степени z равен 4, то знаменатель будет равен факториалу 5: 5·4·3·2·1 = 120, и так далее.
Так как оба этих ряда представляют собой разложение одной и той же функции синуса, они должны быть равны, в частности:

Согласно изложенному в предыдущем абзаце, получим:

или, что аналогично:

Таким образом, суммой чисел, обратных квадратам натуральных чисел, будет квадрат числа π, разделенный на 6.
Размышления Харди применительно к практике
Теперь вернемся к рассуждениям Харди о двух основных свойствах, которые наделяют математическую идею эстетической ценностью. Харди писал: «Два качества играют существенную роль: общность и глубина идеи, но ни одно из них не поддается определению легко и просто».
Говоря об общности математической идеи, Харди уточнял: «Значительная математическая идея, серьезная математическая теорема должна обладать "общностью" в каком-то следующем смысле. Идея должна быть составляющей частью многих математических конструкций, используемых в доказательствах многих теорем различного рода. Теорема должна быть такой, что даже если первоначально она сформулирована в весьма частном виде (как теорема Пифагора), она должна допускать существенное обобщение и быть типичной для целого класса теорем аналогичного рода. Отношения, выявляемые в ходе ее доказательства, должны связывать многие различные математические идеи». Чтобы у читателя не осталось никаких сомнений относительно того, насколько сложно точно определить «общность», Харди писал: «Всё это очень смутно и требует многочисленных уточнений».
Рассмотрим пример, приведенный Эйлером: обладает ли ряд Эйлера общностью в том смысле, в каком трактовал это свойство Харди? Да, этот ряд действительно обладает общностью, причем в нескольких значениях.
Основная идея Эйлера заключалась в том, чтобы использовать для вычисления некоторых бесконечных сумм два представления одной и той же функции: одно в виде произведения, другое – в форме ряда. В представленном выше случае Эйлер с помощью функции синуса нашел сумму чисел, обратных квадратам натуральных чисел. Применив другие функции, Эйлер во «Введении в анализ бесконечно малых» с помощью аналогичного метода вычислил множество сумм бесконечных рядов, в частности:

В этой сумме с противоположными знаками записаны числа, обратные кубам нечетных чисел, за исключением кратных 3.
Однако общность идеи Эйлера не ограничивается одной лишь заменой функции синуса на другие. В его методе рассматривается выражение

Число, на которое последовательно умножается z2, связывается с суммой чисел, на которые умножается z2 в левой части равенства. В слегка видоизмененном виде идея Эйлера становится еще более плодотворной. Достаточно обратить внимание на числа, которые умножаются на остальные степени переменной в правой части равенства и выразить их через коэффициенты при z2 в левой части равенства (см. врезку на следующей странице). Применив эту идею, Эйлер вычислил не только сумму чисел, обратных квадратам натуральных чисел, но и чисел, обратных четвертым, шестым и восьмым степеням:

Ему удалось дойти до 26-й степени:

Надеемся, что читатель смог оценить всю общность рассуждений Эйлера и, как следствие, лучше понять, что хотел сказать Харди, когда писал об общности математической идеи: именно общностью, помимо гениальности, отличается рассмотренная идея Эйлера.
Согласно Харди, другое неотъемлемое свойство, наделяющее математическую идею эстетической ценностью, – это глубина. «Второе свойство, которое я потребовал от значительной идеи, – ее глубина. Определить его еще труднее. Оно каким-то образом связано с трудностью; "более глубокие" идеи обычно труднее постичь, но вместе с тем это не одно и то же. Создается впечатление, что математические идеи "стратифицированы", то есть расположены как бы слоями, идеи в каждом слое связаны целым комплексом отношений между собой и с идеями, лежащими в верхних и нижних слоях. Чем ниже слой, тем глубже (и, как правило, труднее) идея».








