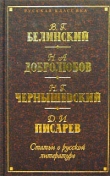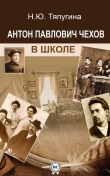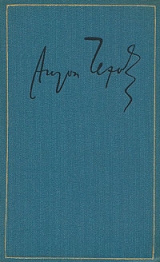
Текст книги "Том 10. Рассказы, повести 1898-1903"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
Либерально-буржуазная критика самых различных оттенков выступила с многочисленными, в большинстве своем хвалебными отзывами о повести, как правило, разделяя привычное в ту пору представление о Чехове-пессимисте, рисующем правдиво, но без определенной общественной направленности мрак, ужасы и бестолковщину русской жизни.
Так, И. Игнатов («Новости литературы и журналистики». – «Русские ведомости», 1900, № 42, 11 февраля) видел основное свойство чеховского таланта в «способности подавлять унылым настроением», связанным с «идеей, которая проходит красной нитью через многие его произведения», и заключается в «констатировании бессмысленности человеческих действий, ведущих к несчастиям, несправедливостям, страданию…».
Констатацию бессмысленности жизни и только одни «безотрадно-мрачные краски» увидел в повести и А. М. Скабичевский («Текущая литература». – «Сын отечества», 1900, № 49, 18 февраля). В целом положительно отозвавшись о ней, критик писал, что в последней повести Чехова «тоскующие ноты доходят до крайнего кресчендо». Для Скабичевского повесть – некая иллюстрация к народническим представлениям о самобытности исторического пути России и регрессивном характере искусственно насаждаемого в ней капитализма: Чехов, отразив «отвратительный процесс» «несчастной <…> ужасной жизни» фабричного села, рисовал «порядки», «совершенно своеобразные, чисто российские, очень мало подходящие к тому капиталистическому строю, о котором у нас ныне столь многие мечтают».
А. А. Измайлов («Литературное обозрение». – «Биржевые ведомости», 1900, № 77, 19 марта), вспоминая «Мужиков», говорил о Чехове: «… автор обратился почти к той же задаче, – изображению мрачного существования русской деревни и ее обывателя…» В повести «В овраге» рецензент находил «подробности, начертанные рукою настоящего, самобытного мастера», но упрекал Чехова за то, что он «игнорировал требование единства, не заботился о фабуле <…>, занятый исключительно заботою о воспроизведении реальной правды жизни и своего настроения…» Не поняв повести в ее идейно-художественной цельности, критик утверждал, что в ней «ярко сказывается мировоззрение художника, почти растерянно смотрящего на темное, тусклое и беспросветное существование своих героев…».
Р. И. Сементковский («Что нового в литературе?» – «Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“ на 1900 г.», 1900, № 3), передав суть событий, развернувшихся в доме Цыбукиных, писал: «В характеристике этой семьи и заключается сила повести г. Чехова <…> Почти единственная светлая личность в этой коллекции нравственных уродов <…> это – Липа. В ней нравственные понятия очень сильны, но в жизни она сама совершенно бессильна». Крестьянская «среда, которая дает старику Григорию возможность богатеть на ее счет», «всё терпеливо сносит, а нравственные понятия ее чрезвычайно сбивчивы и неясны». «Чем-то безотрадным, беспросветным веет от повести г. Чехова» (стлб. 630–631).
Некоторые критики использовали повесть лишь как исходный материал для построения собственной концепции действительности и программы действий. Так поступил Н. Каспийский в своей скорее социологической, чем литературно-критической статье «Журнальное обозрение» («Образование», 1900, № 3). Оперируя внеклассовыми понятиями о разнородных «ячейках» общества и выделяемой ими «мыслящей социальной субстанции» – интеллигенции, автор в основном и вел речь о ее ответственности перед народной массой – «низменной, страдающей и чувствующей субстанцией». Повесть «В овраге», отнесенная к числу произведений, «окрашенных в самые мрачные, безнадежные тона», была им сближена в изображении бедствий русской деревни с романом Толстого «Воскресение» (стр. 85, 86, 94).
П. О. Морозов ( Северов. Русская литература. – «Новости и биржевая газета», 1900, № 82, 23 марта) не находил в повести личного отношения автора к описываемому. Чехов в его представлении не реалист, а скорее натуралист-эмпирик, художественная система которого будто бы и не предполагает выражения авторской обобщающей мысли и ничем не предопределяет читательских выводов.
Многие рецензенты сходились на том, что дарование Чехова направлено лишь на фиксацию мрачных сторон действительности. Именно это подчеркивалось, например, в обзоре периодических изданий, данном без подписи в «Русской мысли» (1900, № 4, стр. 145–148). В ряду подобных оценок прозвучал и отзыв И. И. Ясинского (М. Белинский. Литературное обозрение. – «В овраге». – «Ежемесячные сочинения», 1900, № 2 и 3, апрель): «На вид простая и тусклая жизнь изображена <…> в страшных красках <…> Прекрасного нет в этой жизни» (стр. 233).
Д. П. Шестаков («„В овраге“ А. П. Чехова». – Литературное приложение к «Торгово-промышленной газете», 1900, № 17, 23 апреля) тоже считал, что «деревня Чехова – мрачная, больная деревня». Ему, правда, казалось, что писатель намекает в повести на возможность какой-то иной жизни, но это лишь «призрак <…> недостижимого счастья».
О том, что повесть «В овраге» существенно поколебала долго бытовавшее представление о Чехове как художнике, не способном к созданию обобщенных картин действительности, убедительнее всего свидетельствует отзыв Н. К. Михайловского («Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове». – «Русское богатство», 1900, № 4). Прослеживая эволюцию писателя, вдумываясь в его произведения последних лет, Михайловский отмечал, что отношение Чехова к действительности расширилось и усложнилось – он «вырос почти до неузнаваемости». «За рассказами „О любви“, „Крыжовник“, „Человек в футляре“, „Случай из практики“ он дал широко задуманный и превосходно выполненный рассказ „В овраге“, И это новый шаг вперед» (стр. 135, 140).
В ряде работ, трактовавших новое произведение, продолжала развиваться легенда о Чехове-пессимисте, обогащенная лишь новыми вариациями («„В овраге“ Повесть Антона Чехова». – «Русский вестник», 1900, № 4, стр. 614–617; И. И. П-ский. Трагедия чувства. Критический этюд (по поводу последних произведений Чехова). СПб., 1900).
Некоторые поправки в общее представление о Чехове-пессимисте вносил М. К. Лемке ( Lemus. Из дневника публициста. Наш народ у Чехова. – «Орловский вестник», 1900, № 179, 193, 199 и 206 от 7, 21, 28 июля и 4 августа): это «пессимизм не обычный, разрушающий, расслабляющий, а созидающий, стимулирующий. Прочтя любое из произведений Чехова, вы не выносите впечатления безнадежности и как бы поощрения всякой пассивности, а наоборот, самая тяжесть и неотвратимость нарисованных бед стимулируют вас на активное вмешательство в жизнь, на желание делать и работать больше, чем вы делали до тех пор» (№ 179).
Ведущий представитель психологической школы в критике Д. Н. Овсянико-Куликовский («Литературные беседы». – «Северный курьер», 1900, № 180 и 181, 4 и 5 мая) назвал повесть «явлением <…> замечательным», ибо в сравнении с предшествующей литературой она внесла «свой вклад в изучение психологии» возникавшей в России «самобытной „буржуазии“» – «заводчиков и торговцев из мещан и крестьян». Считая, что Чехов «мастерски» выписал «потрясающую картину зла и греха», автор статьи изучал по ней и классифицировал психологические типы. Он находил, что «деятели зла» в новом «темном царстве» поступают «непроизвольно», «не ведают, что творят», а «натурам добрым» свойственно «фаталистическое непротивление злу». Оттого удушливый овраг вызывал у критика «унылое чувство безысходности». Он не был удовлетворен тем, что на возможность иной жизни России Чехов указал лишь «мимоходом», «намеком или символом», присутствие которого было сочтено недостатком произведения, в целом «замечательнейшего».
Этот разбор вызвал решительное несогласие М. С. Ольминского ( Степаныч. Об Овсянико-Куликовском и А. Чехове. – «Восточное обозрение», 1900, № 216, 218 и 219, 29 сентября, 1 и 3 октября). Его статья – один из первых отзывов марксистской критики о Чехове. Несколько ранее в той же газете (1900, № 106, 14 мая), в «Журнальном обозрении», за подписью М. Павлович, Ольминский уже дал краткую оценку повести «В овраге», в целом положительную. Вторая статья содержала развернутый анализ произведения. В полемике Ольминский раскрыл неверность ряда суждений Овсянико-Куликовского, однако сам не смог по достоинству оценить повесть. Он не увидел в ней типов, дотоле неизвестных в литературе. «Нет ничего нового» и «в картине нарисованного Чеховым зла». В повести «зло очевидно», но «причины зла» неясны. Она написана так, что «будит мысль», но не «предопределяет тот ряд представлений, который будет вызван в уме читателя», позволяя последнему сделать из нее разнообразные выводы в зависимости от своего мировоззрения. Критик-марксист хотел бы у Чехова – писателя «талантливого», – видеть «идеалы определенного содержания». Не обнаружив их в повести, Ольминский счел необоснованными восторги, вызванные ее появлением.
При подведении итогов литературного года критика высоко оценивала повесть. «Самым видным» произведением назвал ее А. И. Богданович (А. Б. Критические заметки. – «Мир божий», 1901, № 1, стр. 2). В. Гольцев («Русская литература в 1900 г.». – «Курьер», 1901, № 1) отмечал, что повесть оказалась в числе двух произведений (рядом он ставил «Трое» Горького), пользовавшихся «особенным вниманием читателей». В годовом редакционном обзоре «Литература в 1900 году» газета «Русские ведомости» (1900, № 1, 1 января) тоже указала, что «особенно обратили на себя внимание произведения гг. Чехова и Горького».
Е. А. Соловьев ( Андреевич. Очерки текущей литературы. О хищниках и одиноких людях. – «Жизнь», 1901, № 2) свойствами общественной ситуации объяснил возникновение в литературе вообще и в творчестве Чехова в особенности – двух тем. Они были обозначены в подзаголовке статьи. Примечательной чертой развития литературы Андреевич считал всё большее усиление «мотива одиночества среди миллионов». «В мутном тумане серенькой жизни <…> стал уже орудовать хищник», обездоливший массу людей и превративший всё вокруг в «голое место». «…Это-то „разорение“ и есть та социологическая почва, на которой Чехов рисует свои жизненные драмы». Андреевичу, несмотря на ошибочность ряда суждений о Чехове, удалось раскрыть социально-обличительный смысл повести (стр. 354, 355, 356).
Иная концепция повести выражена в работе Волжского (А. С. Глинки) «Очерки о Чехове» (СПб., 1903). Доказывая, что идеал Чехова «безнадежно и навсегда разобщен с миром», критик заявлял: «Чехов изображает деревенскую жизнь в <…> повести, по своему основному колориту очень напоминающей „Мужиков“, почти с тем же холодным бесстрастием». «Художнику при свете его недосягаемо высокого нравственного идеала страшна вообще жизнь человеческая во всех ее проявлениях, страшна и мужичья жизнь». Его герои – Липа, Анисим, Аксинья полны «бессознательного равнодушия <…> примирения с миром», «наивно полагая, что иначе и быть не может». Чехов же, утверждая свою «общую идею» – «власть действительности» над людьми, бесстрастно холоден к ним (стр. 27, 161, 160, 79, 77).
В. Альбов («Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова». – «Мир божий», 1903, № 1) писал: «В последние годы в творчестве г. Чехова намечается новый и очень важный перелом. Временами прорывается еще прежнее настроение, но нет уж и следа прежнего уныния, подавленности, отчаяния. Напротив, всё сильнее слышится что-то новое, бодрое, жизнерадостное, глубоко волнующее читателя и порой необыкновенно смелое». Выше всего в этом отношении критик ставил «В овраге» (стр. 103).
Близок к такому пониманию повести и И. Джонсон (И. В. Иванов) («В поисках за правдой и смыслом жизни. (А. П. Чехов)». – «Образование», 1903, № 12). Он отмечал: Чехов приходит «к вере, что жизнь на самом деле <…> будет перестроена по идеалам разума и правды. И эта вера стала, по-видимому, настолько укрепляться в душе Чехова, что <…> даже созерцание <…> картин неразумия и неправды <…> не подрывало ее» (стр. 30–31).
И. И. Замотин же («Предрассветные тени. К характеристике общественных мотивов в произведениях А. П. Чехова». Казань, 1904) новые мотивы находил лишь в пьесах Чехова, а «В овраге» причислял к произведениям, рисовавшим «теневые картины» (стр. 15).
Е. А. Ляцкий («А. П. Чехов и его рассказы. Этюд». – «Вестник Европы», 1904, № 1) оценил мастерство бытописания в повести, но утверждал, что писатель «почти не коснулся тех мучительных вопросов общественной совести, которыми болели его могучие духом предшественники». Творчество Чехова – лишь «фокус, вобравший в себя косые лучи разочарования, сомнения, утомления русской прогрессивной мысли». Оно не задержит долго внимания общества. «Чеховским» настроениям не устоять перед «порывом жизненных сил, окрыленных надеждой, озаренных бледными лучами занимающейся зори» (стр. 161–162).
А. В. Луначарский («О художнике вообще и некоторых художниках в частности». – «Русская мысль», 1903, № 2) во многом полемизировал с Чеховым, ожидая, «когда же покажет он <…> семена новой жизни» и «человека, который может прорвать тину и вынырнуть из омута на свежий воздух». Но вместе с тем, видя в творчестве писателя неподдельную правдивость изображения «тусклой жизни», «глубину понимания человеческой души, огромный кругозор от героев „Оврага“ до изящных „Трех сестер“», критик-марксист ставил Чехова в разряд первейших величин не только русской, но и европейской литературы (стр. 59, 58).
При жизни Чехова повесть переводилась на немецкий и французский языки.
Стр. 146… как свекор-батюшка в известной песне. – В распространенной народной песне:
Спится мне, младешенькой, дремлется,
Клонит мою головушку на подушечку;
Свекор-батюшка по сеничкам похаживает,
Сердитый по новым погуливает.
Стучит – гремит… и т. д. (см. «Русские народные песни, собр. П. В. Шейном». М., 1870, стр. 336–337).
Стр. 150. … женится скоро, на Красной Горке… – Послепасхальная неделя или первое воскресенье после пасхи. На Красную Горку устраивались свадьбы.
Стр. 160. … по случаю храмового праздника – Казанской божией матери. – Праздник этот отмечался дважды в году: 8 июля и 22 октября по старому стилю.
Стр. 169. … на Фоминой… – Неделя после пасхи.
НА СВЯТКАХ
Впервые – «Петербургская газета», 1900, № 1, 1 января, стр. 5. Подзаголовок: Рассказ Антона Чехова. Подпись: Антон Чехов.
Вошло во второе издание А. Ф. Маркса 1903 г. («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»), т. XII.
Печатается по тексту: Чехов, 2, т. XII, стр. 116–120.
23 ноября 1899 г. С. Н. Худеков, редактор-издатель «Петербургской газеты» (активное сотрудничество в ней Чехов прекратил в конце 1887 г.), в телеграмме просил у Чехова разрешения напечатать в рождественском номере его старый рассказ ( ГБЛ). Речь шла о рассказе «Художество» (см. т. IV Сочинений, стр. 506–507). 1 декабря Худеков обращался к Чехову с новой просьбой: «Конечно, несказанно одолжили бы, приславши новенький, свеженький рассказец для нашего рождественского номера» ( ГБЛ).
В ответ на это письмо Худекова, но только к новогоднему номеру Чехов прислал рассказ «На святках».
Время создания «На святках» – 20–25 декабря 1899 г. Вероятно, до 20 декабря, пока Чехов не закончил повесть «В овраге», он не начинал писать для «Петербургской газеты». 27 декабря рассказ был уже в редакции, что известно из письма Худекова: «Низко, пренизко кланяюсь Вам, дорогой Антон Павлович, за Вашу присылку. Благодаря Вам, на „нашей улице“ настоящий, светлый праздник. <…> рассказ будет помещен в новогоднем номере, который своевременно будет <…> доставлен» ( ГБЛ).
Но Чехов долго не мог получить новогоднего номера газеты, на что жаловался Худекову 19 января 1900 г. и объяснял: «Я, как Исав, получивший чечевицу, обязан всякий новый рассказ наклеивать и отсылать брату моему Иакову, живущему на Мал<ой> Морской, 22».
Газетный текст нужен был Чехову для набора в предполагавшемся томе X собрания сочинений. Но он переделывал его весной 1903 г., правя корректуру тома XII, 2-го издания (см. стр. 335). Текст тома XII принимается за основной.
Готовя «На святках» для собрания сочинений, Чехов снял подзаголовок, ввел определение «мордатый», чем сильнее подчеркнул грубость писца, добавил грамматические ошибки. В выражении страданий Ефимьи появились новые детали: «обливаясь слезами», когда целовала ребенка; «приходила в ужас», услышав шаги мужа. Снято Чеховым перечисление деревенских бедствий.
По предположению директора Музея-заповедника А. П. Чехова в Мелихове, Ю. К. Авдеева, собиравшего воспоминания местных жителей, в судьбе Ефимьи и ее характере воплотилась история горничной Чеховых Анюты Андриановой, выданной замуж против воли в 1896 г. и умершей в 1897 г. Ее портрет работы М. П. Чеховой экспонируется в музее.
Возможно, в рассказе отразились впечатления от ялтинской и таганрогской водолечебниц, которые Чехов посетил в 1899 г.
Работа трех водолечебных заведений в Ялте была одним из самых насущных вопросов, и их рекламные объявления помещались почти ежедневно в течение осени – зимы 1898–1899 гг. на первой странице «Крымского курьера». Чехов брал ванны в водолечебнице А. Рофе (здание сохранилось). 27 августа 1899 г., в день приезда писателя на зимний сезон в Ялту, в объявлении об этой водолечебнице говорилось: «Новое роскошное заведение. Морские и пресные ванны А. Рофе по Набережной, рядом с гор<одским> садом. Здание в мавританском стиле, вполне соответствует устройством иностранным курортам» (№ 192). Местные водолечебницы рекламировали те средства лечения, которые упоминаются в рассказе «На святках». Водолечебница врача Мизуча и К° Рофе по Аутской улице, в доме Рофе, предлагала «всевозможные души с переменной температурой и переменным давлением от 3 до 5 атмосфер: душ Шарко, паровой душ, шотландский и пр. Ванны водяные, паровые, суховоздушные, сидячие с душами, обливания, обтирания и укутывания. <…> Лечение массажем и электричеством». То же и в водолечебнице А. С. Гурьян (там же).
Летом 1899 г., с 13 по 17 июля, Чехов был в Таганроге и посещал там водолечебницу. Б. А. Тараховский вспоминал: «В этот приезд Антон Павлович <…> купался несколько раз в водолечебнице Н. Г. Диварис и Д. М. Гордон» ( Шиллер из Таганрога. Из воспоминаний об А. П. Чехове. (Разговоры и письма). – «Приазовский край», 1904, № 182, 11 июля). Водолечебница в Таганроге – ее популярность, расширение – была частой темой в письмах к Чехову его двоюродного брата Г. М. Чехова (письма от 4 октября 1897 г. и 12 августа 1901 г. – ГБЛ). В 1898 г. в связи с двухсотлетием Таганрог благоустраивался. «Таганрогский водопроводный и электрический вопрос, говорят, скоро выйдет из Петербурга в утвердительном смысле», – извещал Г. М. Чехов 5 мая 1899 г. Чехов отвечал ему 14 ноября 1899 г.: «Боюсь все-таки, что электричество не затмит Гордона и он долго еще будет лучшим показателем таганрогской культуры…»
Возможно, М. П. Чехов в рассказе «Анюта» (в основе его – история замужества А. Андриановой), изображая мужа героини, самоуверенного пошляка, неграмотного, в речи которого «ученые» слова приобретают юмористическое звучание, вспомнил Егора из рассказа брата («Слово», 1907, № 46, 12 января).
19 января 1900 г. М. О. Меньшиков сообщал Чехову: «Я, к сожалению, до сих пор не могу добиться журналов и прочитать последние Ваши рассказы. О двух – в „Пет<ербургской> газ<ете>“ и „Жизни“ – слышал отзывы, что они превосходны» ( ГБЛ).
И. А. Бунин причислял рассказ «На святках» к лучшим произведениям Чехова ( ЛН, т. 68, стр. 677).
Стр. 181. Святки– две недели после рождества (после 25 декабря ст. ст.).
Стр. 182. … в 5 томе Военых Постановлений. Солдат есть Имя обчшее…и стр. 267 (варианты)… св. зак. изд. 1859 года. – В «Своде законов Российской империи» законы о воинской повинности входят в том 4. Общее его название: «Свод уставов о повинностях». Том 4, кн. 1 – «Устав о воинской повинности». В нем нет слов, приводимых в рассказе. Наказаниям посвящена гл. XVII – «О взысканиях за нарушение законов о воинской повинности». Издания т. 4 «Свода законов» были в 1857 и 1897 гг.
Стр. 185. Душ Шарко… – Изобретение Ж. М. Шарко (1825–1893), известного французского невропатолога.
АРХИЕРЕЙ
Впервые – «Журнал для всех», 1902, № 4 (ценз. разр. 23 марта), стлб. 447–462. Подпись: Антон Чехов.
Вошло во второе издание А. Ф. Маркса («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»).
Печатается по тексту: Чехов, 2, т. XII, стр. 165–180.
Заметки в записной книжке Чехова, использованные в тексте рассказа «Архиерей», появились задолго до того, как окончательно сформировался замысел. Первая из таких заметок датируется 1892 годом, когда Чехов поселился в Мелихове: «У дьяконского сына собака называлась Синтаксис» ( Зап. кн.I, стр. 11). Эта заметка вновь переписана Чеховым, с изменением одного слова, в 1898 г. (там же, стр. 90). Весной 1897 г. может быть датирована следующая заметка: «Киприан: японцы – всё равно что черногорцы» (там же, стр. 72). Во время пребывания в Ницце зимой 1897/98 г. Чехов сделал запись: «Слепая нищая пела про любовь» (там же, стр. 81; затем эта запись в более развернутом виде повторена на стр. 110).
Новые записи, использованные в рассказе, сделаны в 1899 г.: «Мальчик, сын прачки, спрашивает на почте у чиновника: Вы получаете поденно или помесячно?» (там же, стр. 99); «– Катя, кто там внизу всё отворяет и затворяет дверь? Скрипит и стонет? – Я не слышу, дедушка. – Да вот сейчас кто-то прошел… Слышишь? – Да это у Вас в животе, дедушка!» (там же, стр. 105).
Все эти записи, очевидно, пока не были связаны с одним определенным сюжетом; они вошли затем отдельными деталями в текст «Архиерея».
На стр. 106 Первой записной книжки содержится запись основных сюжетных ситуаций рассказа: «Арх<иерей> плачет, как в детстве больной, когда его жалела мать; плакал просто от общей душевной прострации, толпа плакала. Он веровал, достиг всего, что было доступно ч<елове>ку в его положении, но всё же душа болела: не всё было ясно, чего-то еще недоставало и не хотелось умереть… Скоро назначили нового архиерея, старого забыли, никто уже не помнил, и только вдова дьяконица, когда выходила с другими женщинами на выгон за стадом, чтобы встретить свою корову, рассказывала, что у нее был сын архиерей – и ей не верили. Разговор архиерея с матерью про племянника: а Степан в б<ога> верует? Эконом собирается в Москву, св. синод разрешил продать старинные вещи, и это теперешнему архиерею не нравится». Эта заметка появилась между августом и декабрем 1899 г.
В 1899–1901 годах в ту же книжку было внесено еще несколько заметок, использованных затем в рассказе. Последняя запись, относящаяся к «Архиерею»: «Благочинный ставит священникам и всему причту отметки за поведение, а после всех даже их женам и детям» (стр. 120), – сделана после 7 декабря 1901 г.
Другие данные о времени возникновения замысла рассказа содержатся в мемуарной литературе.
С. Н. Щукин приводит в своих воспоминаниях эпизод, который, как он считает, послужил Чехову толчком для начала обдумывания рассказа и работы над ним: «Как-то, еще когда жил на даче Иловайской, А<нтон> П<авлови>ч вернулся из города очень оживленный. Случайно он увидал у фотографа карточку таврического епископа Михаила. Карточка произвела на него впечатление, он купил ее и теперь дома опять рассматривал и показывал ее <…> Преосвященный Михаил был еще не старый, но жестоко страдавший от чахотки человек. На карточке он был снят вместе со старушкой матерью <…> Лицо его очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным, страдальческим выражением. Он приник головой к старушке, ее лицо было тоже чрезвычайно своей тяжкой скорбью. Впечатление от карточки было сильное, глядя на них – мать и сына, – чувствуешь, как тяжело бывает человеческое горе, и хочется плакать <…> А<нтон> П<авлови>ч расспрашивал о преосвященном Михаиле, потом я ему посылал книжку преосвященного „Над евангелием“…» ( Чехов в воспоминаниях, стр. 465–466). Этот эпизод относится к началу 1899 г. Чехов познакомился со Щукиным в январе 1899 г. (на визитной карточке Щукина помета рукой Чехова «99, I». – ГБЛ), книгу епископа Михаила Щукин послал Чехову вместе с письмом от 24 апреля 1899 г. (там же).
Далее Щукин продолжает: «Мысль об архиерее, очевидно, стала занимать А<нтона> П<авлови>ча.
– Вот, – сказал он как-то, – прекрасная тема для рассказа. Архиерей служит утреню в великий четверг. Он болен. Церковь полна народом. Певчие поют. Архиерей читает евангелие страстей. Он проникается тем, что читает, душу охватывает жалость ко Христу, к людям, к самому себе. Он чувствует вдруг, что ему тяжело, что он может скоро умереть, что может умереть сейчас. И это его чувство – звуками ли голоса, общей ли напряженностью чувства, другими ли, невидными и непонятными путями – передается тем, кто с ним служит, потом молящимся, одному, другому, всем. Чувствуя приближение смерти, плачет архиерей, плачет и вся церковь.
И вся церковь вместе с ним проникается ощущением смерти, неотвратимой, уже идущей» (стр. 466).
Здесь следует отметить ошибочность утверждения М. П. Чехова о том, что «ассоциацией, благодаря которой появился на свет рассказ „Архиерей“», были свидания Чехова в Ялте с епископом Сергием – С. А. Петровым, давним знакомым семьи Чеховых ( Антон Чехов и его сюжеты, стр. 47). Архимандрит, а затем епископ Сергий переписывался с Чеховым в 1897–1900 и 1902–1904 годах, однако по крайней мере до весны 1904 г. не бывал в Ялте и не встречался с Чеховым. Но какую-то роль в начале работы над рассказом могло сыграть известие о возведении Сергия в архиерейский сан, о чем Чехов узнал в начале 1899 г. (см. его письмо к М. П. Чеховой от 16 января этого года).
Таким образом, 1899 год можно считать временем окончательного сформирования замысла рассказа «Архиерей» и начала работы над ним. Вначале у Чехова возник сюжет о плачущем во время службы архиерее, чувства которого передаются всем присутствующим в церкви; об этом замысле Чехов сообщил Щукину. В рассказе это стало темой вступительной сцены. Затем этот замысел был дополнен и развился в тот сюжет, который между августом и декабрем 1899 г. был записан на стр. 106 Первой записной книжки.
Осенью 1899 г. Чехов обещал дать какой-нибудь из своих новых рассказов в «Журнал для всех»; это выясняется из письма к Чехову издателя журнала В. С. Миролюбова от 24 октября 1899 г. ( ГБЛ). В письмах от 12 и 20 ноября Миролюбов настойчиво просил прислать рассказ к первым номерам журнала на 1900 год. 6 декабря 1899 г. Чехов ответил Миролюбову: «Я пришлю Вам рассказ „Архиерей“. В случае какого недоразумения, если он окажется нецензурным для вашего журнала, вышлю что-нибудь другое». Таким образом, и точное название рассказа определилось в 1899 году.
Однако в письмах Чехова и мемуарах о нем дважды встречается указание на давнее, более раннее происхождение замысла рассказа. Сообщая О. Л. Книппер 16 марта 1901 г. о том, что он пишет рассказ «Архиерей», Чехов добавил – «на сюжет, который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать». Щукин в своих воспоминаниях писал: «Когда чеховский „Архиерей“ появился в печати, Антон Павлович говорил, что это его старый, ранее написанный рассказ, который он теперь переделал» (стр. 465).
Считать, что «Архиерей» был написанранее 1899 года, нет никаких оснований. Говоря в 1902 году Щукину о том, что рассказ был написан ранее, а затем переделан, Чехов скорее всего имел в виду длительность работы над рассказом, растянувшейся почти на три года. Но истоки замысла восходят, очевидно, к концу 80-х годов – на это указывает названный самим Чеховым период «лет 15», в течение которого сюжет рассказа был у него в голове.
«Архиерей» во многом созвучен произведениям конца 80-х – начала 90-х годов. Современные исследования рассказа показывают, что «Архиерей» является своеобразным завершением многих тем и мотивов предшествующего творчества Чехова (см. П. Бицилли. Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа. – «Годишник на университета св. Климент Охридски. Историко-филологически факултет», т. XXXVIII. 6. София, 1942, стр. 107–114; N. A. Nilsson. Studies in Cechov’s Narrative Technique. «The Steppe» and «The Bishop». – «Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies». 2. Stockholm, 1968, p. 63–105). Наиболее близка изображенная в рассказе ситуация к «Скучной истории», герой которой также «достиг всего, что было доступно человеку в его положении»; профессору из «Скучной истории», призванному, как и архиерей, быть наставником, учителем, также «не всё было ясно, чего-то еще недоставало и не хотелось умереть»; воспоминания о прошлом, недовольство настоящим, одиночество тяготят старого профессора и архиерея.
Все эти переклички между «Архиереем» и произведениями, написанными начиная с конца 80-х годов, могут отчасти служить комментарием к словам Чехова о давнем происхождении замысла рассказа.
Итак, в декабре 1899 г., за два с лишним года до окончания работы над «Архиереем», у Чехова уже были план рассказа, записи отдельных деталей, название будущего произведения. Но работа над «Архиереем» оказалась чрезвычайно долгой и мучительной.
Процесс писания рассказа восстанавливается по письмам Чехова 1899–1902 годов.
Когда в ноябре 1899 г., работая над повестью «В овраге», Чехов сообщал М. П. Чеховой: «Пишу большую повесть, скоро кончу и начну другую» (письмо от 14 ноября), – он имел в виду, несомненно, «Архиерея», вскоре обещанного в журнал Миролюбова. Повесть «В овраге» была закончена 20 декабря, и дальнейшая писательская работа Чехова могла продолжаться до 17 января следующего, 1900 г., когда Чехов заболел и затем всю зиму не мог работать. Этот короткий промежуток времени – конец декабря 1899 г. – первая половина января 1900 г., – видимо, и были временем начала работы над текстом «Архиерея». В письме к Б. А. Лазаревскому от 2 апреля 1900 г. Чехов упоминает о «начатых рукописях», которые «в беспорядке валяются <…> по всему столу», – одна из этих рукописей могла быть рукописью «Архиерея». Только в начале ноября 1900 г., после завершения пьесы «Три сестры», Чехов вернулся к прерванной работе над прозаическими произведениями. «Пишу повести», – сообщал он А. С. Суворину 16 ноября. Несомненно, на первом месте при этом был «Архиерей»: Миролюбов напоминал Чехову о данном им обещании в своих письмах от 11 и 30 декабря 1899 г., 9 февраля, 3 апреля, 21 августа, 8 и 19 сентября 1900 г. ( ГБЛ). И этот, второй подступ к рассказу был коротким: в ноябре – декабре 1900 г. Чехов исправлял для собрания сочинений водевиль «Свадьба», а с 14 декабря, приехав в Ниццу, переписывал и переделывал пьесу «Три сестры».
С последних дней декабря 1900 г. появилась возможность вернуться к работе над новыми произведениями. Вновь их названия Чеховым не упомянуты, но замысел «Архиерея», несомненно, уже не оставлял его. Работа шла медленно: мешали нездоровье, праздные посетители, появились творческие сомнения. «Я теперь пишу и буду писать, чтобы летом ничего не делать» (письмо к О. Л. Книппер от 2 января 1901 г.); «Я пишу, конечно, но без всякой охоты. Меня, кажется, утомили „Три сестры“, или попросту надоело писать, устарел. Не знаю. Мне бы не писать лет пять, лет пять путешествовать, а потом вернуться бы и засесть» (ей же, 21 января).