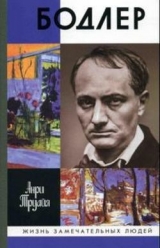
Текст книги "Бодлер"
Автор книги: Анри Труайя
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Эту же мысль Бодлер повторяет в работе «Мое обнаженное сердце»: « Прежде всего быть великим человеком и Святым для себя самого». Далее он настаивает в молитве, обращенной к Господу: «Не наказывай меня в матери моей и не наказывай мать из-за меня. Молю Тебя за души отца моего и Мариетты [60]60
Служанка, ухаживавшая за ним, когда он был ребенком. (Прим. авт.)
[Закрыть]. Дай мне силы незамедлительно исполнять мой каждодневный долг и стать, таким образом, героем и Святым». Он повторил это кредо и в другой части «Личных дневников» под названием «Гигиена»: «Клянусь самому себе принять отныне следующие правила в качестве вечных правил на всю мою жизнь: Каждое утро молиться Богу, вместилищу всякой силы и справедливости, молиться отцу моему, Мариетте и Эдгару По, моим заступникам; просить их дать мне силы, чтобы мог я выполнить мой долг, и дать матери моей жизнь достаточно долгую, чтобы она порадовалась моему превращению; работать весь день или хотя бы столько, сколько позволят мне мои силы;полагаться на Господа, то есть на саму Справедливость, чтобы планы мои исполнились; каждый вечер совершать новую молитву, чтобы испросить у Господа жизнь и силу для матери моей и для себя».
Однако этот мистический порыв, эта почти монашеская дисциплина прекрасно уживались в Бодлере с аномальным поведением, осуждаемым религиозной моралью. Он хотел верить в Бога и пребывать в грехе. Как он считал, настоящий человек – такой, каким задумал его Бог, – с неизбежностью соединяет в себе небеса и грязь. «В человеке, – писал он, – в любой момент сосуществуют одновременно два устремления: одно – к Богу, другое – к Сатане. Призыв к Богу, или духовность, – это воспарение, желание подняться ввысь; призыв же к Сатане, или животное начало, – это радость падения. К этой последней должны быть отнесены и любовь к женщине, и общение с животными, собаками, кошками и т. д. Радости, проистекающие от этих двух любовей, соответствуют природе этих любовей».
Бодлер испытал «радость падения», в частности, благодаря некой Луизе Вильдьё, «дешевой шлюхе», отправившейся с ним в Лувр, где она никогда прежде не была и где, как он пишет, «стала краснеть, закрывать лицо руками, дергать меня то и дело за рукав, спрашивая перед бессмертными статуями и картинами, как можно выставлять напоказ подобные неприличные вещи». Фигурируют в списке Бодлера еще некая связанная с театральным миром Берта, какие-то неизвестные дамы, быстро промелькнувшие, оставившие лишь свои имена. Однако там нет ни одной юной девушки. Шарль всегда испытывал презрение к этим «молокососкам», специально выращиваемым для замужества и продления рода человеческого. Впрочем, даже позволь он соблазнить себя подобному существу, сифилис заставил бы его отказаться от естественного желания создать семейный очаг. В конце концов он стал думать, что эта болезнь, считающаяся позорной, предохранила его от еще более позорного недуга – от состояния мужчины, связанного супружескими привычками. «Ведь девица, в сущности, что такое девица? – писал Бодлер. – Это дурочка и маленькая мерзавка; сочетание самой большой глупости с самой большой развращенностью. В девице сидят вся гнусность хулигана и вся гнусность школьника». Впрочем, женщина ненамного лучше: «Женщина не умеет отделить душу от тела. Она проста, как животное. Сатирик сказал бы, что это потому, что у нее есть только тело». В 1862 году лишь две женщины избежали такого обвинения со стороны Бодлера: его мать и Жанна, помещенные в царство мифов.
В том же году Жанна, хотя и больная, позировала Мане. На картине, которой потом дали название «Любовница Бодлера», изображена мулатка в летнем платье с перемежающимися широкими лиловыми и белыми полосами. На поблекшем ее лице застыло трагическое выражение. От него веет непреклонностью, глупостью и гордостью… Зная об искреннем восхищении Бодлера его творчеством, художник запечатлел однажды и поэта – на втором плане групповой картины «Музыка в Тюильри». Бодлер изображен на полотне в профиль в широкополом шелковом цилиндре. Он явно приоделся в самое лучшее, что у него было, как того захотел художник. Мане тогда уже сильно потеснил Делакруа в сердце Бодлера. Но он по-прежнему продолжал расхваливать последнего в своих статьях и, в частности, приветствовал появление «Сарданапала», роскошный сумбур красок которого вполне отвечал безумным мечтаниям романтичной молодежи. Но 13 августа 1863 года Делакруа умер от воспаления легких, проболев три недели… Поздно узнав об этом, Бодлер кинулся на улицу Фюрстенберг, где художник поселился пятью годами раньше. Гроб с телом покойного выставили в мастерской. Посетители молча проходили, прощаясь. Последние картины мастера участвовали в траурном бдении. Женни, верная служанка, заботившаяся о нем на протяжении двадцати восьми лет и ограждавшая хозяина от надоедливых непрошеных гостей, теперь не мешала людям отдать последний долг. Бодлер пробыл там до позднего вечера, рядом со старушкой, вспоминая шепотом какие-то эпизоды, а может быть, творя молитву, по-своему… В понедельник, 17 августа, Делакруа отпевали в церкви Сен-Жермен-де-Пре. Служба началась в полдень. Все было очень официально, очень торжественно. Присутствовали различные делегации. На площади выстроились национальные гвардейцы с барабанами, отдавая последние почести. Затем утопавший в венках катафалк направился к кладбищу Пер-Лашез. Затерявшись в толпе зевак, едва не касаясь друг друга локтями, шли двое мужчин и вспоминали ничем внешне не выделявшегося человека, осторожного и болезненного, одержимого мечтателя. Эти двое были Мане и Бодлер.
Шарлю хотелось любой ценой почтить память своего кумира серией блестящих статей. Ему удалось опубликовать три из них под общим названием «Творчество и жизнь Эжена Делакруа» в журнале «Опиньон насьональ». Правда, в рубрике «Разное». Две первые были напечатаны 2 и 14 сентября. После чего прошли недели, а третья все не появлялась. Главный редактор Адольф Геру счел, что столь пышный панегирик может наскучить читателям. Наконец он сдался, и последние главы были напечатаны в «Опиньон насьональ» 22 ноября 1863 года, через долгие три месяца после кончины художника [61]61
Все произведение было опубликовано после кончины Бодлера в книге «Романтическое искусство». (Прим. авт.)
[Закрыть]. Дань уважения Бодлера гению Делакруа тем более похвальна, что поэт много лет терзался безразличием к нему со стороны художника. Резюмируя свое восторженное отношение к живописцу, Бодлер утверждал: «У Фландрии есть Рубенс, у Италии – Рафаэль и Веронезе, а у Франции – Лебрен, Давид и Делакруа».
Бодлер и сам теперь стал объектом поклонения; его обожатели кричали ему в лицо, что он сделал их счастливыми. Пожалуй, самым преданным из них был юный Огюст Вилье де Лиль-Адан, недавно опубликовавший сборник вполне достойных стихов, правда, не имевших успеха. Весной 1861 года, прочитав «Цветы зла», он писал автору: «По вечерам открываю Вашу книгу и перечитываю великолепные стихи, в которых каждое слово – едкая насмешка, и чем больше я их перечитываю, тем больше нахожу, что надо перестроить свою жизнь. Как это прекрасно, то, что вы делаете!.. Все это, право, так величественно. Рано или поздно люди признают человечность и значение этих стихов, непременно. […] Но что за похвала смех тех, кто не умеет уважать!» Музыкант-любитель Вилье де Лиль-Адан сочинил музыку к стихотворению «Смерть любовников». Как-то вечером он пропел эти стихи на свою музыку поэту Эмилю Блемону, который заметил: «Никогда еще я не слышал ничего более убаюкивающего, более болезненного, более легкого и воздушного, чем этот прекрасный сонет, положенный на такую простую и прекрасную музыку». Очарованный талантом своего ученика, Бодлер задумал написать вместе с ним одноактную пьесу, своеобразную инсценировку стихотворения «Хмель убийцы». Но очень скоро отказался от этого театрального проекта – так же, как и от всех предыдущих.
Его увлекла другая идея. Понимая, что в традиционной поэзии ему уже не создать ничего лучше «Цветов зла», он захотел попробовать свои силы в бескрайнем океане стихотворений в прозе. В письме-предисловии Арсену Уссе, который вел литературную рубрику в газете «Пресс», Бодлер написал, что он надеется изобрести новую форму, «поэтическую прозу, музыкальную, хотя и лишенную ритма и рифмы, достаточно гибкую и достаточно свободную, чтобы приспособиться к лирическим порывам души, к волнообразным движениям мечты, к капризам сознания». Дальше он добавлял: «Этот мой навязчивый план подсказала мне жизнь в огромном городе с его пересечением бесчисленных разного рода взаимоотношений». Издатель Этзель был готов опубликовать отдельной книжкой эти «стихи в прозе» под заголовком «Парижский сплин». Но Арсен Уссе, думавший о благонамеренных читателях своей газеты, не спешил пуститься в авантюру. Тогда, чтобы подтолкнуть его, Этзель написал ему: «Нет такой газеты, которая могла бы заставить ждать этого странного классика неклассических вещей».
Подстегнутый таким образом, Уссе решился опубликовать в «Прессе» за 26, 27 августа и 24 сентября 1862 года двадцать небольших прозаических текстов с примечанием «продолжение в ближайших номерах». Но никакого продолжения не последовало, так как Уссе узнал, что из двадцати якобы не издававшихся ранее текстов шесть уже были в 1861 году опубликованы в журнале «Ревю фантезист». Причем три из них еще раньше, в 1857 году, попали в журнал «Презан». Уссе, разъяренный, потребовал у Бодлера объяснений, а тот стал неумело оправдываться, говоря, что, во-первых, «Ревю фантезист» – никому не известное издание, во-вторых, многие отрывки были сильно переделаны им и могут считаться новыми произведениями и, в-третьих, автор хотел дать читателю общее представление о книге. « Мне следовало бы посоветоваться с вами лично, – признал он, – и поэтому я должен принести Вам, только Вам свои извинения». К сожалению, Уссе прослышал, что Бодлер не впервые проделывал такого рода штучки. И, несмотря на извинения поэта, публикация стихотворений в прозе прекратилась.
Раздосадованный Бодлер обратился к Этзелю и 13 января 1863 года подписал с ним договор, на пять лет уступая ему право на «Стихотворения в прозе» («Парижский сплин») и на третье издание «Цветов зла», по 600 франков за каждую книгу. По небрежности или из тактических соображений он не предупредил Пуле-Маласси об этом новом договоре. Еще один не вполне корректный поступок автора, обычно любившего рассуждать о честности в делах. 9 марта 1863 года Этзель запросил рукопись, чтобы сдать «Парижский сплин» в набор. Но теперь Бодлер уже не спешил. Он ответил, что тексты еще не совсем готовы: «По правде говоря, я недоволен книгой и поэтому переделываю ее и перелопачиваю[…] Судя по состоянию моих нервов, не смогу сдать ее раньше, чем 10 или 15 апреля. Зато могу гарантировать, что книга получится оригинальная и легко продаваемая». В конечном счете, ни Этзель, ни Пуле-Маласси – вскоре разорившийся – так и не смогли опубликовать «Парижский сплин». Бодлер держал рукопись несколько лет под рукой, до самого конца своих дней все дорабатывая, все расширяя.
Книга эта явно уступает по качеству «Цветам зла». Что-то написано великолепно, магия срабатывает, но там, где проза подавляет поэзию, получились простые, вполне заурядные, лишенные очарования новеллы. Что же превращает заклинания Бодлера в банальные рассказы: недостаточная лаконичность некоторых произведений или выбранный автором повествовательный стиль? И «Героическая смерть», и «Великодушный игрок», и «Веревка», и «Мадемуазель Бистури» представляют собой не что иное, как образчики элегантной прозы. Фразы, «лишенные ритма и рифмы», утратили музыкальность и загадочность. При том, что все навязчивые темы Бодлера налицо. Но в «Цветах зла» они выглядят священно-величественными, а в «Парижском сплине», смешавшиеся с уличным шумом, рассеявшиеся в парижском тумане, они словно утратили свой зловещий смысл. Боль здесь более повседневна, не столь убийственна, рок не так тяжко давит на плечи людей. Тоска уступила место неприятностям.
После разрыва с Уссе Бодлер предлагал свои стихи в прозе журналам, и те неохотно, но публиковали их. Однако поэт оставил за собой право рассказать о своих переживаниях того времени в «Моем обнаженном сердце». Этот сборник заметок вместе с «Ракетами», «Гигиеной» и «Записной книжкой» представляет собой совокупность личных дневников, в которых автор изливал свою ненависть и свое возмущение, рассказывал о своей печали, своей вере, о преследовавшем его страхе смерти, о своей надежде на Бога. Крайняя резкость его исповедей, их отрывистость свидетельствуют о лихорадочном возбуждении Бодлера, склонявшегося вечерами над рукописью. В комнате при свете свечи, в одиночестве он вверял бумаге свое презрение к женщинам, к ордену Почетного легиона, к демократии, к Наполеону III, к Жорж Санд, к Виктору Гюго… Он записывал вперемешку: «Чем больше человек занимается искусством, тем хуже работает его детородный орган». «Великие люди появляются только вопреки воле своей нации». «Любовь – это преступление, в котором невозможно обойтись без соучастника». «Не будучи в силах запретить любовь, Церковь решила хотя бы обеззаразить ее и придумала брак». «Мне во Франции тоскливо главным образом потому, что все здесь похожи на Вольтера». Бодлер настолько увлекся этим выстраиванием необычных мыслей, что готов был признать «Мое обнаженное сердце» основным своим произведением. Каждый день он повторял себе, что ему нужно уехать в Онфлёр и спокойно поработать там рядом с матерью. И каждый день он откладывал это необходимое и доброе дело. Он писал в «Гигиене»: «Ехать в Онфлёр! Как можно скорее, пока я не упал еще ниже. Сколько уже было предчувствий и знаков, поданных Богом, что давно порадействовать, считать каждую минуту самой важной из минут и превращать мое обычное мучение, то есть Работу, в постоянное наслаждение».
Одним из «знаков, поданных Богом», Бодлер счел теперь и кончину своего сводного брата: Альфонс умер от кровоизлияния в мозг 14 апреля 1862 года. Шарль не испытывал к нему ничего, кроме презрения и обиды. Однако для приличия написал жене покойного письмо, в котором приносил извинения за то, что не смог присутствовать на похоронах. В ответ Фелисите пригласила его заглянуть к ней. Он нехотя согласился поехать в Фонтенбло вместе с Анселем. Тот в 1851 году уже оставил нотариальную контору, но зато занял пост мэра города Нёйи, что не мешало ему продолжать выполнять обязанности представителя опекунского совета. Бодлер, хотя и пользовался не раз его благосклонностью, считал Анселя «настоящей карой», «отвратительной язвой всей своей жизни», «типичным идиотом, болваном и сумасбродом», который «понимает в литературе не больше, чем слон в танцах болеро». Даже вид этого человека вызывал у него тошноту. И вот он отправился вместе с ним в путь в одном вагоне поезда. Ужасное путешествие – сидеть лицом к лицу с неприятным тебе человеком, под монотонный стук колес. К счастью, благодаря записке, полученной от матери, он сумел вытянуть из своего глупого «советника» немного денег. «Я бы предпочел обойтись без этих 500 франков, – сообщал он Каролине. – Лучше бы я лишился этих денег, чем видеть его и часами слушать его медленное заикание: „У вас очень добрая матушка, не так ли? Ведь вы любите вашу матушку?“ Или же: „Вы верите в Бога, ведь Бог есть, не правда ли?“ Или: „Луи-Филипп был великий король. Ему еще воздадут должное…“ И каждую из таких фраз он размазывает на полчаса. В то самое время, когда в Париже меня ждут дела сразу в нескольких местах».
При виде Фелисите, одетой в черное, с глазами, покрасневшими от слез, Бодлера охватило предчувствие смерти, подкарауливающей и его. И когда он вернулся в Париж, его продолжала преследовать эта мысль: каждое мгновение жизни может оказаться последним. То ему мерещился мгновенный конец, который наступит посреди трудов и наслаждений, то он сам призывал смерть, чтобы раз и навсегда подвести черту под накопившимся грузом страданий и переживаний. То ему казалось, что он еще многое не сказал из того, что хотел сказать людям, а на следующий день чувствовал себя окончательно выбившимся из сил. Жил он по-прежнему один в гостинице «Дьеп», на улице Амстердам. Чтобы он ни съел, его мучили боли в желудке. И номер у него в гостинице был такой же темный и мрачный, как его душа. «Да, эта конура, это вместилище вечной тоски – это все мое, – писал он в „Парижском сплине“. – Вот нелепая, пропитанная насквозь пылью мебель с потертыми углами, заплеванный камин без огня и без углей, тоскливые окна со следами дождя на пыльных стеклах, разрозненные, исчерканные вдоль и поперек рукописи, календарь с помеченными карандашом траурными датами!» А в воздухе – «отвратительное табачное зловоние, смешанное с запахом какой-то тошнотворной плесени. Здесь дышится прогорклостью отчаяния. В этом тесном мирке, вызывающем только омерзение, единственное, что мне улыбается, – это пузырек с шафранно-опийной настойкой, моей старой и зловещей подругой, как все подруги, увы, щедрой на ласки и на предательство».
Опасаясь, что мать, поверив в утешительные байки о нем, перестанет тревожиться за него, он 13 декабря 1862 года посвятил ее в свое нынешнее состояние – ведь так приятно лишний раз подкинуть хвороста в огонь, который обжигает любимого человека: «Тебе сказали, что я весел. Такого не бывает никогда. Да и возможно ли такое? Разве что вдруг мне понадобилось это дикое веселье, чтобы напугать кого-то и избавиться от чьего-то присутствия. Тебе сказали, что я был хорошо одет? Только неделю назад я сбросил с себя тряпье. Тебе сказали, что я хорошо себя чувствую? Меня не покинула ни одна из моих болезней: ни ревматизм, ни ночные кошмары, ни боли в желудке, ни, главное, страх, страх внезапно умереть, страх пробыть слишком долго в живых, страх увидеть твою смерть, страх уснуть, страх проснуться. Да еще эта вечная летаргия, заставляющая месяцами откладывать на потом самые срочные вещи. Не знаю, как это происходит, но все мои странные недуги усиливают мою ненависть ко всем людям». Дальше он немного успокоился и стал рассказывать матери, что недавно ездил в Версаль, гулял в саду возле Трианона и что во время прогулки ему представилось, будто она была рядом с ним и даже произнесла со своей характерной гримаской: «Тут прекрасно, но, понимаешь, мой дорогой сын, я все же больше люблю мой сад». Ему казалось, что такая история должна была развеселить Каролину. Поэтому, напугав ее описанием своих невзгод, он закончил письмо словами: «Дорогая мамочка, мне хотелось тебя рассмешить».
В этом резком переходе от отчаяния к нежности – весь Бодлер. Выставив напоказ свои хвори и посетовав на свое душевное смятение, он опять стал пай-мальчиком, заботящимся о здоровье мамочки и готовым поклясться, что не хочет доставлять ей никакого беспокойства. Он еще раз пообещал ей вскоре приехать в Онфлёр. В его комнате были слышны свистки паровозов на вокзале Сен-Лазар, находящемся неподалеку. Эти приглашения к путешествию доносились до него каждый день. Но иные призывы, еще более настойчивые, чем паровозные гудки, удерживали его в Париже.
Глава XIX. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГОРЯЧКА
Бодлер нередко заявлял, что какие-то из его решений были продиктованы ему Богом, а другие – дьяволом, – кто же именно подсказал ему столь внезапную, сколь и нелепую мысль выставить свою кандидатуру во Французскую академию? Может быть, ему хотелось произвести впечатление на мать, чтобы она стала наконец восхищаться им и уважать его, чтобы из разряда проклятых поэтов перейти в число поэтов признанных? Какая бы это была звонкая пощечина всем идиотам из Онфлёра, если бы его избрали! И какое счастье для Каролины, которую он так часто огорчал своими выходками и фантазиями! Г-н Ансель, г-н Эмон, аббат Кар-дин встретили бы его низкими поклонами и смотрели бы ему в рот. С другой стороны, говорил он себе, совершенно немыслимо держать академика под колпаком опекунского совета. Если бы его избрали, он заставил бы мать освободить его от этой унизительной опеки. 10 июля 1861 года он пишет матери о своем проекте: «Несколько человек предложили мне воспользоваться возникшей вакансией (освободившееся место Скриба [62]62
Эжен Скриб умер 20 февраля 1861 гола. (Прим. авт.)
[Закрыть]) или возможными другими вакансиями и выставить мою кандидатуру в Академию. Но опекунский совет! Бьюсь об заклад, что даже в этом беспристрастном святилище это будет выглядеть серьезным минусом».
Он, разумеется, понимал, что в академической среде человека, чья жизнь столь неупорядочена, могут счесть недостойным этого традиционно благочестивого общества. Но он был слишком высокого мнения о своем таланте, чтобы допустить мысль, что признанные писатели не согласятся принять его в Академию, поскольку у него нет денег, живет он в гостинице и был судим за книгу, в которой, по существу, больше отчаяния, чем непристойности. Он думал, что, напомнив академикам об их ответственности, он заставит их реабилитировать его в глазах общественного мнения. А если уж он вступит в это сообщество избранных, то подозрительность читателей по отношению к нему тут же рассеется.
Едва намерение Бодлера стало известно, как в литературных кругах, в кафе, в редакциях злопыхательских газетенок его принялись поднимать на смех. Его называли предателем, человеком, пытающимся перейти из клана богемы в клан официальных литераторов. Как же он не понимает, что в затхлой атмосфере академических салонов его «Цветы зла» просто зачахнут? Не реагируя на саркастические замечания, он 25 июля писал матери: «Считаю, что быть членом Академии – единственное почетное звание, которого истинный литератор может добиваться, не краснея […] Надо приготовиться к тому, что не примут и раз, и два, и три. Надо встать в очередь. Количество голосов, поданных за меня в первый раз, покажет, есть ли у меня серьезные шансы на будущее».
Он еще не решился послать письмо в Академию с предложением своей кандидатуры, как газеты сообщили о кончине 21 ноября 1861 года монаха-доминиканца Лакордера. Таким образом, кроме места Скриба освободилось и другое кресло. Ну просто везение! Бодлер загорелся еще больше. 11 декабря 1861 года он написал Абелю Вильмену, постоянному секретарю Французской академии: «Милостивый государь, имею честь сообщить Вам, что я желаю быть включенным в число кандидатов на замещение одного из вакантных мест во Французской академии и прошу Вас соблаговолить довести до сведения Ваших коллег это мое намерение. Возможно, я должен сообщить благожелательным академикам некоторые данные о себе: позвольте мне напомнить Вам о сборнике стихов, вызвавшем больше шума, чем хотелось бы; о переводе с целью популяризации ранее неизвестного во Франции великого поэта; о строгом и подробном исследовании радостей и опасностей, заложенных в возбуждающих средствах; и, наконец, назову множество брошюр и статей о крупнейших художниках и литераторах, моих современниках. Однако я понимаю, милостивый государь, что всех перечисленных работ недостаточно, особенно если сравнить с теми, более многочисленными и оригинальными, о которых я мечтал. Так что поверьте, милостивый государь, что моя скромность неподдельна […] Чтобы сказать всю правду, добавлю, что главная причина, толкнувшая меня просить о включении моего имени в список кандидатов уже сейчас, заключается в том, что, если бы я решил просить об этом лишь тогда, когда почувствую себя достойнымэтой чести, я бы не обратился с этой просьбой никогда […] Если моя фамилия известна некоторым из вас, то, быть может, дерзость моя будет встречена благожелательно, и те несколько голосов, которые я чудом получу, явятся для меня великодушным поощрением и призывом к более успешным делам».
Когда на очередном заседании Французской академии Вильмен зачитывал письмо, из которого следовало, что некий Бодлер выставляет свою кандидатуру на одно из освободившихся кресел, академики обменивались удивленными взглядами. Одним он был просто неизвестен, для других его имя сопрягалось с подмоченной репутацией анархиствующего сумасброда, а некоторые даже вспомнили, что года четыре назад он преследовался уголовным судом. С чего это он, имея такое прошлое, возжелал заседать среди них? Уж не очередная ли это провокация с его стороны?
Не отдавая себе отчета в подобном остракизме, Бодлер, как полагается, наносил визиты академикам. Все это происходило зимой, и он являлся к ним закутанный ярко-красным шарфом из плотной ворсистой ткани. Вильмена, встретившего его более чем холодно, он так охарактеризовал матери: «Это хам и глупец, претенциозная обезьяна» и добавил, что тот «дорого заплатит» за такой прием. Жан Вьенне, которому тогда было восемьдесят четыре года, показался ему похожим на смехотворное привидение, упрямо повторявшее: «Существует только пять жанров литературы, сударь: трагедия, комедия, эпическая поэзия, сатира и мимолетная поэзия, куда относятся басни, в которых я большой мастер». Эрнест Легуве банальными фразами декорировал полное безразличие к новому кандидату. Франсуа Понсар оказался недоступен, несмотря на то, что Асселино и направил ему предварительно благожелательную записку. Сен-Марк Жирарден не ответил на письмо Бодлера с просьбой принять его. Мериме, которым Бодлер так восхищался, ответил отказом. Были и другие более или менее вежливые отказы принять его.
Двадцатого декабря 1861 года Бодлер писал Арсену Уссе: «До меня дошел слух, что, поскольку моя кандидатура воспринята как оскорблениеАкадемии, то кое-кто из этих господ решил, что им невозможно встречаться со мною. Но это же слишком фантастично, чтобы быть правдой». Однако в его положении и в ту пору это было более чем «возможно», это было неизбежно. В азарте преодоления препятствий, нагромоздившихся на его пути, Бодлер обратился к Флоберу, который поддерживал дружеские отношения с Жюлем Сандо. Флобер выполнил просьбу: «Кандидат просит меня сказать Вам, „что я думаю о нём“. Вы, должно быть, знаете его произведения. Что до меня, то, разумеется, если бы я был членом почтенного собрания, я хотел бы видеть его между Вильменом и Низаром! Вот это была бы картина! Сделайте же это! Выберите его! Это будет прекрасно». В тот же день он сообщил Бодлеру, что выполнил его просьбу: «Первейший долг друга – оказать услугу товарищу. Так что, ничего не поняв в Вашем письме, я написал Жюлю Сандо, умоляяего проголосовать за Вас. Но, похоже, его голос уже кому-то обещан? Мне хочется задать Вам столько вопросов, и удивление мое было так велико, что мне не хватило бы и тома, чтобы выразить все это». А в постскриптуме добавил: «Несчастный! Вы хотите, чтобы купол Академии обрушился?» На что Бодлер с гордостью ответил: «Я веду себя, как упрямец, и не раскаиваюсь в этом. Даже если за меня не подадут ни одного голоса, я не пожалею о содеянном […] Неужели Вы не догадались, что Бодлер – это значит Огюст Барбье, Теофиль Готье, Банвиль, Флобер, Леконт де Лиль, то есть чистая литература? Несколько друзей сразу поняли это и выразили мне свою симпатию».
На место, освободившееся после кончины Скриба, претендовало много кандидатов, и потому Бодлер решил направить свои помыслы на менее искомое кресло, которое раньше занимал Лакордер. И ему в голову не приходило, что человеку, которого судили за нарушение религиозной морали, неприлично претендовать на место, занимаемое ранее доминиканским монахом. Бодлер считал, что искусству прощается все. Да и вообще-то, разве в глубине души он не такой же христианин, как все прочие? Просто его отношения с Богом особого рода. Он попытался объяснить это супругам Сандо, которые, благодаря рекомендации Флобера, приняли его очень доброжелательно; однако особой надежды на избрание Бодлера у них не возникло. «Правда, он [Жюль Сандо] пообещал, что поговорит обо мне с некоторыми из друзей по Академии, – писал Бодлер Флоберу, – и может быть, может быть, я смогу получить несколько голосов протестантов. А это все, чего я желаю». Что же касается лично Жюля Сандо, то он сказал, что не может ничего обещать. Просьба Флобера застала его «врасплох». Бодлеру надо было бы встретиться с ним раньше. А теперь дело уже сделано…
Отнюдь не утратив надежды, поэт продолжал наносить визиты. Он ходил по городу пешком, в любую погоду, «в лохмотьях» (как он сообщал матери), не располагая хотя бы несколькими экземплярами своих книг, чтобы вручить их этим господам, которые в большинстве своем их не читали. Кстати, впоследствии он язвительно высмеял некоторых из них (Понсара, Эмиля Ожье, Лапрада, Сен-Марка Жирардена…) в своих статьях. А собственно, с какой стати они должны были оказывать ему эту честь, голосовать за него? Он знал, что его шансы незначительны. Но чем меньше он верил в вероятность успеха, тем больше упорствовал. Теперь его прежде всего интересовало, сколько же голосов он все-таки получит.
Впрочем, порой эти встречи приносили ему неожиданную радость. Ламартин принял его с братской теплотой, хотя и сказал, не одобряя намерений Бодлера, что в таком возрасте не следовало бы «подставлять лицо для пощечины». Сообщая это матери, Шарль добавил: «Ламартин сделал мне настолько чудовищный, настолько колоссальный комплимент, до того огромный, что я не решаюсь его повторить. Но думаю, что не надо полностью доверяться его красивым словам. Ведь он немножечко шлюха, немножечко проститутка (кстати, он спросил меня, как ты поживаешь. За эту его любезность я ему благодарен. В конце концов, он же светский человек)». Скорее всего, в ходе беседы речь зашла и о генерале Опике, чья дипломатическая карьера пришлась на то время, когда Ламартин был министром иностранных дел. Этот намек на заслуги отчима ничуть не смутил кандидата. Он готов был любыми средствами обзавестись друзьями в Академии.
По правде говоря, он с большим удовольствием встретился с Альфредом де Виньи, который заперся с Бодлером, чтобы их не беспокоили, и они общались «целых три часа». «Как и Ламартин, – написал Шарль матери, – он поначалу стал отговаривать меня, но узнав, что по совету Сент-Бёва я официально предложил свою кандидатуру Секретариату, он заявил, что, поскольку зло уже сделано, надо непременно идти до конца». И Бодлер констатировал: «Де Виньи, которого я до этого никогда не видел, был великолепен. Поистине, происхождение положительно сказывается на качествах человека, а большой талант делает его добрым». Со своей стороны, Виньи тоже был очарован этим болезненным человеком с горячечным блеском в глазах, восторженно отзывавшемся о его «Античных и современных поэмах», а также о творчестве Эдгара По. «Он очень образованный, – записал де Виньи после ухода Бодлера, – хорошо знает английский, жил в Индии в возрасте 17 лет и немало там повидал [еще одна маленькая ложь Шарля]. Знает, популяризирует и развивает творчество Эдгара По. Похоже, его литературная жизнь сводится к переводам этого философичного романиста». При этом ни слова о «Цветах зла». Провожая Бодлера до дверей, Виньи приглашал его заходить еще. И тот неоднократно писал ему, спрашивая у Виньи совета, как вести себя во время избирательной битвы.







