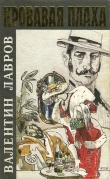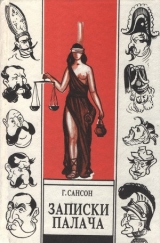
Текст книги "Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции, книга 1"
Автор книги: Анри Сансон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Глава VIII
Дом Жана-Баптиста Сансона
Драмы, которые разыгрывались в это время и которые мне хотелось представить в некоторой связи, заставили меня оставить пока в стороне все то, что касается только судьбы нашего семейства и вследствие этого несравненно меньше интересует читателей. Но так как мне хотелось, чтобы биография нашего семейства была по возможности полна, то я прошу позволения снова представить несколько картин из быта нашего семейства, познакомить с некоторыми новыми подробностями внутренней жизни одного из тех домов исполнителей приговоров, мимо которых прохожий проходил всегда с ужасом и негодованием и которые осыпал проклятиями.
Кажется, что мне удалось уже достаточно познакомить читателей с личностью Марты Дюбю, вдовы Шарля Сансона II, которой Бог дал дожить до глубокой старости и видеть, как множилось то поколение, которое, по мысли ее, вступило в такое ужасное звание и взялось за выполнение таких страшных обязанностей. Но мне также кажется, что я недостаточно еще познакомил читателей с личностью Шарля-Жана-Баптиста Сансона, который, как мы видели, стал родоначальником многочисленного поколения, представители которого занимали во многих городах Франции ту должность, которая как будто стала принадлежностью всех лиц, носящих нашу фамилию. Я оставлю в стороне всех этих господ де Тур, де Прованс, де Реймс и прочих, чтобы заняться исключительно господином де Пари, который был главой семейства и во многих отношениях играл самую видную роль среди своих собратьев по ремеслу. Дом парижского исполнителя стоял всегда выше уровня домов, принадлежавших лицам того же звания в провинции. Это было что-то вроде метрополии, в отношении к которой все исполнители считали себя вассалами. Я не говорю уже о том, что очень часто нас призывали в разные города провинции для того, чтобы распоряжаться казнью, даже в тех случаях, когда мы избавлены были от тяжелой обязанности исполнять ее собственноручно. Мало этого: наши собратья по ремеслу присылали к нам своих сыновей, которым думали передать свою должность, с просьбой принять их в звании помощников к себе и приучать к отправлению наших кровавых обязанностей. Мы редко отвечали отказом на эти просьбы и охотно отворяли для этих молодых людей двери нашего дома, который таким образом стал чем-то вроде учебного заведения, в котором эти молодые неофиты проводили все время своего учения.
Стоит вспомнить, какое огромное семейство было у Шарля-Жана-Баптиста Сансона для того, чтобы представить себе, какой огромный стол накрывался во время обеда в столовой дома на улице Пуасоньер. Марта Дюбю читала предобеденные и послеобеденные молитвы, и если верить сохранившемуся в моей памяти преданию, то стол всегда был очень полон; порядок до педантизма и самая приличная скромность постоянно царствовали в этой мирной трапезе.
Шарль-Жан-Баптист Сансон унаследовал от своей матери ее оригинальный образ мыслей и странные убеждения. Он, как и она, всегда оказывал самое радушное гостеприимство, как родным своим детям, так и чужим, которые приходили под их кров. Впрочем, у Шарля-Жана-Баптиста было столько труда и столько занятий, что оставалось слишком мало времени для отдыха; он с увлечением предавался анатомическим занятиям, которые завещал нам еще сам Сансон де Лонгеваль. Каждый день Шарль-Жан-Баптист открывал новые сведения и старался применить свои открытия к делу. Для этого, он ревностно занимался ботаникой и изучал гигиеническое и фармацевтическое значение растений. Бесспорно, он более всех моих предков продвинул вперед эти интересные наследственные изыскания. Прописи рецептов, которыми мы лечили, и часто с успехом, разные болезни у всех обращавшихся к нам за советом – почти все писаны его рукою. По примеру деда и отца я свято храню эти рецепты лекарств, так же как они, готов в любое время спешить на помощь страждущим и бываю особенно счастлив, когда в состоянии облегчить страдания или продлить жизнь своего ближнего с помощью тайн, открытых моими предками в приюте смерти.
Шарль-Жан-Баптист Сансон вставал очень рано. После легкого завтрака он отправлялся слушать обедню в церковь Святого Лорана. После этого он возвращался домой и принимал у себя на дому большое число больных за цену, соответствующую положению и средствам каждого больного. Надо сознаться, что люди богатые платили довольно дорого, зато беднякам и лечение, и лекарства давались даром. Это часто длилось до самого обеда, каторый бывал у нас в час пополудни. После обеда начиналась маленькая прогулка по саду, длившаяся около часа. Вслед за этим мой прадедушка уходил в свою лабораторию, где, смотря по обстоятельствам, или готовил лекарства, или продолжал свои занятия.
Когда день подходил к концу, он, в ожидании ужина, который никогда не подавался раньше восьми часов, садился и отдыхал на пороге своего дома, обычай, который до сих пор сохранился в маленьких городках и даже в некоторых бедных кварталах Парижа.
В один из тех вечеров, которые он проводил так патриархально, сидя на пороге своего дома, ему пришлось принять довольно странного посетителя. С давнего времени существовала легенда, которой время от времени пользовались для того, чтобы сочинить новую сказку о таинственном доме палачей, на который общественное мнение всегда смотрело сквозь призму предрассудков. Легенда эта гласила, что один из исполнителей верховных приговоров, узнав, что сын его совершил преступление, которое строго наказывается законом, потребовал преступника к себе на суд. После этого суда он сам приводил в исполнение свой собственный смертный приговор преступнику-сыну, которого он не захотел передать в руки суда из боязни обесчестить свое имя.
Суровость и непреклонная твердость духа Шарля-Жана-Баптиста были широко известны не менее его благотворительности. Это высокое мнение о нем дало возможность применить к нему легенду о упомянутом нами Бруте эшафота.
В этом новом виде легенда снова явилась на свет, и в несколько дней общественная молва придала ей такие размеры, что рассказ этот дошел до слуха моего прадеда, который попал в этот рассказ уже вторично, потому что в эпоху своей молодости он прослыл за жертву подобного же происшествия. Это даже чуть-чуть не побудило Людовика XV приказать судить моего прадеда за этот мнимый акт верховного правосудия, которым нарушилось самое священное право короля – право помилования. К счастью, этого Сарданапала XVIII века убедили, что все это не что иное, как ловкая выдумка; только благодаря этому не возмутился изнеженный и развращенный дух короля. Но несколько вельмож и придворных были увлечены этой драмой гораздо более своего короля и от души верили, что дом палачей бывает театром таких мрачных событий.
Итак, однажды вечером Шарль-Жан-Баптист скромно сидел на одной из каменных скамеек, стоявших у решетки его дома. Вдруг он видит, что перед ним останавливается роскошный экипаж, украшенный гербами, из которого выходит особа с резкими чертами лица, одетая в роскошный придворный костюм.
Эта особа, не приподнимая даже своей треугольной, обшитой галунами шляпы, покрывавшей волосы, расчесанные наподобие голубиных крыльев и покрытые блестящей пудрой, подошла, пошатываясь, к моему прадеду и, подозвав его к себе, спросила его, правда ли, что он предал смерти своего сына, обвиненного в воровстве.
Шарль-Жан-Баптист пожал плечами и ограничился таким ответом:
– Позвольте заметить вам, милостивый государь, что вопрос ваш, по крайней мере, странен. Неужели вы думаете, что отец, который настолько дорожил своей честью, что решился пролить кровь своего сына, чтобы только избавить его от стыда и позора, будет настолько глуп, что выдаст эту тайну первому придворному франту, который вздумает спросить его об этом.
Незнакомец нахмурился.
– Знаешь ли ты, негодяй, с кем говоришь? – возразил он, – я граф де Шароле.
– Я очень рад чести познакомиться с вашим сиятельством, – отвечал мой прадед. – Я уверен, что мне никогда не придется исполнять свою обязанность по вашему делу, несмотря на строгость законов, которые карают за покушение на жизнь знатных особ. Вот вы, ваше сиятельство, изволили поверить тому, что я убил своего сына; поэтому и я могу поверить тем слухам, что сам король обещал помиловать того, кто убьет ваше сиятельство, точно так, как вы изволили убить несчастного и ни в чем не виноватого человека.
Граф побледнел от негодования:
– Несчастный! Я не знаю сам, как до сих пор я не проколол тебя насквозь шпагою за твое безумие. Но этим я как будто подтвердил бы те нелепые слухи, которые ты повторяешь. Хоть я и не хочу оправдываться перед тобой, наемным убийцей, но знай, что убийство кровельщика, которое будто бы было совершено мной, не что иное, как наглая ложь. Если этот человек и погиб при подобных обстоятельствах, то никак не я виной этому; все это сделал мой брат граф де Клермон, который и виноват в этом, если только можно назвать виновным человека, лишенного рассудка и действовавшего бессознательно.
История графа де Шароле, который для того чтобы показать свою ловкость, выстрелил в кровельщика и убил этого несчастного ремесленника на той самой крыше, где он выполнял свою опасную работу, была настолько распространена в эту эпоху, что прадед мой нисколько в ней не сомневался. Король помиловал графа и простил ему это убийство только с тем условием, что точно такое же прощение будет дано и родственникам или друзьям несчастной жертвы жестокости графа, если они решатся отомстить за себя и убьют графа. Поэтому Шарль-Жан-Баптист был необыкновенно удивлен, заметив, что граф с такой живостью отказывается от преступления, в котором обвиняло его общество, и на которое, как говорили, сам преступник смотрит только, как на шалость. Новое объяснение этого дела могло быть справедливо, и таким образом вся вина падала на брата графа де Шароле, который, судя по поведению его у гробницы диакона города Парижа (Diacre de Paris) и в некоторых других обстоятельствах был одержим безумием. Прадед мой почувствовал вдруг какое-то странное расположение к графу, который скорее заслуживал сожаления, чем насмешки, если только действительно общественное мнение безвинно оклеветало его. Прадед мой попросил извинения в тех невежливых выходках, которые он только что сделал графу и удовлетворил его любопытство, показав ему Шарля-Генриха Сансона, игравшего на дворе и даже не подозревавшего о той страшной судьбе, которую приписывало ему общественное мнение. Вслед за этим Шарль-Жан-Баптист осмелился со своей стороны задать несколько вопросов по делу убитого кровельщика. Граф сполна подтвердил все сказанное им и уверял, что брат его, граф де Клермон, аббат храма Святой Жермен де Пре (Saint-Germain des Pres), совершил это убийство в припадке сумасшествия, и потому на все это дело надо смотреть только как на выходку безумного. Что же касается графа де Шароле, то, по его словам, он был совершенно невиновен и в доказательство ссылался на показания слуг, которые сопровождали его в это время.
– Шено, – сказал он одному очень молодому человеку, стоявшему на почтительном расстоянии, – подойди и скажи все этому молодцу, хотя он и кровопийца, но ты уверь его, что кровельщика убил не я, а брат мой, аббат, в припадке своего безумия.
Молодой человек только кивнул в знак подтверждения этих слов. Таким образом, этот разговор, начатый так грубо, кончился, как видите, доверием друг к другу и даже, можно сказать, оправданиями друг перед другом. Но более странно то, что с этого времени граф де Шароле, несмотря на различие в званиях, коротко познакомился с моим предком и посещал его всякий раз, как только приходилось бывать в Париже. Они стали обращаться друг с другом, как добрые соседи, тем более что граф во время своего пребывания в Париже обыкновенно жил в доме на улице Пуассоньер, следовательно, очень недалеко от нас. Не проходило двух-трех дней, чтобы граф по приезде в Париж не являлся в сопровождении верного Шено навестить Шарля-Жана-Баптиста Сансона. Граф даже имел случай оказать услугу моему прадеду и сделал это с особенным усердием. Во время регентства издан был эдикт, заменивший право сбора, которым пользовались наши предки, постоянным жалованьем в шестнадцать тысяч ливров в год. Но ни Шарль-Жан-Баптист, ни отец его не получали аккуратно этого содержания. Различные присутственные места пересылали их друг к другу, а затруднительное состояние финансов препятствовало признать законность и удовлетворить справедливые требования моих предков. Таким образом, все недооплаченное им составило довольно значительную сумму. Шарль Сансон II просил себе аудиенцию у регента, который признал вполне законность этих требований и велел выдать ему пятьдесят тысяч ливров билетами королевского банка (Система Лоу); но стоимость этих бумаг скоро упала настолько, что мой прадед уже не мог употребить их, и до сих пор они лежат у меня в том самом портфеле, в который были положены после аудиенции у регента. Граф де Шароле представил Людовику XV то затруднительное положение, в которое были поставлены исполнители правосудия из-за невыдачи им жалованья, и вследствие этого Шарль-Жан-Баптист получил наконец значительную сумму денег, в которых очень нуждался.
Что касается истории графа, то и отец, и дед мой вследствие знакомства с графом были убеждены, что он нисколько не виноват в убийстве, которым запятнано его имя.
Шено был прекрасным оружейным мастером и гравером; он делал ружья, которые били очень далеко и отличались необыкновенной точностью наводки и изяществом отделки. За это он пользовался большим расположением графа де Шароле, страстного охотника и превосходного стрелка, как большая часть дворян того времени. Несмотря на свое искусство, Шено однажды, пробуя карабин самой изящной отделки, к которому приложил все свои старания, нечаянно спустил курок и тяжело ранил себя в предплечье и в кисть руки. Граф, наученный опытом, тотчас же поспешил воспользоваться хирургическими сведениями моего прадеда, который в своем округе слыл за нового Амбруаза Паре. Граф тотчас спросил его, не может ли он взять к себе на излечение раненого. Жану-Баптисту Сансону не было причины отказывать, и бедный Шено был перенесен к нам изувеченный и окровавленный. Но, исследовав хорошенько рану, прадед мой скоро убедился, что она не опасна и что радикальное излечение ее возможно.
Так действительно и случилось. По прошествии двух месяцев или около того рана совершенно закрылась, и Шено получил прежнюю силу и подвижность в раненой руке. Бедный мальчик навеки остался признательным моему прадеду, и эта признательность распространилась на всех членов нашего семейства; я сам в детстве имел случай отчасти испытать ее.
После смерти графа де Шароле Шено поступил на королевскую службу и был определен в оружейную палату Людовика XV. После смерти Людовика XV он остался на том же месте и при Людовике XVI, который высоко ценил все механические искусства и особенно уважал способности и знания Шено. К тому же Шено умел извлекать выгоды и из того, что был хорошим гравером и чеканщиком.
Но когда разразились революционные бури, то титул королевского любимца мог привести лишь к гибели. Шено вместе со своим государем по воле народа был переведен из Версаля в Париж, а 10 августа его вместе со многими другими прогнали и из Тюльери. Он чувствовал, какой опасностью грозит ему та придворная ливрея, которую он носил всю жизнь. Тогда он вспомнил о том доме, где лежал когда-то раненый и страждущий и где когда-то так ухаживали за ним и с таким гостеприимством принимали его. Он вспомнил все это и постучался в двери нашего дома.
Жана-Баптиста Сансона давно уже не было на свете, но зато сын его, воспитанный в правилах отца, занимал его место. Он смело протянул руку старику Шено и предложил ему у себя убежище на это бурное время. Странное дело! Бывший слуга вельможи и двух королей не составил себе никакого состояния в этой раззолоченной атмосфере. Он как человек с душой мечтательной и артистической и не способный к интригам, каждый день зарабатывал свой насущный хлеб, не имея привычки заботиться о завтрашнем дне. Все награды, которые он получал от щедрот своих покровителей, употреблялись им сообразно его вкусу и наклонностям: у него была прекрасная коллекция оружия всех стран – дамасские клинки и тому подобное. Вся эта коллекция, собранная с таким трудом, исчезла во время грабежа королевского дворца.
Бездеятельная жизнь была не по душе Шено, и, попав в дом моего отца, он захотел вознаградить за приют каким-нибудь полезным трудом. У нас долго не позволяли ему заниматься ничем, кроме изготовления оружия, что было любимым занятием и, можно сказать, страстью всей его жизни. Но когда он надарил своим новым хозяевам множество разного оружия, далеко превосходившего все то, что до сих пор было сотворено, то ничто не могло помешать ему наложить свою руку на ту отвратительную машину, которая в это время стала общеупотребительным орудием казни. В эпоху террора он нередко принимался бранить помощников исполнителя за их неаккуратность и наконец сам стал наблюдать за тем, чтобы лезвие гильотины всегда сохранялось в должном порядке и легко бы двигалось по перекладинам машины.
– Когда столько прекрасных людей гибнет на эшафоте, – говаривал он, покачивая головой, – то как же можно заставлять их еще мучиться. Казните их, черт возьми! Ведь вам это приказывают, но не тираньте их, прошу вас.
Я был еще так молод в то время, когда скончался бедный Шено, и у меня осталось только смутное воспоминание о нем. Мне помнится только, что это был маленький, добрый, вечно веселый старичок, который славно качал меня на качелях, устроенных на двух самых больших деревьях нашего сада. Кроме того, у меня сохранилось воспоминание о подарке, сделанном им мне 1 января 1803 г. Этот подарок был прекрасным маленьким ружьем, на замке которого было вырезано: «Шено своему маленькому другу Генриху».
После этого в следующем году Шено тихо окончил дни свои. В то время я еще не понимал, сколько поучительного в жизни этого человека, начавшего свою карьеру у самого королевского трона и кончившего ее близ эшафота. Но после я не раз думал о Шено и, глядя на его маленькое ружье, задавал себе вопрос: возможно ли найти что-нибудь, чтобы лучше олицетворяло наши революционные перевороты, чем судьба человека, пользовавшегося любовью и гостеприимством сначала у короля, а потом у палача.
Глава IX
Аббат Гомар
Рассказав в предшествовавшей главе несколько анекдотов, которые, как мне кажется, не лишены интереса, я снова обращаюсь к Жану-Баптисту Сансону и семейной его жизни. Я уже говорил о графе де Шароле и о Шено: теперь мне остается познакомить читателей с третьей личностью, которая не постыдилась до самой своей смерти быть в самых дружеских отношениях с моим прадедом, а потом с моим дедом. Это был Анж-Модест Гомар, аббат Пикпуса, принадлежавший к ордену францисканцев.
Я, кажется, уже говорил, что в конце царствования Людовика XIV и в эпоху регентства осужденных сопровождали исключительно доктора Сорбонны. Но при Людовике XV и Людовике XVI этот обычай был оставлен, и стали приглашать к исполнению этого долга милосердия духовных лиц из разных католических орденов. Почтенный отец Гомар скоро был назначен на эту должность за свою евангельскую кротость, благочестие и силу слова. Действительно, большую часть того времени, когда прадед и дед мой служили исполнителями приговоров, отец Гомар среди казней призывал несчастных искать утешения в религии. Все в нем, как нельзя больше, гармонировало с тем священным трудом, который он принял на себя. Лицо этой священной особы дышало добротой; его красноречие было кротко, но убедительно, и часто ему удавалось тронуть самые нечувствительные сердца.
Стоило только затронуть чувство долга, чтобы убедить отца Гомара принять на себя обязанность, для исполнения которой ему необходимо было делать страшные усилия над самим собой. Казалось даже, что силы его ослабевали и мужество исчезло, особенно, когда ему необходимо было присутствовать при исполнении медленных и мучительных истязаний, во время которых он обтирал пот с лица осужденного, вызванный ужасными страданиями, и освежал пылающие уста несчастного несколькими каплями воды. В таком положении бывал, например, отец Гомар всякий раз, когда производилась отвратительная казнь колесованием, на которую был так щедр в то время Парламент. Прадед и дед мой часто замечали то мучительное состояние духа, в котором находился порой этот бедный духовный утешитель, и нередко старались помочь ему и не дать лишиться сил. Однажды потрясение было до того сильно, что отец Гомар не мог даже дойти до местопребывания своего ордена и, чтобы собраться с силами, остался на несколько часов у нас в доме.
Добрый Гомар, тронутый вниманием и заботами нашего семейства преодолеть тот невольный ужас, который ему, быть может, внушало звание людей, оказавших ему гостеприимство, от души проявлял он свою признательность и с этого дня начал выказывать особое расположение к нам, как к людям, разделявшим с ним его тяжелые обязанности. Он часто заходил к моему деду и, наконец, каждую пятницу стал разделять с нами скромный ужин, который ему угодно было почтить и освятить своим присутствием. Он выбрал сам этот день как день постный, потому что был уверен, что у нас ни в каком случае не заставят его нарушить правил его монашеского ордена. Действительно, этот человек отличался примерной воздержанностью, и нужно было употреблять страшные усилия, чтобы убедить его съесть что-нибудь, кроме вареных яиц.
Между прочим, уверяли, что отец Гомар очень бурно провел свою молодость и что под этой смиренной наружностью скрывается душа, которую когда-то сильно волновали страсти. Он надел монашескую рясу, уже испытав все огорчения, которые отравляют жизнь и сокрушают сердце.
Несмотря на постоянные встречи с отцом Гомаром, отец и дед мой не знали чему верить относительно прошлой жизни этой личности до вступления ее в монашество. Впрочем, они предполагали, что страшно преувеличены все рассказы о его юности, приписывавшие ему самые романтические приключения.
Во время этих ужинов по пятницам, которые посещались отцом Гомаром, он часто говорил о беспокойстве, которое причиняет ему одна родственница; легкомысленность и ветреность этой особы составляли для него предмет для постоянного огорчения.
– Это чадо, погрязшее во грехе, – говаривал он, покачивая головою. – Мне страшно подумать, что она несет на себе всю тяжесть греха своего рождения.
Эта молодая девушка по имени Мария-Жанна Сансон де Вобернье воспитывалась в монастыре Святой Анны, как казалось благодаря попечениям родственника своего Бильяра де Монсо; но действительным покровителем ее был отец Гомар, который не хотел показывать перед известным кругом слишком ясно свое внимание этой особе, Эта бойкая и взбалмошная девушка плохо поддавалась воспитанию, и в ней проснулись страсти и желания, совершенно не мирившиеся с тем святым убежищем, в которое она была помещена. Чтобы удовлетворить ее желание жить не в четырех стенах, ее отдали в учение к знаменитой модистке Лабиль. Этот шаг был причиной ее гибели. В доме госпожи Лабиль каждый день собирались все придворные и городские франты, так что кокетству было где развернуться, стоило только дать ему волю. Замечательная красота Жанны обещала ей блистательное будущее, если она сумеет поставить себя соответственно. Она же только и мечтала об этом. К сожалению, со времени падения первой женщины редко не представляется случая для гибели нежного и слабого существа. Так было и с Жанной. Искушение появилось и приняло тысячу образов. Скоро она наткнулась на одну из тех презренных женщин, которые охотятся за молодыми девушками так же, как охотятся за жаворонками: они пользуются их неопытностью и заманивают их блестящей внешностью так же, как жаворонка заманивают в клетку блестящей поверхностью зеркала. Эта женщина была известная куртизанка де Ла Гурдан. Она скоро завладела воображением молодой девушки и посеяла в ней первые семена порока. Повесы и обольстители, которые в то время гордились своим званием, окончили дело и погубили Жанну.
Мой прадед имел полную возможность следить за ходом этого нравственного падения по грустному лицу отца Гомара. Правда, отец Гомар не рассказывал откровенно о всех похождениях своей племянницы; но он говорил о ней все с большей и большей горечью и от души проклинал ту чудную красоту, которая была причиной падения Жанны.
Дед мой Шарль-Генрих Сансон был тогда во всем цвету юности. Воображение его воспламенилось от рассказов отца Гомара, и он сгорал от желания познакомиться с этой девушкой, отличавшейся красотой и стоявшей на таком верном пути к гибели. С этим первым порывом сердца невольно связывалось благородное желание и надежда спасти эту заблудшую душу, пробудить в ней чувство долга и вновь подчинить ее влиянию старика-дяди, который, как казалось, питал к ней отеческую любовь.
Из нескольких слов, нечаянно вырвавшихся у аббата, Шарль-Генрих узнал, что молодая девушка живет на улице дю Бак (du Bac) и даже запомнил номер дома. С этого времени он решился почти неотлучно стоять у этого дома и караулить всех, кто только выходит оттуда, до тех пор, пока не увидит девушки, черты которой напоминали бы портрет, данный отцом Гомаром. Ожидания его были не слишком продолжительны. Уже с первых дней он заметил, что каждый день после обеда из дома выходит молодая девушка с изумительно свежим цветом лица, голубыми глазами, коралловыми губками, с белыми, как перламутр, зубами и с роскошными, густыми белокурыми волосами. Это существо казалось Кипридой нашего времени, одаренной такой красотой и грациозностью, которую ни резец, ни воображение художника не могли придать древней богине красоты. Эту девушку провожала подруга, с которой, как казалось, она беседовала очень весело, потому что речи их время от времени прерывались взрывами того свежего и звонкого смеха, который свойственен только молодости. Чета эта отправилась в Тюльеррийский сад, куда пошел и мой дедушка за ними на таком расстоянии, чтобы не выпустить их из виду и в то же время не обратить на себя внимания.
Эта предосторожность, впрочем, не имела того успеха, какого ожидал мой дед. Молодая девушка и ее спутница, вероятно, давно привыкли к подобным маневрам, потому что не успели они сделать двух-трех кругов по аллеям сада, как уже убедились в том, что за ними следят.
Шарль-Генрих Сансон, как я уже сказал, был очень недурен собой, одевался изящно и со вкусом, носил шпагу и шляпу с такой непринужденностью, что казался образцовым джентльменом. Вероятно, своей внешности он обязан был тем, что обе дамы не стали пугаться его. Он решился следовать за ними; провожал их во время прогулки по Тюльеррийскому саду и по улицам до тех пор, пока не убедился, что они отправились домой.
На другой день повторилось то же самое, но дело не подвинулось ни на шаг вперед. Он снова увидел, как эти девушки исчезли за маленькой дверью своего дома на улице дю Бак, а сам остался на пороге, повесив нос. Но вдруг почувствовал, что кто-то легко прикоснулся к его руке. Он оглянулся и увидел спутницу Жанны, которая очень почтительно ему поклонилась.
– Милостивый государь, – сказала она, – госпоже моей, девице Лансон, показалось, что вы следите за ней, как будто вы знакомы с ней и хотите ей что-то сообщить; поэтому она послала меня к вам разрешить ее недоумение и сказать, что вам угодно от нее.
У деда моего был характер очень решительный, поэтому он и не подумал об отступлении. Нимало не задумываясь, он отвечал:
– Действительно, я желал бы иметь возможность хоть одну минуту поговорить с вашей госпожой, но, не имея чести быть с ней знакомым, я не осмелился просить ее об этом.
– Вы можете видеть мою госпожу, – возразила служанка, – она одна и имеет полное право принимать кого ей вздумается. Если вы желаете с ней видеться, то как прикажете доложить о вас?
– Мое имя ничего не значит, потому что, как я уже сказал, я не имею чести быть знакомым с вашей госпожей. Впрочем, доложите, что ее желает видеть господин де Лонгеваль.
Частичка «де», разоблачившая звание незнакомца, показалась очень приятной субретке. Она полетела, как стрела, и тотчас же возвратилась с ответом, что ее госпожа ожидает господина де Лонгеваля.
Решительная минута наступила. Не без волнения входил Шарль-Генрих Сансон по ступенькам лестницы. Наконец его ввели в комнату, в которой яркость дневного света была умерена драпировками; ароматный запах духов носился в воздухе; несколько бюстов Уато, Буше, Ланкре и Натуар были расставлены на трюмо, на камине и над дверями. Жанна полулежала на одном из трех красивых диванчиков, которые тогда были известны под именем «счастье днем» (bonheur du jur) и которые в то время были в большой моде. Она встретила моего деда с дружеской улыбкой и грациозным жестом указала ему на кресло, которое своим изяществом и комфортабельностью вполне гармонировало с роскошным диваном хозяйки.
– Сделайте одолжение, милостивый государь, скажите, чем я обязана чести видеть вас у себя дома?
Ответ на это был очень затруднителен.
– Сударыня, – сказал он с глубоким вздохом, – знаете ли вы господина аббата Гомара?
При этом имени молодая девушка быстро поднялась с места. Ее оживленное и румяное лицо совершенно побледнело, гнев блеснул в ее глазах, и она начала говорить голосом, который дрожал от волнения, несмотря на все усилия преодолеть это.
– Что это значит, милостивый государь? По какому праву осмеливаетесь вы мне говорить о господине аббате Гомаре? Разве вы шпион, которого подослали ко мне, чтобы следить за мной? Если это так, то мне очень жаль, что вы так рано взялись за это ремесло и в вашем возрасте согласились принять участие в преследовании женщины.
– Ах, сударыня, – жалобно стал говорить мой дед, оскорбленный незаслуженным подозрением, – как могли вы это подумать! Правда, я знаю отца Гомара, но к вам я явился по собственному влечению. Я часто слышал, как отец Гомар говорил, что у него есть племянница, которую он так нежно любит и которую совратили с пути злые люди. Эти слова родили во мне мысль найти вас, броситься к вашим ногам и умолять вас послушаться голоса того многоуважаемого человека, который обращается к вам в одно время и как пастырь-духовник и как родной ваш советник, занявший место вашего отца. Клянусь вам, сударыня, что единственное желание его – ваше счастье в этой жизни и вечное блаженство в будущем.
Произнося это, Шарль-Генрих Сансон не ограничился одними словами, а действительно бросился к ногам Жанны. Тотчас же обратилась она к своей субретке, спрятавшейся за полуприподнятым занавесом и следившей за всей этой сценой, со следующими словами: