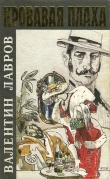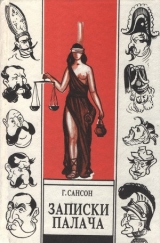
Текст книги "Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции, книга 1"
Автор книги: Анри Сансон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Шарль Сансон оставил троих детей: одну дочь, Анну-Рене Сансон, родившуюся в 1710 году, вышедшую замуж за Зелля из Суансона, и двух сыновей, Шарля-Жана-Баптиста и Николая-Шарля Габриэля Сансона; первый из них родился в апреле 1718, а последний – в мае 1721 года. Малолетний возраст этих двух наследников палача представлял прекрасный случай Марте Дюбю избавить их от этого кровавого наследия. Но она рассуждала иначе и делала все возможное, чтобы, несмотря на свою молодость, Шарль-Жан-Баптист был официально посвящен в печальное звание своего отца. Строгий образ этой женщины, портрет которой занимает место в нашей семейной галерее, доказывает, что она обладала необыкновенным характером и имела особые понятия об обязанностях матери. Она считала своим долгом оставить своим сыновьям неприкосновенным наследие отца вместе с жестокими обязанностями его службы.
Благодаря покровительству лейтенанта уголовного суда и генерал-прокурора, к которому она обратилась, едва ему минуло семь лет, как он был посвящен в звание исполнителя верховного правосудия.
Во время малолетства его обязанности были поручены Жоржу Гариссону, бывшему впоследствии исполнителем в Мелене.
Они-то и водили этого несчастного ребенка на Гревскую площадь присутствовать при казнях, чтобы своим присутствием придать им законный вид. Однако он не достиг того возраста, чтобы, подобно своему отцу и деду, быть в состоянии записывать впечатления, которые производили на него кровавые обязанности. Поэтому в наших записках оказался существенный пробел, заставляющий меня почти ничего не сказать о многих казнях, и в особенности о казни Ниве и его сообщников, последовавшей 31 мая 1729 года. Она занимала одно из главных мест воспоминаний о детстве Жана-Баптиста Сансона, и все что я могу сказать о ней, дошло до меня по устным рассказам.
Ниве походил на Картуша своею славой, но превосходил его в жестокости, потому что его обвиняли в несравненно большем числе убийств. Он около года содержался в тюрьме Парламента, где с ним довольно хорошо обращались, так как он выдал всех соучастников своих преступлений. Среди прочих, он указал на Баремона, сына харчевника на улице Дофин, и семидесятилетнего старца Провансе, которого нашли в Сетте. Последний уже десять лет жил честным образом, хотя до того вел самую буйную, самую необузданную жизнь, и уже на двадцатом году был уличен в преступлении и клеймен каленым железом.
В минуту казни этот старец показал необыкновенное мужество и твердость. Между тем как Ниве и Баремон, привязанные к кресту Св. Андрея, уже предавались горю, рыдали и под предлогом новых показаний были сняты с креста, то он спокойно ожидал смерти, объявив, что не желает ни в чем сознаваться. И точно, когда ему раздробили все члены, он не испустил ни одного вздоха, ни одного крика. Будучи удивительно крепкого сложения, обагренный кровью и изувеченный, он жил еще два часа на колесе, прежде чем испустил последнее дыхание.
Пробел, оставленный Жаном-Баптистом Сансоном в летописях нашего семейства, лишает меня также возможности описать подробности казни Пулалье, которым заканчивается список знаменитых преступников первой половины XVIII столетия.
Мне только известно, что насколько Ниве превосходил Картуша в жестокости, настолько же Пулалье, если верить рассказам, превосходил всех своих предшественников в смелости и свирепости. Число его жертв доходит до ста пятидесяти; поневоле не поверишь в эти рассказы.
Тем не менее, жестокость казни, к которой был приговорен он, заставляет полагать, что он внушал страшный ужас своим судьям. Он перенес жесточайшие пытки, ему раздробили все члены тела и заживо бросили в пламя костра.
Но оставим хотя бы на мгновение все эти картины злодейства и бездушия; перед нами человек, казнь которого была еще ужаснее, несмотря на то, что его оправдывал фанатизм и стремление принести пользу своим преступлением. Мне необходимо собраться с силами, чтобы описать эту неслыханную казнь, жестокость и бесчеловечность которой уже составляют резкий контраст с духом того времени, в которое ока свершилась.
ТОМ III
Глава I
Франсуа Дамьен
Когда жертвой политического убийства становится особа государя, то с этим преступлением часто связывается вопрос о спокойствии всего государств, о существовании целого народа. Это преступление до такой степени не мирится с духом и нравами нашего народа, что общество, судящее преступника, беспощадно карает его. Суд в этом случае ни под каким видом не соглашается смотреть на это преступление только как на безумную выходку фанатика или помешанного.
А между тем в огромном большинстве случаев мысль о цареубийстве рождается только при болезненном воображении, при экзальтации, близкой к умопомрачению. Редко у цареубийц бывают сообщники. Не так давно, во время одного процесса, возбудившего общее и справедливое негодование, один генерал-прокурор, ставший впоследствии министром Людовика-Филиппа, довольно двусмысленно сказал, что у подобного рода преступников бывают только нравственные сообщники.
В эпоху смут, потрясающих общество до самого основания, в эпоху лихорадочных движений, предшествующих революции и следующих за нею, все умы волнуются; в это время встречаются сумасшедшие, помешательство которых доходит до исступления. Эти сумасшедшие – цареубийцы.
Были у Равальяка какие-нибудь соучастники или все определили упомянутые нами обстоятельства? Говорили об этом, но не доказали. Несмотря на уверения д’Ескомана, кажется весьма вероятным, что ужасные мучения, которым подвергали убийцу Генриха IV, а главное негодование народа, столь красноречиво доказывавшее его чувства, побудили Равальяка в последние минуты его жизни указать вооружившую его руку.
Если после этого процесса и осталось какое-либо сомнение, то я твердо уверен, что в деле, к описанию которого я намерен приступить, не было других виновных, кроме того несчастного, который своею смертью на колесе искупил совершенное им преступление. 4 июля 1756 года была совершена кража у одного С.-Петербургского негоцианта по имени Жан Мишель, жившего на улице Бурдоне, у лоскутника Депре.
В его отсутствие взломали шкаф и забрали все из чемодана, в котором негоциант хранил деньги, всего было похищено двести сорок луидоров.
В то же время Жан Мишель заметил, что исчез его слуга, которого он лишь несколько дней тому назад взял в услужение. Не сомневаясь ни одной минут, что этим самым слугой и была совершена кража, он донес обо всем случившемся полиции, которая немедленно приступила к поискам. Слугу звали Роберт-Франсуа Дамьен.
Рассматривая протоколы допроса цареубийцы, невольно приходишь к убеждению, что это воровство, которым дебютировал Дамьен, повлияло на покушение, доставившее ему столь грустную известность.
Дамьен родился 9 января 1715 года в селении Тьелуа, в пяти лье от Арраса. Отец его, бывший прежде фермером, должен был впоследствии идти в работники. На девятом году умерла мать Дамьена, на пятнадцатом он поступил в услужение к одному соседнему мызнику.
Роберт-Франсуа Дамьен уже с самого детства обнаруживал свои дурные наклонности: был он мрачный и угрюмый, вспыльчивый и необузданный. Малейшее сопротивление его капризам вызывало в нем припадки безумного гнева; из-за своей склонности к лени и праздности он не мог долго оставаться у одного хозяина; но я не имею намерения следить за всеми подробностями его скитальческой жизни.
Он был попеременно то земледельцем, то слесарем, то прислуживал в кабаке, то становился маркитантом, поваренком и, наконец, нанялся в лакеи в коллегию Людовика Великого. Занимая уже это место, он женился в феврале 1739 года на кухарке, Елизавете Молерьенн, служившей у графини де Крюссоль.
Он имел от нее двух детей: сына, который умер шести лет от роду, и дочь, которая во время совершения ее отцом преступления занималась раскрашиванием картин у одного торговца эстампами на улице Сент-Жак.
Брак не изменил Дамьена: отцовство не имело никакого влияния на его дурные наклонности. Переходя беспрестанно с места на место в продолжение семнадцати лет после брака, он, наконец, как я уже упомянул выше, обокрал своего последнего господина.
Боясь, чтобы его не схватили, Дамьен удалился в Пикардию.
Судебное следствие определило шаг за шагом весь путь, по которому шел Дамьен, и все, что он делал в продолжение пяти месяцев со времени бегства из Парижа и до самого возвращения туда. Получив относительно значительную сумму денег, Дамьен прежде всего позволил себе маленькую роскошь в жизни, что, должно быть, уже давно было предметом его пламенных желаний. Он оставил Париж и в почтовой карете отправился в Сент-Омер. Один из его братьев, бывший чесальщиком шерсти, имел в этом городе свою мастерскую; сестра его, вдова Калле, также жила в этом городе; отец его служил в Арке привратником одного аббатства; Дамьен отправился повидаться с ними и подарил им немного денег.
При крайней бедности это семейство было удивительно честно. Через несколько дней по приезде Дамьена в Сент-Омер Людовик, младший брат Дамьена, также занимавший в Париже место лакея, уведомил в письме свою сестру о воровстве, которое совершил Роберт-Франсуа. Это известие повергло несчастных родственников Дамьена в отчаяние: они умоляли его возвратить украденные деньги; но благородство чувств не могло тронуть низкую и испорченную душу Дамьена; он вывел только одно заключение из всех увещеваний своих родственников, а именно, что правосудие, несомненно, напало на его след и что благоразумие требует удалиться из Сент-Омера, если он не только хочет сохранить украденные деньги, но и желает избегнуть заслуженного наказания.
Он бежал в Сен-Венан, оттуда в Ипр, потом в Инотланд и, наконец, в Поперинг. Здесь уже в нем начали обнаруживаться первые признаки помешательства, которое должно было довести его до посягательства на цареубийство. Преследования, от которых он должен был скрываться, лихорадочное беспокойство, бывшее их необходимым последствием, возбуждая его сангвинический темперамент, потрясли его умственные способности. Будучи раздражительного и необузданного нрава, как я уже говорил выше, он приходил в отчаяние при виде невозможности пользоваться безмятежно плодами своего преступления, и, быть может, это скрытое ожесточение и родило в его уме мысль как можно сильнее отомстить обществу, преследующему и карающему преступников. Общее неудовольствие было распространено.
В эту эпоху в массах народа начало проявляться неопределенное стремление к независимости и свободе.
Налоги, делавшиеся с каждым днем обременительнее, гнусное шпионство, тайны которого открыл нам Мальзерб, – все это привело народ в отчаяние, а король Людовик XV возбуждал общее неудовольствие и довершал дело разрыва с народом, начало которому положило постыдное правление регента. Величие монарха утратило столько обаяния, что со времени указа, предписывавшего хватать всех бродяг и праздношатающихся и отсылать их в Канаду, распространились по городу слухи, что король приказывает похищать детей, чтобы брать ванны из крови, и такого рода обвинение нашло стольких приверженцев, что произошло восстание народа, продолжавшееся три дня в столице.
Везде раздавался ропот: в замках и в хижинах, в салонах и на площадях. Весьма вероятно, что разговоры, слышанные Дамьеном в кабаках, где он проводил целые дни в пьянстве, курении табака и игре, внушили ему мысль о преступлении, которое он совершил впоследствии.
В Поперинге, в харчевне Иакова Мосселена, он познакомился с бедным чулочником Николаем Плайу и поселился с ним в одной комнате, которую этот ремесленник снимал у одной лавочницы.
Николай Плайу показал при допросе, что Дамьен ему казался немного помешанным. Они спали на одной кровати, и в продолжение пятнадцати дней, которые они прожили вместе, он заметил, что его товарищ проводит большую часть ночей в бессоннице, что в продолжение дня он постоянно расстроен и беспокоен и малейший шум заставляет его вздрагивать.
Он рассказал при этом несколько случаев, которые неопровержимо доказывали помрачение рассудка Дамьена.
Так Дамьен обвинил своего хозяина в чародействе за то, что нашел под его кроватью свечу, проколотую в семи местах; свечка эта случайно переломилась в руках Дамьена, и он уверял, что ему было предсказано, что он будет вечно несчастлив, если нечаянно сломает свечку.
Чтобы убедить Дамьена в своей невиновности, Плайу должен был вместе с ним отправиться в лавку, где была куплена свечка. Дамьен успокоился только тогда, когда продавец свечей подтвердил, что сам проколол в нескольких местах эту свечку, чтобы сделать на ней необходимые для него заметки.
Дамьен часто говаривал: «Я возвращусь во Францию; умру там, но вместе со мною умрет величайший человек на земле»; и при этих словах, как говорят очевидцы, он обыкновенно становился в угрожающую позу.
Нередко по нескольку часов Роберт-Франсуа оставался погруженным в глубокие размышления. В это время губы его шевелились, как будто он шепотом читал молитвы. Однажды Плайу сказал ему, что тот, кто молится Богу столько и с таким благочестием, может быть уверенным в спасении своей души, На это Дамьен отвечал: «Что пользы в моих молитвах? Он меня не слышит».
10 сентября Дамьен оставил Поперинг и своего товарища. Причиной этого было дошедшее до него известие, что бургомистр Поперинга желает его видеть. Это известие до того смутило Дамьена, что он позабыл даже взять с собою свои вещи. Он возвратился в Сент-Омер. Здесь он пришел к отцу, велел позвать брата и сестру и потребовал от родных тех денег, которые когда-то дал им; но по отъезде его эти честные люди отослали негоцианту ничтожную сумму, которую от него получили. Дамьен, обманувшись в своих надеждах, страшно рассерженный, удалился от них.
После этого некоторое время он скрывался у одного из своих двоюродных братьев – Тэйльи, бывшего фермером в Фьесе. Оставив его 3 ноября, Дамьен отправился еще к какому-то родственнику; 21 уехал оттуда и отправился в Аррас и в продолжение месяца шлялся с фермы на ферму в окрестностях этого города. Наконец 28 декабря нанял повозку, в которой возвратился в Париж.
Все лица, у которых он пробыл некоторое время в продолжение этих пяти месяцев бродяжничества, были совершенно согласны в своих показаниях. Везде он обнаруживал признаки умственного расстройства, близкого к помешательству. В это время уже стало заметно, что мысли Дамьена получили определенное стремление, волновавшее его во время пребывания в Поперинге; инстинктивные чувства ненависти, презрения и гнева нашли себе выход. Видно было, что помешанный остановился, наконец, на одном пункте помешательства. В это время он уже с жаром восстает против поведения духовенства; объявляет себя горячим защитником Парламента; говорит и повторяет всем и каждому, что королевство погибло, что его жена и дочь умрут с голода, что ему предстоит свершить великое дело и что свет еще заговорит о нем.
По-видимому, он возвратился в Париж уже с твердой решимостью убить короля. Прибыв в столицу, он послал за своим братом, который явился к нему в таверну на улице Бобург, где он ему назначил свидание. Когда брат начал говорить Дамьену о совершенной им краже, то тот вдруг прервал его и объявил, что он возвратился в Париж только потому, что члены Парламента подали в отставку. Так как Людовик Дамьен, казалось, чрезвычайно изумился нелепости этого ответа, то Роберт-Франсуа объявил ему, что весьма сожалеет, что не отправился прямо в Версаль, и просил брата обнять его, говоря, что они, быть может, видятся в последний раз на этом свете.
Жена Дамьена была в то время кухаркою госпожи Риподелли, жившей на улице кладбища Сен-Никола де Шан; дочь его проводила ночь у этой дамы и уходила каждое утро на работу к торговцу эстампами. Расставшись с братом, Дамьен отправился к жене и дочери. Он прожил в доме госпожи Риподелли до утра 3 января.
В этот день Дамьен сильно поссорился со своею женою; госпожа Риподелли, услышав в кухне шум, поспешила туда и, чтобы положить конец этой сцене, выгнала мужа своей кухарки, объявив ему, что не желает более видеть его в своем доме.
Удалившись от госпожи Риподелли, он прямо отправился в контору придворных карет, находившуюся на Университетской улице; пообедав в ближайшей харчевне, выехал в половине двенадцатого и прибыл в Версаль в три часа утра в почтовой одноколке. Он остался в почтовой конторе до утра, выспался здесь и затем отправился к одному из своих знакомых Фортье в гостиницу Ланньон, близ Четырех Столбов, где и поселился.
На следующий день, во вторник, он целый день бродил в окрестностях замка: король был в Трианоне, и Дамьен жаловался своей хозяйке, что отсутствие государя лишает его возможности кончить то дело, ради которого он сюда приехал.
Ночью со вторника на среду он почувствовал себя нездоровым и стал просить госпожу Фортье пригласить лекаря, чтобы пустить ему кровь; так как с виду он вовсе не походил на больного, то его требование приняли за шутку и не обратили на слова его никакого внимания. Впоследствии при допросе он показал, что если б вовремя пригласили врача, то он не нанес бы удара; потому что, говорил он, кровопускание всегда освежало его мозг и успокаивало волнение крови.
В среду он позавтракал с большим аппетитом; из гостиницы он вышел только около двух часов пополудни и отправился прямо к замку. Заметив во дворе лошадей мушкетеров, Дамьен стал расспрашивать одного лакея и узнал, что король находится в Версале у своих деток и только к вечеру возвратится в Трианон.
Дамьен начал снова бродить по дворам замка и продолжал эту прогулку до вечера. В половине шестого он догадался по шуму и движению – король собирается уехать. Дамьен отправился вслед за королевской каретой, которую сопровождали лакеи с зажженными факелами, и шел за ней до самого Мраморного двора. Здесь карета остановилась, и Дамьен спрятался в углублении под лестницей.
Глава II
Покушение
Людовик XV вышел из комнат их высочеств в сопровождении дофина и нескольких придворных, и, сойдя с лестницы, направился к карете, ожидавшей его. Ночь была темная, холодная; все дрожали от стужи в своей легкой одежде, которую в то время только что вывезли из Англии и которую наши соседи называют редингот. На короле были надеты два таких сюртука, один поверх другого, верхний из них был на меху.
В ту минуту, когда он поставил ногу на бархатную подножку экипажа, человек в шляпе на голове пробился сквозь окружавших его гвардейцев, проскользнул между дофином и герцогом д’Айен и бросился на короля, который в то же мгновение вскрикнул:
– Ох! Меня кто-то страшно ударил кулаком. – В смятении никто не мог разобрать, в чем, собственно, заключается дело.
Только Селим, небольшого роста лакей, шедший пешком сзади кареты, заметил, что какой-то незнакомец положил руку на плечо короля; Селим кинулся на незнакомца и успел удержать его при помощи двух своих товарищей, Фьефре и Вавереля.
Между тем король просунул руку под жилет и вынул ее всю в крови.
– Я ранен, – сказал король.
В то же время он обернулся и, увидев незнакомца, которого держали лакеи и который стоял с покрытой головою, прибавил:
– Если он нанес удар мне, то арестуйте его, но главное, не причиняйте ему никакого вреда.
И затем он возвратился в свои покои, поддерживаемый господами де Бриеннь и де Ришелье.
Телохранители короля и солдаты швейцарской гвардии схватили убийцу и отвели его в свою дежурную комнату.
Убийца был на вид человек лет сорока или сорока пяти, высокого роста, с продолговатым лицом, орлиным выдающимся носом, глубоко посаженными глазами и курчавыми, как у негра, волосами; цвет его лица был так красен, что, несмотря на волнение, которое он должен был чувствовать в эту минуту, он, казалось, нисколько не побледнел; на нем был надет коричневый редингот, сюртук из серого драгета, жилет из зеленого бархата и плисовые брюки красного цвета.
Его обыскали и нашли при нем оружие, которым он нанес удар королю. Это был нож с двумя лезвиями: одно из них, широкое остроконечное, походило на лезвие обыкновенного ножа; другое имело форму лезвия перочинного ножика огромных размеров; оно было в пять дюймов длиною; этим-то длинным ножом он и нанес удар Людовику XV. Кроме того, в его карманах нашли тридцать семь луидоров, немного мелких монет и книгу под заглавием «Христианские наставления и молитвы».
При первом же допросе он объявил, что имя его Франсуа Дамьен, и сознался, что он нанес удар этот по воле Всевышнего, для народного блага.
На вопрос одного из телохранителей по имени Боно, не составляют ли найденные при нем деньги часть суммы, данной ему в вознаграждение за совершение преступления, Дамьен ответил отрывистым и грубым тоном:
– Мне нечего отвечать вам.
Затем, как будто под влиянием внезапного раскаяния, он сказал:
– Предупредите Его Высочество дофина, чтобы он не выходил сегодня.
Эти слова, произнесенные несчастным безумцем в припадке бреда и с целью придать большую важность своему гнусному поступку, подали повод к предположению, что Дамьен только агент обширного заговора, угрожавшего жизни всего королевского семейства. В это самое время солдат, стоявший у дверей комнаты, объявил, что вечером, когда он стоял на часах, в проходе, ведущем к часовне, он заметил незнакомца, который с пяти часов и до половины шестого ходил взад и вперед по этому месту; к этому незнакомцу подошел другой человек низенького роста, в довольно поношенном коричневом платье и в простой шляпе и спросил его: «Ну что?» «Жду», – отвечал взволнованным голосом первый незнакомец. Затем оба стали шептаться и через несколько минут расстались. Так как по описанию Дамьен был похож на первого из этих незнакомцев, то все были почти уверены, что он имеет сообщников.
Тогда гвардейцы, проводившие этот экстренный судебный допрос, в пылу возмущения, забыли о том, что они дворяне и офицеры, и не постыдились начать собственноручно пытать преступника: они привязали его к скамье и начали мучить и требовать ответить на их вопросы.
Между тем, короля отвели в его покои, раздели и уложили в постель.
Большая потеря крови вследствие полученной раны возбудила сильное беспокойство окружающих; Сенак, первый лейб-медик, и Ла Мартиньер, первый хирург, явились в ту же минуту и успокоили короля и всех присутствовавших.
Длинный нож Дамьена прошел сквозь тройную одежду и ранил Людовика XV в нижнюю часть правого бока. Лезвие вошло в тело на три пальца снизу вверх, между четвертым и пятым ребром, и не задело ни одного важного органа грудной полости.
Но королем, который выказывал столько хладнокровия в первые минуты после покушения на его жизнь, в это время овладело чрезвычайное волнение, особенно, когда один придворный очень неловко заметил Ла Мартиньеру, что хотя рана и не опасна, но лезвие могло быть отравлено ядом; после этого король два раза посылал спросить преступника, не обмакнул ли он своего кинжала в какой-либо ядовитый состав. Опасения короля были так сильны, что он приказал позвать своего духовника и пять или шесть раз получил от него отпущение грехов. Затем поручил дофину председательствовать на совете, одним словом, сделал все распоряжения как человек, близкий к смерти.
Беспокойство короля распространило смятение во всем дворце и повергло всех в уныние. Вследствие этого импровизированные палачи Дамьена удвоили мучения, которым они его подвергали.
Ответы Дамьена были непоследовательны и бессвязны: он утверждал, что не имел намерения убить короля, а хотел только «дать ему хороший урок», чтобы он прекратил притеснения Парламента и изгнал парижского архиепископа как виновника всех бедствий. Вообще все ответы Дамьена прямо указывали на болезненное состояние его мозга вследствие ипохондрического настроения духа и приливов крови.
В это время в зал, в котором находился Дамьен, вошел вице-канцлер, господин де Машо.
Положение вице-канцлера в это время было очень незавидно, потому что со смертью короля он должен был впасть в немилость; принципы, которыми руководствовался дофин, не позволяли ему оставить при себе министра, который был созданием госпожи де Помпадур.
Самолюбие вице-канцлера было задето: ему нельзя было оправдываться ни неопытностью молодости, ни привычкой к суровости, вынесенной из боевой жизни. Поэтому вице-канцлер забылся до того, что не постыдился присоединиться к офицерам и принял участие в истязаниях Дамьена. Мало этого, вице-канцлер превзошел своим усердием и безжалостностью офицеров.
Он подошел к камину, взял щипцы и приказал накалить их докрасна; когда они были готовы, то вице-канцлер начал ими усердно жечь ноги несчастного; он прикасался щипцами то к одной, то к другой части ноги, выбирая место, где это прикосновение могло бы доставить самые страшные мучения страдальцу.
Несмотря на все ужасы пытки, Дамьен не дал ни одного показания и только заметил своим палачам, что они действуют против желания Его Величества, приказавшего не причинить ни малейшего вреда своему убийце; затем, обернувшись к вице-канцлеру, он сказал:
– Вы исполняете здесь роль палача, а между тем, если бы вы сами не предали своих товарищей, то мы с вами не встретились бы в этом месте.
В эту минуту в зал гвардейцев вошел герцог д’Айен. Увидев прекрасное занятие хранителя печатей, он сделал строжайший выговор господам д’Эдувилю и Бенору, служившим под начальством вице-канцлера и помогавшим ему. «Кто носит шпагу, – сказал герцог, – тому неприлично принимать на себя обязанности палача».
Этот выговор, сделанный довольно резким тоном, не заставил лишь вице-канцлера отказаться от своего нового занятия, он приказал солдатам швейцарской гвардии прибавить в камин еще две охапки дров, пододвинуть Дамьена к камину и держать его перед огнем. В скором времени поверхность ног несчастного обратилась в две огромные язвы. Так как Дамьен все-таки хранил упорное молчание, то господин вице-канцлер стал грозить ему, что бросит его в огонь.
Лейтенант, Леклерк де Буалье, вошедший в эту минуту в комнату, прекратил, наконец, эту жестокую и гнусную сцену; он потребовал, чтоб ему передали преступника, говоря, что только суд имеет право судить за совершенное преступление и подвергать допросу. Вслед за тем велено было отвести Дамьена в темницу.
В четверг утром по Парижу распространился слух, что король убит. При этом известии с прежней силой и единодушием проснулась та привязанность народа к королю, которую он высказывал неоднократно и в особенности во время болезни монарха в Метце, но которая ослабла вследствие его беспорядочной жизни и ошибок в управлении государством.
Но эта вспышка народной любви продолжалась только до того времени, пока не миновала опасность, вызвавшая ее. По истечении нескольких дней рана Людовика XV превратилась в незначительный рубец, и народ скоро забыл, что для него в продолжение нескольких часов этот самый король был Людовиком Возлюбленным…
Когда Дамьена перевели в темницу превотства, то его посетил Жермен де Ла Мартиньер, лейб-хирург, перевязывавший рану королю. Он наложил повязки на раны на обеих ногах несчастного, лишавшие его возможности стоять.
Страдания его были ужасны, а между тем его непоколебимая душа и крепкое тело не обнаруживали ни малейшего следа изнеможения, упадка сил или уныния. Ему предложили подкрепить себя пищей; Дамьен выпил немного вина, и, вероятно, тронутый этим обращением, столь резко отличавшимся от мучений, которым его подвергли в зале гвардейцев, снова дважды повторил, чтобы берегли жизнь дофина.
На следующий день приступили к допросу.
Дамьен описал несколько подробностей своей прошлой жизни; он говорил, что исповедывает римско-католическую религию, что уже около восьми месяцев он причащался Святых Тайн, что прежде его исповедниками были иезуиты, но что он никогда не открывал им своего намерения. Он говорил также, что мысль о преступлении, постоянно преследовавшая его, побудила его уехать в провинцию, что после он стал чувствовать какое-то влечение возвратиться в Париж, и это влечение было сильнее его воли; что если он и покусился на жизнь государя, то причиной этого было угнетение религии, вследствие запрещения архиепископа приобщать к Святым Тайнам, а также потому, что ходят слухи, что королевство неминуемо должно погибнуть вследствие неутверждения королем постановлений Парламента. Его стали убеждать указать своих сообщников; он отвечал, что в эту минуту он не в состоянии что-либо сказать, потому что если он назовет тех, кто побудил его к совершению преступления, то «все будет покончено». Требовали также, чтоб он объявил, что знает о заговоре, угрожающем дофину; Дамьен отвечал на это, что не знает ничего, что это только слухи, ходящие в народе.
На вопрос, не чувствует ли он раскаяния в совершенном посягательстве на жизнь короля, Дамьен отвечал, что сознает всю гнусность своего преступления и высказал искреннее раскаяние.
Вторичный допрос Дамьена составляет точное повторение первого.
Однако при третьем допросе одно обстоятельство дало совершенно другой оборот этому делу.
Там, где ни щипцы господина де Машо, ни все усилия великого Прево не имели никакого успеха, там, с надеждой на успех, решился сделать попытку один простой офицер городской стражи по имени Бело. Это был молодой человек в высшей степени честолюбивый и сгоравший желанием выдвинуться и составить себе карьеру.
Он уверил маркиза де Сурша, что Дамьен высказал ему столько доверия и симпатии, что он берется на себя добиться от него показаний, которые так важны для спокойствия государства.
Ему дали на это разрешение, и не прошло суток, как он уже вручил своему непосредственному начальству письмо, адресованное на имя короля. Письмо это писал он сам со слов преступника. Вот копия этого письма.
«Ваше Величество!
Я глубоко скорблю о том, что имел несчастье к Вам приблизиться; но если Вы не перейдете на сторону вашего народа, то в самое короткое время, может быть через несколько лет, Вы сами, дофин и еще некоторые лица неизбежно должны будут погибнуть. Грустно подумать, что жизнь такого доброго государя будет в опасности вследствие излишней снисходительности к духовным лицам, которых он облекает своим полным доверием. Если Вам неугодно будет принять заблаговременно меры, то обрушатся на нас несчастья, опасные для благосостояния Вашего королевства.
Некоторые из подданных Ваших, будучи главными виновниками всего дела, уже отступились от него. И если у Вас не будет сострадания к своему народу, если Вы не прикажете духовенству причащать умирающих; если Вы будете допускать такие явления, какое было, например, в Шателе, где священник, причастив умирающего, должен был бежать, а суд велел продать утварь его, то повторяю Вам, что Ваша жизнь постоянно будет в опасности. Будучи совершенно убежден в справедливости своего мнения, я осмеливаюсь уведомить Вас об этом через офицера, подателя этого письма, который пользуется полным моим доверием. Архиепископ Парижский – виновник всех смут, потому что по его милости запрещено причащать умирающих. Совершив ужасное преступление против Вашей священной особы, я, принося это чистосердечное признание, осмеливаюсь надеяться на великодушное милосердие Вашего Величества.
Дамьен.
Я позабыл уведомить Ваше Величество, что, несмотря на приказание Ваше не причинять мне никакого вреда, господин вице-канцлер пытал меня: для этого он велел накалить двое щипцов и, держа меня своими собственными руками, приказал жечь мне ноги, что и было исполнено; затем он велел принести дров, жарко накалить печь с тем, чтобы кинуть меня туда. Без всякого сомнения, если бы господин Леклерк не воспротивился выполнению намерения господина канцлера, то я в настоящее время уже не имел бы возможности известить Ваше Величество о том, что было сказано мною выше.
Дамьен».
Несчастный Дамьен показал себя в этом письме. Гордясь возможностью непосредственно говорить с самим королем, он начинает свое письмо суровым тоном полупомешанного фанатика, а заключает его лукавым воззванием к монаршему милосердию.