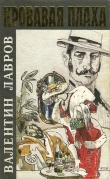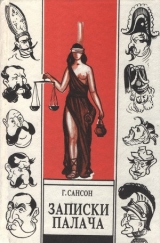
Текст книги "Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции, книга 1"
Автор книги: Анри Сансон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Увидев перед домом переплетчика толпу народа, он окончательно убедился, что не ошибся в своем предчувствии. С трудом протиснувшись к дверям и войдя в зал нижнего этажа, Шарль де Лонгеваль узнал Николая Ларше, сидевшего на скамье среди приставов и солдат дозорной стражи.
Молодой человек, в свою очередь, заметил моего предка в толпе, которая окружала его. Он сделал движение, чтобы броситься к нему навстречу, но был так крепко связан веревками, что едва смог удержаться на ногах и потому снова опустился на скамью.
Когда Шарль Сансон стал упрекать его в совершенном преступлении, несчастный поднял глаза к нему и воскликнул:
– Тот, кто восседает на небесах, решил так, Он руководил мною, он направил удар. И я также буду полон веры, когда предстану пред светлым ликом Его.
Один гражданский пристав напомнил ему о казни, которая его ожидает. Николай Ларше презрительно пожал плечами и ответил, что Всевышний, даровавший ему необходимую силу для выполнения правосудия, не оставит его и тогда, когда он будет на колесе.
Он держал себя решительно, но без всякого хвастовства и самохвальства; говорил охотно, как будто хотел забыться; ежеминутно приводил имена из священного писания, имевшие некоторое отношение к его гнусному поступку, и его выражения доказывали, что злобный фанатизм английских раскольников, среди которых он жил, имел на него большое влияние.
Он сознавался в своем злодеянии, но без всякого сожаления и угрызения совести; отказывался от объяснения обстоятельств, которыми оно сопровождалось, и когда его спрашивали о причинах, побудивших его решиться на столь ужасное преступление, то отвечал, что Создатель повелел ему принести эту жертву подобно тому, как в древние времена приказал Иефтий заколоть свою дочь.
Его отвели в шателе, и мой предок получил через несколько дней от полицмейстера позволение посетить Николая Ларше.
Тишина и мрак темницы успели произвести на него глубокое впечатление; он с отчаянием жаловался, что больше не может спать, и сердце его мало-помалу смягчилось. Когда Шарль Сансон, стараясь вызвать в нем чувство раскаяния, представил ему неразумность его преступления, он потупил голову, и глаза его прослезились; вскоре, не будучи в состоянии далее скрывать своего волнения, он разразился вздохами и рыданиями; наконец, упав в объятия моего предка, долго-долго плакал, склонив свою голову на плечо престарелого исполнителя уголовных приговоров.
Николай Ларше рассказал моему предку, что как только он услышал, что некоторые преступники остаются безнаказанными, он обратил свою душу к Всевышнему, умоляя о наказании виновных. «Рази!» – шептал внутри его голос, и с этой минуты он только и думал о средствах привести в исполнение приговор божественного правосудия.
Когда мой предок прервал его, заметив, что то, что он принял за глас Всевышнего, было лишь откликом его души, терзаемой жаждой мщения, он попросил его выслушать прежде все подробности его проступка, а потом уже высказывать свое мнение, и продолжил свой рассказ.
За ужином молодой человек выбрал острый нож, и спрятал его под своей одеждой. Удалившись в девять часов вечера в свою комнату, он начал усердно молиться и чувствовал, что чем больше молился, тем тверже становился в своем намерении. Затем, покинув дом, где был принят с таким гостеприимством, он пустился бегом на улицу де Льон-Сен-Поль.
Одна только стена разделяла двор дома переплетчика от сада купеческого старшины. Пробравшись в него, он перелез через стену и спустился во двор. Молодой человек заметил свет в мастерской нижнего этажа и, подойдя, увидел Шаванса, не ложившегося еще спать, желая окончить некоторые срочные работы. Так как ночь была теплая, то окно было отворено, и он мог легко проникнуть в комнату, не замеченным переплетчиком. Но, услышав скрип пола под ногами убийцы, последний обернулся, окликнул его, и вдруг, уступая чувству инстинктивного страха, кинулся к двери, громко призывая на помощь. Но прежде чем он добежал до коридора, молодой человек одним прыжком нагнал его, и несмотря на свою худобу и слабость, а Шаванс был высокого роста и силен, с одного удара свалил его на землю. Переплетчик узнал своего противника лишь тогда, когда перед ним сверкнуло лезвие ножа. Он понял, что ему нет спасения, и, перестав призывать на помощь, стал задыхающимся голосом умолять о милосердии сына своего бывшего хозяина и, чтобы смягчить его, он не побоялся свалить все преступление на свою сообщницу, клянясь, что она одна, а не он, виновна во всем. Эти обвинения воспламенили еще более жажду мщения, пожиравшую молодого человека; он с такою силой ударил ножом Шаванса, что сам поранил свою руку, и переплетчик уже не шевелился, а он все продолжал поражать неподвижный труп своего отчима.
Затем он стал прислушиваться: в доме все было безмолвно.
Он хотел уйти, но тот же голос, утром шепнувший ему: «Рази!» поднял в нем всю ненависть снова, и Николай Ларше задал себе вопрос, что не служит ли столь необыкновенный сон, сковавший чувства преступной супруги, доказательством того, что Господь руководит его мщением.
Он поднялся по лестнице.
– Мне казалось, – сказал он моему предку, – что мои ноги налиты свинцом. А между тем его воля казалась сильнее моей собственной. Она влекла меня вперед и вперед, и я незаметно, без шума и без особых усилий скользил по каменным плитам лестницы, окружавший меня мрак наполнился привидениями, которые умоляли, пытались остановить меня, но другой призрак, облаченный в саван, с прикрытым лицом, отделяясь от темного мрака, шел передо мной, очищая мне дорогу.
Таким образом он дошел до дверей материнской комнаты, и прежде чем успел взяться за ручку, она сама без шума повернулась на своих петлях. Убийца прошел несколько шагов по комнате; спавшая не просыпалась, но он явственно слышал, как она дышит, ему казалось, что каждый вздох ее был молитвой, мольбой; несчастному слышался какой-то шепот, переходивший в напев, при звуках которого он засыпал ребенком и которым в эту минуту она, казалось, вопрошала его, осмелится ли он нанести удар в утробу, его носившую, в грудь, его питавшую.
Нож выпал из дрожащих рук молодого человека и упал на пол, он сам кинулся на колени перед кроватью в таком изнеможении, что был лишен всякой способности мыслить.
Тогда к нему приблизился призрак и, подняв свой саван, показал ужасное лицо с налившимися кровью глазами, посиневшими губами, распухшим и высунувшимся языком.
В этом ужасающем видении он узнал своего отца.
Казненный поднял нож и вложил его в руки своего сына. Он указал на синие борозды, которые оставила петля на его шее; затем простер руки по направлению к кровати и хриплым, но столь сильным голосом, что его можно было слышать у монастыря целестинцев, сказал молодому человеку три раза: «Рази! Рази! Рази!»
Николай поднял руку и бессознательно опустил ее.
Раздался крик ужаса. Госпожа Шаванс прошептала какое-то имя, которое не принадлежало ни ее детям, ни второму мужу, и затем все снова погрузилось в молчание.
Николай Ларше ничего не сказал о том, что мой предок узнал от лиц, арестовавших его. Когда с наступлением дня люди, нашедшие в мастерской бездушное тело Шаванса, проникли в комнату его жены, то нашли молодого человека в слезах и молитвах перед второй из его жертв, с болезненным жаром благочестивого сына, у которого небо похитило виновницу его существования.
Кончив исповедь, он с беспокойством спросил Шарля Сансона, полагает ли тот, что в случившемся виден перст Божий. Старый исполнитель понял, что горести, нищета и, главное, фанатизм тронули рассудок бедного Николая, и что он совершил преступление под влиянием религиозной экзальтации.
Мой предок не захотел разуверять его в убеждении, которое могло успокоить последние минуты его жизни.
Правосудие того времени не обладало законной воздержанностью нашей эпохи, и оно не помиловало бы его. Горячка избавила его от ужасов казни; два дня спустя после посещения моего предка он заболел и умер в бреду, прежде чем успели перевести его в больницу.
Глава VI
Вольная община восемнадцатого века
Человек, очевидно, создан для борьбы, и его жизненная сила питается страданиями. В шестьдесят пять лет, несмотря на испытания своей молодости и зрелого возраста, Шарль Сансон де Лонгеваль был еще сильным и свежим старцем.
Однако с тех пор как его душа освежилась нежными и светлыми утехами любви без страсти, он избегал, насколько это от него зависело, мучительных волнений своей должности. Получив разрешение на передачу своего звания сыну, он воспользовался этим и перепоручил ему исполнение вместо себя обязанностей своей кровавой службы.
В 1702 году, хотя криминальность еще не достигла тех размеров, как во время регентства, должность исполнителя уголовных приговоров в Париже далеко нельзя было назвать праздною.
Под двойным влиянием налогов и дороговизны продовольствия нищета сделалась всеобщей.
Поэтому, если пороки поддерживали Пилори, то эшафот имел в голоде деятельного поставщика – и оба не оставались без действия. Воры и разбойники размножались на улицах Парижа, как грибы.
Образованию многочисленных шаек бродяг в конце царствования Людовика XIV посвящены Записки Шарля Сансона – второго сына Сансона де Лонгеваля.
Вот какие обстоятельства побудили его заняться этим.
Сансон де Лонгеваль был всегда благочестив и набожен, но в последние годы своей жизни он сделался еще религиознее.
Мой предок принадлежал к приходу Нотр-Дам де Боннь-Нувель, приходская церковь которого в настоящее время разрушенная, занимала тогда основание треугольника, который образовывался из улиц Нотр-Дам де Боннь-Нувель, де Ла Люнь и Борегар.
К этой церкви примыкало кладбище, стены которого тянулись вдоль улицы де Ла Люнь, и Сансон де Лонгеваль, спускавшийся с высот Новой Франции, должен был пройти через него, чтобы дойти до храма.
По обыкновению человек двадцать нищих: мужчин и женщин или, как тогда их называли, – попрошаек, останавливалось или у ворот кладбища, или же на паперти церкви.
Мой предок редко проходил мимо этих нищих, не подав им милостыни.
В числе получавших от него подаяние он отличил старца, который, в свою очередь, каждый раз, когда Шарль Сансон проходил мимо него, с необыкновенным вниманием следил за ним.
Этому человеку было около шестидесяти лет. Ни лета, ни нищета не исказили правильности черт его лица. По его высокому обнаженному лбу, изборожденному морщинами, длинной, седой, опускавшейся до груди бороде, легко можно было принять за образ одного из тех апостолов христианства, которые были изображены на стрельчатом своде церковной паперти.
Но это сходство ограничивалось его станом.
Нижнее платье этого нищего имело разрез на бедре, сквозь который виднелась ужасная язва, возбуждавшая сострадание прохожих.
Нужно было иметь каменное сердце, чтобы не подать ему милостыню при этом свидетельстве страданий, которым подвержены люди. К счастью, эта язва, которую считали сто раз смертельною, оказалась совершенно особенного рода; она оставалась все в том же виде, нисколько не изменяясь: ни к худшему, ни к лучшему.
В продолжение пяти лет, в которые Сансон де Лонгеваль встречал нищего у дверей Нотр-Дам де Бонн-Норель, находя ежедневно ту же язву, того же вида, какого она была накануне, с теми же синими и припухшими мясными сосками, окруженными бледным кружком. Он должен был бы верить в чудо, если бы не было гораздо естественнее предположить, что это увечье – чистая фантазия глупого и бессовестного бродяги, который даже не считал нужным делать какие-либо изменения своим ранам.
Это впечатление, ставившее нищего Нотр-Дам де Боннь-Нувель в категорию лжекалек – бродяг, производящих на себе искусственно различные увечья, могло бы побудить моего предка исключить его из числа пользовавшихся его подаянием, если бы при нищем не было дитяти, отказать которому не мог престарелый исполнитель уголовных приговоров.
Когда Сансон де Лонгеваль в первый раз увидел девочку, ей было около десяти лет, и его поразила редкая красота и оригинальность ее лица.
Она, казалось, принадлежала к тем восточным народам, которых во Франции было довольно много. Она имела черные бархатные глаза, алые губки, роскошные и слегка волнистые волосы, удивительные зубки цыганки и огненный быстрый взгляд, так характеризующий последних. Однако оттенок цвета ее лица был несколько темнее, чем он обыкновенно бывает у женщин этой касты.
Она называла нищего своим отцом, а он ее – дочерью; он был с нею чрезвычайно нежен. Улыбка ребенка вызывала улыбку на его устах, которые казались не способными ни к чему другому, как к бормотанию жалобных псалмов. Когда, желая защитить ее от лучей пылавшего солнца или доставить ей несколько минут покоя подле себя, он склонял свою голову к скамейке, на которой она отдыхала, то делал это с нежностью матери.
Несколько лукавая привлекательность маленькой девочки возбудила любопытство Сансона де Лонгеваля и он, наконец, забыл о бесстыдстве лжекалеки вследствие отцовской нежности, которую он оказывал дочери. Каждый день мой предок выделял ему большую долю из подаяний, которые мог раздавать; и девочка до такой степени привыкла взимать свою маленькую контрибуцию, что, завидев его, с веселым видом бросалась бегом к нему навстречу.
Несмотря на щедрость Сансона де Лонгеваля, нищий никогда не присоединялся к выражению благодарности, которую высказывала его дочь. Мой предок заметил, что между тем как старец провожал других молитвами, его он никогда не благодарил за подаяние. Шарль Сансон предполагал, что, зная его, этот человек не хотел молить Бога за исполнителя верховного правосудия. Видя в этом испытание Всевышним его смирения, он нисколько не огорчался этим, а видел в том повод увеличивать с каждым днем подаяние.
Между тем девочка стала молодой девушкой необыкновенной красоты, заметной даже под прикрывавшими ее тряпками. Каждый раз, когда Сансон встречался с нею, ему приходила в голову мысль об ужасной участи, ожидавшей это прелестное создание, и он спрашивал себя, не будет ли величайшим благодеянием попытаться избавить ее от злосчастного удела, ей предназначенного.
Однажды утром, выходя после обедни, Сансон де Лонгеваль, воспользовавшись минутой, когда молодая девушка убежала, подошел к нищему и, открыв ему причину своего вмешательства, предложил старцу попросить за него некоторых милосердных особ, которые могли бы, поместив его дочь в один из приютов, предоставить бедному ребенку верное и уважаемое положение в свете.
Когда мой предок подошел к нищему, на лице его выразилось сильное волнение, но, услышав о предложении, он выразил живейшее нетерпение и прервал его, отказываясь от этой милости, но так как Сансон де Лонгеваль продолжал настаивать, то он возразил ему с выражением, демонстрировавшим всю силу его отцовской привязанности: «Кто же будет любить меня, когда ее не будет со мной?»
С этого дня молодая девушка не только не просила подаяния у моего предка, но даже насмешливо улыбалась, когда он проходил мимо нее; а старый нищий, казалось, от него отворачивался.
Таким образом прошло несколько месяцев.
Однажды утром, идя в церковь, Сансон де Лонгеваль не нашел более нищего и его подруги на их обычном месте; он не увидел их и в следующие дни. Удивленный этим внезапным исчезновением, мой предок стал расспрашивать их товарищей, но они не могли дать ему никакого объяснения.
Несколько дней спустя Пилори des Halles представлял зрелище, возбудившее огромное любопытство народа.
Жан Буре, королевский прокурор, Франсуа де Турнер, асессор, и Пьер де Манури, городской голова, обличенные в вероломном осуждении дворянина по имени Шарль де Губера де Ферьер к виселице, чтобы завладеть его имуществом, были приговорены к ссылке и выставлению к позорному столбу.
Скопление народа перед позорными столбами des Halles было многочисленным, и хотя день был торговый, но большая часть толпы была не из селян. Сансон де Лонгеваль, сопровождавший своего сына, различил в толпе многих из своих знакомых: это доказывало, что бродяги с любопытством пришли посмотреть на фигуру особы, которую выставляют к позорному столбу, привыкшую посылать туда других.
Вечером, когда он на обратном пути домой повернул на улицу Пюи д’Амур, громкие взрывы хохота заставили его обернуться. Смеявшаяся была прекрасная особа, в которой, хотя она была одета с роскошным изяществом, он тотчас же узнал дочь нищего Нотр-Дам де Боннь-Нувель.
Она со своей стороны также узнала старца, клавшего в ее маленькую и нежную ручку подаяние. Ее веселость моментально исчезла. Она дернула своего товарища за руку и исчезла с ним во мраке улицы де Монтедур.
Сансон де Лонгеваль понял, что предчувствие его сбылось, он увидел, что участь бедной девушки была плачевнее, чем он сам когда-либо предполагал, потому что не требовалось слишком большой проницательности, чтобы догадаться по одежде и обращению человека, с которым она шла под руку, что он принадлежал к той категории любопытных, которые составляли большую часть зрителей, окружавших утром Пилори.
Со времени своего второго брака, Сансон де Лонгеваль редко выходил из дома после захода солнца.
Его ужасные обязанности обеспечили ему много врагов в числе злоумышленников, которыми был наводнен Париж. Квартал, в котором он жил, был так пуст и отдален, что подобная осторожность была чрезвычайно благоразумной.
Однако в один из вечеров он должен был возвращаться ночью, и его сопровождал только один лакей, шедший впереди и освещавший ему дорогу.
Пройдя спокойно улицу Сент-Есташ, улицу Пуассоньер, и в то время так называемую улицу Святой Анны, которая была лишь продолжением последней, он вдруг, приблизившись к деревянному мосту, перекинутому через большой овраг, увидел, что пять или шесть человек вышли из сада с очевидным намерением напасть на него.
Слуга бросился к моему предку, но не успел сделать десяти шагов, как выстрел из пистолета, – пистолет делался любимым орудием бандитов, – распростер его мертвым на дороге.
Уже успев обнажить широкий тесак, висевший вместо шпаги у его пояса, мой предок, столь же отважный, сколь сильный, бросился на нападавших сзади, но в эту минуту один из них, подкравшись, схватил его поперек тела и таким образом лишил возможности сопротивляться. В одно мгновение Сансона де Лонгеваля повалили на землю, в рот вложили кляп и связали с ловкостью, доказывавшей, что людям, с которыми он имел дело, уже не впервые случалось поступать таким образом и им нечего было привыкать к различным процедурам подобного случая.
Человек гигантского роста, одетый пилигримом, взвалил его себе на плечи, и вся шайка, из которой одни освещали дорогу, другие шли подле пленника, отправилась в путь, избрав себе дорогу через поля и пашни.
Они, казалось, превосходно знали моего предка.
Продвигаясь вперед, эти люди осыпали его самыми грубыми и неутешительными шутками.
Сансон де Лонгеваль слышал, как они заливались смехом, говоря о бедном Шарло, который, казнив стольких мошенников, должен был в свою очередь сочетаться браком с вдовой казненного.
Весьма понятно, что престарелого исполнителя тревожили весьма мрачные мысли; ему была известна ненависть злодеев к тем, кого закон предназначил для наказания их проступков; он не сомневался, что они устроили эту засаду, чтобы, овладев им, утолить свою жажду мщения; но в то же время он думал, что как ни низка была его обязанность, но она, тем не менее, в глазах врагов общества представляла правосудие, и потому твердо решился мужественно защищаться и дорого продать свою жизнь.
Бандиты думали только об одном, а именно сбить с пути своего пленника.
Описав довольно значительный круг, вся шайка снова продолжала идти далее. Вместо того чтобы взойти на холм, она некоторое время шла по совершенно ровной дороге и затем начала спускаться по довольно крутому и длинному спуску. Наконец начали всходить на гору, но к ней подошли слева, а ему казалось, что холм Монмартра должен находиться справа. Это топографическое несоответствие расстроило все его предположения.
Вдруг все смолкли и даже старались заглушать шум своих шагов; Сансон де Лонгеваль понял, что он находится в обитаемом месте. Так они шли некоторое время. Остановившись, мой предок ощутил острый и зловонный запах, столь свойственный парижским шинкам.
Спутники его начали шептаться; он услышал глухой скрип опускавшейся двери, которую поднимали, и почти вслед за этим раздался как бы из глубины земли сильный шум песен, криков и смеха.
Его повели по лестнице вниз. Слова тех, к которым они приближались, делались все более явственными. Крики: «Палач! Палач!», восклицания, шутки раздавались, сливаясь в каком-то адском концерте, но в ту минуту, когда нога исполнителя коснулась пола, чей-то голос приказал смолкнуть, и шум тотчас же прекратился. Затем тот же голос велел проводникам господина офицера короля освободить его от веревок и кляпа, что было исполнено в ту же минуту.
По предосторожностям, которые относительно его были приняты, Сансон де Лонгеваль, наконец, убедился, что они не хотят лишить его жизни; но, открыв глаза, он увидел, что находится в логове самых отчаянных разбойников столицы.
Там находилось человек двадцать мужчин и пять или шесть женщин. Преступники всех мастей имели там своих представителей. Но большая часть из них принадлежала к тому классу злодеев, которые никогда не отказывались от убийства, если того требовал успех замысла.
Оглядевшись вокруг, мой предок увидел, что находится в обширном погребе; стены которого были обшиты досками и, как видно, он лишь недавно был превращен в приемный зал, потому что несколько толстых брусьев да рассеянных там и сям бочек составляли пока единственную мебель этой конуры.
Тусклый свет трех или четырех жестяных ламп так слабо освещали этот мрачный погреб, что свод его оставался во мраке, и присутствовавших можно было различить лишь в те минуты, когда на мгновение лампы вспыхивали мерцающим светом.
Через несколько минут все эти люди, оставив свои занятия по случаю прибытия исполнителя уголовных приговоров, принялись за них снова. Одни из них играли в кости и карты, другие – пили, третьи, рассуждая вполголоса, казалось, обдумывали свои замыслы. Постарше и помоложе возились с толстыми и крепко сложенными девушками с живыми глазами, видеть профиль которых было достаточно, чтобы определить разряд социальной иерархии, к которому они принадлежали.
Сансон де Лонгеваль знал, как важно для его безопасности не показывать страха, а, напротив, казаться совершенно спокойным. Потому он решился заговорить первым и спросить у этих людей, что они от него хотят. Но старик, вовсе незамеченный им и поглощенный игрой в карты с одним из своих товарищей, по-видимому, угадав намерение моего предка, приказал ему знаком руки иметь терпение и хранить молчание.
Вид старика был страшный, почти фантастический.
Он, казалось, дожил до последних границ человеческого существования, кожа его была бурого цвета, длина его рук и ног доказывала, что прежде он был высокого роста, но стан, согнувшись, утратил свою стройность до такой степени, что, сидя, он казался едва ли выше карлика. Дряхлость не оставила ни грамма мяса в его мускулах, он был необыкновенно худ, так что, когда старик тасовал карты, то казалось удивительным, что его пальцы не стучат, подобно перстам скелета. Несмотря на все признаки дряхлости, он сохранил силу, принадлежавшую лишь молодости. Голос и смех его обладали металлическим звоном юного возраста; движения его были быстры и резки; игра лица показывала невероятную живость впечатлений и, когда ему улыбалось счастье, то из его глубоких, как пещеры, орбит, сверкал луч, подобный тому, какой блистает во взгляде молодого человека, когда он глазами хочет сказать что-нибудь своей возлюбленной.
Разгоряченный игрой, он обнажил свою гладкую, без волос голову, сняв парик, который большая рыжая девушка, сидевшая возле него, с обожанием держала в своей руке. Он был одет в фуфайку желто-зеленоватого цвета и в такое же нижнее платье; обут в высокие сапоги из буйволовой кожи с серебряными шпорами. Покрой его одежды был несколько стар, галуны немного почернели, порвались, но он носил их с важным видом, который разительно отличался от щегольства его собратьев; и в манере, с которой он проводил между своих ног длинную шпагу с железной рукояткой, висевшую на портупее, было столько непринужденности, что он походил более на дворянина, чем на разбойника.
Счастье не благоприятствовало ему, он проиграл и далеко отбросил от себя карты, воскликнув гасконское проклятие, которое заставило задрожать моего предка.
Фигура старца ничего не напоминала моему предку, но ему показалось, что это проклятие он уже много раз слышал и что голос старика был ему близко знаком.
Между тем престарелый игрок уселся на бочке, которая только что заменяла ему стол, подозвал жестом к себе всех присутствовавших и, обратившись к Сансону де Лонгевалю, с притворной вежливостью и избегая наречия бродяг, на котором изъяснялись его товарищи, спросил моего предка, точно ли он исполнитель верховного правосудия города Парижа.
– Да, – отвечал самым суровым тоном мой предок, – чего вы хотите от меня? Подобные вам люди обыкновенно скорее избегают, чем отыскивают людей моего звания.
При этом возражении старик сделал гримасу, выражавшую, вероятно, улыбку, потому что он продолжал с самым любезным видом.
– Сто чертей, клянусь вам, любезный мой сударь, вы ошибаетесь в наших чувствах. Разве храбрый человек не предпочтет всегда вашего знакомства этому скучному дарованию жизни, которое приковывает нас к скамьям галеры?
– Чего вы хотите? Зачем вы меня схватили? Привели сюда? Зачем убили моего слугу?
– Это все подробности маловажные; ведь яичницы не сделаешь, не разбив яиц. Перейдем прямо к делу, которым мы должны прежде всего заняться, любезный мой сударь. Мы нуждаемся в ваших услугах; но, без сомнения, все наши просьбы остались бы напрасными, Потому мы и устроили все таким образом, чтобы иметь некоторое право требовать от вас услуг. Разве мы дурно распорядились?
Сансон де Лонгеваль сделал знак презрения.
– Тут есть человек, осужденный к смерти, – продолжал старик со своим ироническим хладнокровием, – мы не решились присвоить себе ваших прав и привилегий. Его передадут вам в руки, и мы надеемся, что вы позволите нам быть свидетелями вашего искусства.
– Осужденный! – воскликнул Сансон де Лонгеваль, разразившись, в свою очередь, громким смехом. – Осужденный! Осужденный кем? Шателе, судом де Ла Турнель или начальником полиции? Вы, милостивый государь, вы, без сомнения, повытчик уголовного суда и, вероятно, предъявите мне приговор по всем формам? Где процедура, где приказ о казни, чтобы я тотчас же мог приказать своим людям смазать веревки или наточить меч?
Один из присутствовавших, по-видимому, выведенный из терпения насмешливым тоном моего предка, подошел к нему и сказал, приставив к его лбу дуло пистолета.
– Приказ о казни? Вот он, Шарль, и не находишь ли ты, что этот стоит другого?
С ловкостью и проворством, которых едва ли можно было ожидать от человека его лет, старик соскочил со своей бочки и оттолкнул разбойника.
– Милостивый государь, – сказал он, – вы должны были убедиться, что всякая попытка к сопротивлению и упорству бесполезна. Эти господа желают насладиться казнью по всем принятым правилам, так что ни в чем не будет недостатка, – ни даже в вас, и если бы вы знали как велико их упрямство, то избавили бы нас от совершенно лишних и бесполезных возражений и упорства. Наконец, чтобы избавить вас от всякого угрызения совести, я вместе с этими господами уверяю вас, что человек, на котором вам придется показать свои дарования, виновнее всякого, кто когда-либо качался на услужливой веревке, о которой вы только что нам говорили.
– Нечего сказать, вы мне предлагаете славное поручительство, – сказал резким голосом Сансон де Лонгеваль. – Моя шпага есть меч закона – знайте это. Она обнажается против вас, но для вас никогда не выйдет из ножен. Если вы хотите совершить убийство, обратитесь к вашим кинжалам и, наверное, не получите отказа.
В кружке поднялся гневный ропот; старик сделал знак рукой, и все умолкли снова.