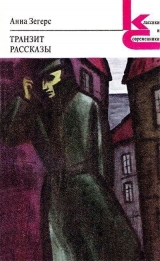
Текст книги "Транзит"
Автор книги: Анна Зегерс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
VII
Когда я возвращался к себе в отель, меня окликнула хозяйка. Как всегда, она выглядывала из окошечка своей каморки под лестницей. Я еще никогда не видел ее во весь рост – только голову и плечи в окошке. С этого поста она равнодушно, но внимательно наблюдала за тем, как входят и выходят ее постояльцы. Она сказала, что мне повезло – в мое отсутствие полиция вновь устроила облаву и увела мою соседку.
– Почему?
– Потому, что она проживает в Марселе одна – ведь в прошлый раз увели ее мужа. Всех женщин, которые живут в Марселе без мужей, не имея при этом соответствующих удостоверений, отправляют теперь в новый женский лагерь под Бомпаром.
Хозяйку все это нисколько не трогало, это было ясно Она откладывала каждый франк, который ей удавалось выманить из своих ненадежных клиентов, чтобы как можно скорее купить себе бакалейную лавку. Возможно, она даже была связана с кем-нибудь из полиции, например с агентом, проводившим эти облавы, – ведь она все про нас знала. А затем он делил с ней ту премию, которую получал за удачную охоту на человека. Она была весьма предприимчива в своем тихом убежище. Рыдания и отчаяние арестованных в конечном счете превращались в ее голове в горох мыло и макароны – в товары ее будущей лавки.
На следующий день я попробовал последовать совету Паульхена. Я посетил несколько комитетов, но всюду потерпел неудачу. Сначала я говорил правду – жду, мол, работы на ферме, и мне нужно немного денег, чтобы некоторое время перебиться. Но в ответ все только пожимали плечами. Я не получил ни гроша, и у меня не было даже мелочи на сигареты. Тогда я послал ко всем чертям правило, которое мне с детства вдолбили мои родители и которому я все еще невольно следовал: человек должен держаться до последнего и сдаваться только тогда, когда дальнейшая борьба уже невозможна. Итак, я стал рассказывать в комитетах, что решил все бросить и уехать. Это было понятно. Попроси я у них денег на покупку ну хотя бы мотыги, чтобы сажать репу на каком-нибудь клочке земли, то есть захоти я еще раз попытать счастья в Старом Свете, они бы не дали мне и пяти франков. Ведь они помогали только тем, кто стремился уехать прочь, кто все бросал. Вот я и сделал вид, что рвусь уехать, и сразу же получил приличную сумму «на время ожидания парохода». Я заплатил за комнату, купил себе сигареты, а мальчишке Бинне – книги.
Второй месяц пребывания в Марселе не подошел еще к концу, но уже перевалил за середину.
Тем временем Мишель написал мне, что с дядей у него отношения неплохие и что весной я, наверно, смогу приехать на ферму. Но сообщи я в Управление по делам иностранцев истинную причину моего ожидания, меня бы немедленно засадили за решетку либо отправили назад, черт знает куда. Беженцы должны бежать – и чем дальше, тем лучше, – а не выращивать персики. Чтобы снова продлить вид на жительство в Марселе, мне нужно было получить еще одну справку, подтверждающую, что я жду визу. Значит, волей-неволей мне пришлось снова отправиться в мексиканское консульство. «В том, что я возьму такую справку, нет ничего плохого, – думал я тогда, – я ведь ее ни у кого не отнимаю, просто она мне позволит как следует отдышаться. А за это время может произойти немало событий, которые изменят мою жизнь. Ведь не исключено, что я смогу, не дожидаясь весны, отправиться на ферму к Мишелю. Главное – сохранить свободу». Так думал я в то время, так все мы думали уже не первый год. В худшем случае какой-то чиновник поставит какую-то печать на какую-то бумажку. Покойному Вайделю это вреда не принесет. Зато я получу еще на некоторое время вид на жительство в Марселе, а это мне необходимо. Я твердо верил, что если мне удастся раздобыть этот документ, то я смогу здесь обжиться по-настоящему и, как знать, избавлюсь, быть может, от своей страсти к постоянным переездам.
Сердце у меня сильно билось, когда я шел вверх по бульвару Мадлен. Сперва я подумал, что ошибся номером. Герб не висел больше над входной дверью! Ворота были заперты!
На улице перед домом на ледяном ветру топтались сбитые с толку люди.
– Консульство закрыто в связи с переездом в другое помещение… – Слова их звучали как стон. – Виз больше не выдают. Мы не сумеем уехать. На этой неделе, говорят, уходит последний пароход… Быть может, завтра придут немцы…
– Нечего зря волноваться, – вдруг громко сказал бородатый человек в форме французской трудовой армии. – Немцы, возможно, и придут, но в ближайшие дни наверняка никакого парохода не будет. Так что есть у вас виза или нет – один черт. Расходитесь-ка лучше по домам!..
Но люди не расходились. Гонимые страхом, они бесцельно кружились перед зданием, где прежде помещалось консульство, словно осенние листья, взвихренные порывом ветра. Видимо, люди все еще надеялись, что железные ворота сжалятся над ними и распахнутся. Они были настолько измождены, что, казалось, пароход, которого они так страстно ждали, был лодкой Харона, но и эта лодка была для них недостижима, потому что в них еще теплилась жизнь, и это обрекало их на нескончаемые страдания.
Наконец все разошлись. Остался только высокий старик с гривой блестящих седых волос.
– С меня хватит, – мрачно сказал он. – Надеюсь, вы не считаете, что я должен идти искать новое помещение консульства? Все мои дети погибли в гражданскую войну. Жена скончалась, когда мы переходили через Пиренеи. Я все пережил… Смерть почему-то не берет меня. У меня седая голова и истерзанное сердце, зачем мне, молодой человек, воевать здесь, в Марселе, с этими сумасбродными консулами?
– Этот маленький мексиканский консул вовсе не сумасброд, – возразил я, – и обращается он с вами наверняка почтительно.
– Да, но ведь все дело в транзитных визах, – ответил мне старик. – Если даже я получу мексиканскую визу, мне придется начать бесконечные хлопоты, чтобы добиться транзитных виз. – Я хочу, чтобы пароход затонул в пути. Этого желания я не в силах в себе подавить. Так какой же мне смысл еще раз идти в мексиканское консульство, которое на днях снова откроется?
– Да, смысла нет, – согласился я.
Старик пристально посмотрел на меня и ушел.
VIII
Я тоже ушел. Я направился вниз по улице. Трамвай обогнал меня и остановился метрах в пяти. На остановке произошла какая-то заминка. Кому-то помогали выйти из вагона.
– Гейнц! – заорал я.
И в самом деле, на асфальте мостовой стоял Гейнц. Опираясь на костыли, он медленно заковылял вверх по бульвару Мадлен. Он меня тоже узнал, но так задыхался, что не мог ответить.
Со времени лагеря он еще больше высох. Голова его казалась еще тяжелей, а плечи – еще уже. Глядя на него, я впервые изумился тому, что жизнь заперта в слабом теле, которое можно увечить и мучить. Да, именно заперта. В его ясных глазах искрилась насмешка над собственной беспомощностью, а большой рот кривился от напряжения.
Когда мы были в лагере, я часто пытался, причем самым нелепым способом, привлечь к себе его внимание.
Обычно он с глубочайшей сосредоточенностью вдруг останавливал на ком-нибудь свой взгляд и всякий раз обнаруживал что-то такое, от чего ясный свет его глаз вспыхивал еще ярче, – словно костер, в который подбросили охапку хвороста.
Быть может, поэтому я всегда искал случая завладеть его взглядом. Ведь даже во мне Гейнц находил что-то, сам не знаю, что именно, – нечто такое, что, мне казалось, я уже давным-давно утратил. И только пока глаза Гейнца были устремлены на меня, я чувствовал по его светлеющемy взгляду, что это не так. Но при этом я понимал, как мало общего может быть у Гейнца со мной. Ему нравились качества, которых у меня уже не было и которые я не ценил – тогда, во всяком случае, я был в этом уверен. Такие, как безусловная верность, казавшаяся мне в то время бессмысленной и скучной, или надежность, в которой я все равно сомневался, или неколебимая вера, ставшая для меня чем-то наивным и бесцельным. Все это напоминало мне торжественное шествие со знаменами былой воинской славы по бескрайному полю боя. И всякий раз, когда Гейнц отводил от меня глаза, у него вырывался жест, который я понимал так: «Конечно, ты тоже человек, но…»
После этого гордость удерживала меня от попытки сблизиться с ним до тех пор, пока другие чувства не оказывались сильнее, и тогда я снова старался привлечь к себе его взгляд – иногда тем, что предлагал ему помощь, а иногда дурачествами. Все это вдруг всплыло в моей памяти, пока Гейнц ковылял мне навстречу. За последние недели я почти забыл Гейнца, забыл, что меня с ним связывало. Да, в Париже и позднее, по пути в Марсель, я много думал о нем и даже бессознательно искал его в потоке несчастных беженцев, потоке, который захлестнул все дороги и вокзалы. Но в Марселе он у меня совершенно вылетел из головы. Ведь часто вопреки обычным представлениям быстрее забываешь самое главное, забываешь потому, что оно не? заметно становится как бы частью тебя самого. А всякая чушь постоянно приходит на ум именно оттого, что она никак не растворится в сознании.
Когда Гейнц на мгновение ткнулся в мою грудь головой – он не мог выпустить костылей из рук – и когда его взгляд снова встретился с моим, я вдруг понял, что искали во мне его светлеющие глаза и что они сразу нашли: меня самого, и только. И я, к своей величайшей радости, вдруг осознал, что я все еще существую, что я не погиб ни на войне, ни в концлагере, ни от рук фашистских палачей, ни во время бесконечных странствий, ни от бомбежек, ни от всеобщей неразберихи, как бы велика она ни была, я не погиб, я не истек кровью, я был жив, и я стоял сейчас здесь, и Гейнц тоже стоял рядом со мной.
– Откуда ты? – одновременно спросили мы друг друга.
– Я спустился в Марсель с гор. Только что на твоих глазах вылез из трамвая. Первым делом я должен пойти в мексиканское консульство.
Я объяснил ему, что консульство на несколько дней закрыто. Мы сели за столик в каком-то маленьком грязном кафе. Тогда еще четыре раза в неделю пирожные продавали без карточек, и я побежал за ними. Гейнц засмеялся, когда я вернулся с большим пакетом, и сказал:
– Я ведь не девушка.
Но я заметил, что он, видимо, давно уже не ел ничего подобного.
– Мои друзья унесли меня от немцев, – рассказал он. – Несли по очереди. Так мы добрались до Луары. Я здорово страдал – можешь мне поверить, – что был для них обузой. Однако на Луаре нам встретился рыбак, который сказал, что только ради меня перевезет нас всех на тот… берегу И этим я как бы расквитался с моими товарищами. Но с нами был один парень – ты, верно, помнишь его – Гартман, – ему пришлось остаться, потому что лодка была перегружена. Понимаешь, он заставил меня поехать, а сам остался.
– Удивительно, – сказал я, – что ты все же добрался до Луары быстрее меня. Меня ведь немцы обогнали.
– Это потому, что ты, видно, был один… Так вот, чтобы я снова не угодил в лагерь, меня спрятали в одной деревушке в департаменте Дордонь. А теперь мне достали визу. Надо же, чтобы консульство оказалось закрыто именно в тот день, когда я приехал в Марсель! – Он взглянул на меня, засмеялся и сказал: – А я иногда думал о тебе во время своих странствий.
– Обо мне?
– Да, я обо всех думал и о тебе тоже. Каким ты всегда был неспокойным, в любую минуту готов был сорваться с места. То одно тебе взбредет в голову, то другое. Я был уверен, что когда-нибудь еще встречусь с тобой. Что ты здесь делаешь? Тоже хочешь уехать?
– Нисколько! – возразил я. – Я должен своими глазами увидеть, чем все это кончится.
– Если только хватит нашей жизни, чтобы увидеть конец. События этих лет меня здорово покорежили. Если бы ты только знал, как мне горько уезжать. Но мое имя стоит в списке «преступников», которых немцы требуют им выдать. И все же я остался бы, если бы не потерял ногу. Ведь теперь одно мое появление в любом публичном месте уже самодонос.
– Я хорошо знаю город, – сказал я. – Может, я могу тебе чем-нибудь помочь? Ты еще, чего доброго, от меня и помощи принять не захочешь?
Гейнц улыбнулся, пристально посмотрел на меня, и его глаза снова зажглись тем же ясным светом, что и прежде, когда мы встретились на улице. И я вновь почувствовал, что во мне есть еще нечто такое, от чего его глаза светлеют.
– Я знаю тебя достаточно хорошо. Какую бы штуку ты ни выкинул, как бы ни разошелся, каких бы глупостей ни натворил, я все равно убежден, что никогда, ни при каких обстоятельствах ты меня не подведешь.
Почему он мне раньше этого не сказал, до того как нас всех перемололи события последних месяцев? Я спросил его есть ли у него документы.
– У меня есть отпускное свидетельство из лагеря. – Как ты сумел его раздобыть? Ведь мы все вместе перелезли ночью через стену.
– Один из нас не растерялся и в последнюю минуту, когда все в лагере уже пошло вверх тормашками, сунул в карман пачку пустых бланков отпускных свидетельств. Потом я заполнил бланк на свое имя. На основании этого документа я получил разрешение на жительство в той деревне, где меня спрятали. Теперь у меня есть документ.
В кармане у Гейнца было еще несколько пустых бланков. Он дал мне один из них и объяснил, что не надо писать там, где стоит печать. Надо постараться так заполнить бланк, чтобы казалось, что печать поставлена на нем в последнюю очередь.
Я попросил Гейнца еще раз встретиться со мной.
– Быть может, – сказал я, – я смогу быть тебе полезным. Я хорошо знаю район Старой гавани, места, где можно спрятаться. Кроме того, мне хотелось бы с тобой поговорить. В голове у меня вертятся разные мысли, с которыми я не могу справиться.
Гейнц внимательно посмотрел на меня, и вдруг я понял, что дела мои обстоят из рук вон плохо. Правда, меня это не очень-то беспокоило, но не признаться себе в этом я уже не мог. Молодость моя больше не повторится, а она идет прахом. Я растратил ее, мотаясь по концентрационным лагерям, скитаясь по дорогам, ночуя в номерах грошовых гостиниц, обнимая нелюбимых девушек. А впереди маячила ферма на берегу моря, где меня будут терпеть из милости. И я сказал вслух:
– Жизнь моя идет прахом…
Гейнц назначил мне свидание ровно через неделю, в тот же день, в тот же час, в том же кафе. Я по-детски радовался предстоящей встрече. Считал дни. И все же в конце концов я не пришел на свидание. Так уж вышло…
Глава четвертая
I
Как-то поздно вечером ко мне вдруг пришел Жорж Бинне. Он был единственным человеком в Марселе, который знал, где я живу. Но до этого он никогда не бывал у Меня. Так далеко наша дружба в то время еще не зашла. Жорж сказал, что их мальчик внезапно заболел. Что-то вроде астмы. Приступы бывали и прежде, но не такие сильные. Нужно срочно найти врача.
– Правда, поблизости живет один врач, – объяснил мне Жорж. – Он обосновался в корсиканском квартале лет десять назад, когда его выгнали с флота. Но он пьяница и неопрятен. А Клодин уверяет, что среди немцев-беженцев есть хорошие врачи. Она просит тебя помочь нам найти врача.
С первого дня знакомства с Жоржем Бинне я привязался к мальчишке. Ради него я часами простаивал в каких-то дурацких комитетах, чтобы на деньги, которые там выдавали беженцам, ожидавшим отъезда, купить ему то, о чем он мечтал. Болтая с Бинне, я всегда поворачивался к окну, у которого мальчик готовил уроки. А если я что-нибудь рассказывал, то бессознательно выбирал понятные ему слова. Иногда я брал его с собой – мы катались на лодке или гуляли в горах. Сперва он был молчалив. Когда он порывисто вскидывал голову, когда глаза его вдруг загорались, я думал, что в нем просто играет кровь, как в молодом жеребенке. Но все равно мне это нравилось. Я жил в свихнувшемся мире, номеня иногда успокаивал безмятежный, еще невинный взгляд ребенка; кроткое и гордое движение, которым Клодин предлагала мне рис; радостная улыбка мальчика при моем появлении. Потом я обнаружил, что ничто не ускользало от его внимания. И что он знал о нас всех куда больше, чем мы о нем. И эта внезапная болезнь, серьезность которой я тогда, безусловно, преувеличил, показалась мне покушением на его жизнь, попыткой каких-то неведомых мне сил – а может быть; просто грубой, тупой, подлой действительности – избавиться от него, навсегда закрыть его загорающиеся, пытливые глаза. Мне еще больше, чем Жоржу, не терпелось найти врача. Я навел справки в своем отеле. Меня послали в отель «Омаж» на улице Релэ – узенькой улочке возле Кур Бельзенс; там, в номере 83, живет в прошлом знаменитый врач, бывший директор дортмундской больницы. Из-за слова «в прошлом» я ожидал увидеть старика. Я совсем забыл, что для беженцев время оборвалось в день их отъезда с родины. Когда я постучал в дверь номера 83, я услышал молодой встревоженный женский голос. Женщина кого-то успокаивала, должно быть, Врача. Видно, они испугались этого позднего стука – уж не полиция ли? Затем дверь открылась, но никто не вышел ко мне. Я увидел только голубую шелковую кайму на узком запястье. Я почувствовал легкое волнение – что-то вроде ревности, которая мучает меня иногда без всякого основания, – быть может, оттого, что этот незнакомый мне врач был таким известным и талантливым, что люди нуждались в нем, что он, возможно, был вовсе не старым, а женщина – кто знает – была нежной и красивой…
– Мне нужен врач, – сказал я.
И женский голос повторил, как мне показалось, не без радости:
– Нужен врач.
И тотчас же в дверях появился мужчина. Таким я и представлял себе врача. У него были волосы с сильной проседью и молодое лицо. И все же, несмотря на его молодость, на нем лежал отпечаток профессии. Тысячу или даже две тысячи лет назад врач, наверно, выглядел точно так же – тот же кивок головы, те же внимательные, пристальные и вместе с тем бесстрастные глаза, которые несметное число раз останавливались на людях, измученных физическими страданиями. В тот вечер мы едва обратили внимание друг на друга. Он коротко спросил меня о больном. Но мои сведения были для него недостаточно точными. Я так волновался за мальчика, что не мог ничего толком объяснить.
Мы молча пересекли пустынную, почти незастроенную Кур Бельзенс. На ее северной стороне все еще стояли фургоны беженцев. На веревке висело белье.
В окошке одного из фургонов горел свет. Оттуда доносился смех.
– Люди давно забыли, – сказал мой спутник, – что у фургонов есть колеса. Этот уголок на Кур Бельзенс кажется им теперь родиной.
– Пока их не прогонит отсюда полицейский.
– На другой конец площади – не дальше. А потом второй полицейский снова пошлет их назад. Им хоть не придется, как нам, пересекать океан.
– Вы, доктор, тоже хотите пересечь океан?
– Я вынужден это сделать.
– Почему?
– Да потому, что хочу лечить больных. Мне обещали дать отделение в больнице в Каксакасе. Если бы эта больница находилась на Кур Бельзенс, мне не пришлось бы пускаться в такое путешествие.
– А где это, Каксакас?
– В Мексике, – сказал он с удивлением.
– Так вы тоже собираетесь в Мексику? – воскликнул я с еще большим удивлением.
– Мне случилось как-то, много лет назад, вылечить сына одного крупного мексиканского чиновника.
– Трудно туда добраться?
– В том-то и дело, что чертовски трудно. Прямых пароходов нет. Вся сложность заключается в транзитных визах. Видимо, придется ехать американским пароходом. А значит, надо пересечь испанские и португальские воды. Теперь, говорят, иногда удается попасть в Мексику и другим путем: доехать на французском пароходе до Мартиники, а оттуда добираться через Кубу.
«Этот человек – врач до мозга костей, – подумал я. – Он нужен людям. Ему и в самом деле надо уехать. Не то что этому маэстро с черепом мертвеца, которому во что бы то ни стало хочется еще раз помахать дирижерской парочкой».
На пустыре, расположенном между родильным домом и Арабским кафе, спали двое нищих, тех самых, что лежат там всегда и днем. Руки, которые они день-деньской тянули за милостыней, служили им теперь подушкой. Нищие безмятежно спали на своей родной земле, им не было дела до того, что происходит вокруг. Стыд был им так же неведом, как и прогнившим деревьям, которые превращаются в труху. Бороды нищих кишели вшами, кожа покрылась струпьями. Так же как и у деревьев, у них не могло возникнуть желания покинуть свою родину.
Мы пересекли улицу Республики, совсем пустынную в этот час. Когда мы проходили по лабиринту переулков в районе Старой гавани, врач внимательно глядел по сторонам, запоминая, видимо, дорогу, чтобы не заблудиться, когда он будет один возвращаться домой. Ночь была тихая и холодная.
Я стукнул молотком в дверь на улице Шевалье Ру. Врач бросил острый взгляд на Клодин – мать ребенка, которого он должен вылечить. Затем он быстро прошел через крохотную кухню, прямо к кровати мальчика. Он сделал нам знак, чтобы мы вышли из комнаты. Жорж уже отправился на свою мельницу. Клодин, присев за кухонный стол, подперла рукой голову. Нежно-розовая полоска ладони подчеркивала линию ее подбородка. До сих пор я любовался Клодин, словно она была цветком или раковиной, только теперь, когда у нас появилась общая тревога, Клодин превратилась для меня в обыкновенную женщину, которая день-деньской работает, заботится о муже и ребенке, бьется из последних сил.
Для Жоржа Клодин была не чудом, а чем-то более обыденным и вместе с тем куда более значительным. Она стала меня расспрашивать о враче, а я все из того же странного чувства ревности рассыпался в похвалах. Вскоре он сам вошел в кухню. Он успокоил Клодин, сказав ей на хорошем французском языке, без всякого акцента, что болезнь кажется страшнее, чем есть на самом деле, что сейчас главное – ничем не волновать ребенка. Мне показалось, что это последнее замечание относилось ко мне, хотя на меня он и не взглянул, да мне и не в чем было себя упрекнуть. Он выписал рецепт. Несмотря на его возражения, я проводил его до улицы Республики. Он и теперь не глядел на меня и не задал мне ни одного вопроса о семье Бинне, словно он ни во что не ставил чужие рассказы и до всего хотел дойти сам. Я чувствовал себя школьником, которому и нравится новенький, и вместе с тем досадно, что тот не обращает на него никакого внимания. На деньги, полученные иной от какого-то комитета «для подготовки отъезда», я тут же, ночью, купил лекарство.
Когда я снова поднялся, к Бинне, мальчик уже совсем успокоился. Глядя на нас сонными глазами, он рассказал; что врач обещал ему принести завтра разнимающийся муляж человеческого тела. Засыпая, мальчик все еще говорил о враче. «Он был здесь всего десять минут» – подумал я, – и уже ребенок живет его обещаниями. У мальчишки появились новые мечты, ему открылся целый новый мир».








