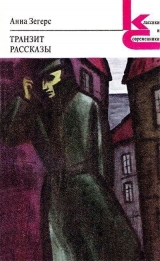
Текст книги "Транзит"
Автор книги: Анна Зегерс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
VIII
Я теперь ежедневно виделся с Мари. Иногда мы заранее уславливались, иногда встречались случайно. Иногда мил сама мне говорила, что разыскивала меня по кафе. Теперь она искала меня, а не покойника. Я клал руку на пол, потому что знал, что Мари коснется ее. Она садилась совсем рядом со мной. Мне тогда казалось, что обстоятельств складываются в мою пользу.
Прислонившись головой к моему плечу, она молча сплела и разглядывала людей, которых, словно кофе в кофейной мельнице, прокручивала в зал вертящаяся дверь. «Вот так, – думал я, – перемалываются их души и тела по нескольку раз в день». Многих из них я знал, кое с кем была знакома Мари, и иногда мы рассказывали друг другу то, что нам было известно об их мытарствах в погоне за низами.
– Мы тоже принадлежим к их числу, – сказала Мари. Я хотел было возразить ей, но промолчал, потому что в то время мне иногда казалось, что я готов с ней уехать. Остаться с ней здесь? Уехать с ней? Вот две мысли, которые меня тогда терзали.
– День тянется долго, – сказала Мари. – Даже один день тянется долго, когда ничего не делаешь и только ждешь. А если сложить вместе все эти долгие дни, то получится целая пропасть времени. Я сама уже больше не верю, что мой муж находится в городе. Нет никакого смысла его искать. Все равно разминешься. Быть может, он поселился где-нибудь на берегу моря, в одной из окрестных деревень. Быть может, он только изредка приезжает в Марсель… Буду ждать, пока он сам не разыщет меня.
– Ты и без него получишь визу, – сказал я. – У меня есть все основания надеяться.
– Допустим, получу. Что тогда?
– С этой визой ты получишь транзитные визы, а потом разрешение на выезд. Так ведь это делается.
Мари промолчала. Еще минуту назад она была веселой и оживленной, а теперь сидела помрачневшая и печальная, все так же прижавшись головой к моему плечу, не отнимая у меня своих рук, и пристально всматривалась в лица людей, проходивших мимо нас.
Вдруг у меня закралось подозрение, что, быть может, она позволяет мне брать ее за руку, ищет моего общества лишь затем, чтобы я достал ей эту проклятую визу и она могла бы уехать с другим. Разве не пыталась она ради этого помириться с покойником? Я с недоверием, искоса взглянул на нее. Я увидел на ее бледном лице тени от густых ресниц и перестал задавать себе вопросы. Главное – я был жив и она сидела рядом со мной.
– Откуда ты, собственно, родом? – спросил я.
Я обрадовался, потому что печальное выражение мигом слетело с ее лица, словно я напомнил ей о чем-то хорошем.
– Из Лимбурга на Лане, – ответила она, улыбнувшись.
– А кто были твои родители?
– Почему были? Я надеюсь, они еще живы. Они, наверно, живут по-прежнему в нашем старом доме на нашей старой улице. Теперь умираем мы, молодые. Мне кажется, мои старики после свадьбы ни на день не расставались. Когда я была ребенком, мне становилось как-то не по себе в низких комнатах, в кругу моих родных. Их разговор журчал, не иссякая, тоненько и нежно, как ручеек под нашими окнами. Я всегда мечтала уехать далеко, далеко. Ты можешь это понять? Осенью изгородь, окружавшая наш двор, становилась красной от винограда. А весной там цвели сирень и боярышник.
– Наверно, они и сейчас цветут там каждую весну, – сказал я.
– А осока у пруда…
– Может быть, ты просто хочешь вернуться назад?
– Вернуться назад? Такого совета мне еще никто не давал… Совет, возможно, и неплохой, но…
– Да, но… – И я повторил слова Клодин: «Опавший лист, гонимый ветром, скорей бы вернулся на свою ветку…»
– Человек не лист, – сказала она как бы в пространство. – Он может идти куда захочет. Он может и назад вернуться.
Ее ответ поразил меня, как поражает порой мудрый ответ ребенка на глупые вопросы взрослых.
– Как ты, собственно говоря, встретилась с Вайделем?
Ее лицо потемнело. Я пожалел, что задал этот вопрос.
И вдруг она ясно улыбнулась:
– Я гостила у родных в Кёльне. Как-то раз я сидела на скамейке в Ханзаринге. Вдруг подошел Вайдель и сел рядом со мной погреться на солнышке. Мы стали болтать. До этого никто еще со мной так не разговаривал. Такие люди, как он, никогда не бывали у нас в доме. Слушая его, я забыла, что у него угрюмое лицо. Забыла, что он такой коротышка… Мне кажется, что я тоже его удивила. До тех пор он жил всегда один. Мы стали часто встречаться. Я гордилась тем, что провожу время с таким умным и взрослым человеком. Потом он мне сказал, что должен уехать, потому что больше не в силах мириться с жизнью в этой стране. Это было в тот год, когда Гитлер пришел к власти. Правда, мой отец тоже терпеть не мог Гитлера, однако легко мирился с этой жизнью. Я спросила Вайделя, куда он собирается ехать. «Далеко и надолго», – ответил он мне. «Я бы тоже охотно посмотрела чужие страны», – сказала я ему. Тогда он спросил меня, хочу ли я поехать вместе с ним – как в шутку спрашивают детей. «Хочу», – сказала я. «Ладно, – ответил он все тем же шутливым тоном, – сегодня вечером мы уедем». Вечером я ждала его на вокзале. Когда он увидел меня, его лицо стало таким страшным, что и задрожала. Он все глядел и глядел на меня. Ты должен понять, ведь он почти всегда был один. Да и внешне он был далеко не привлекателен. Скорее наоборот – уродлив и неприятен с виду. А я… я была так молода… Понимаешь, он был не из тех, в кого… Понимаешь, в кого легко влюбляются. Он с минуту подумал, потом сказал: «Хорошо, поедем со мной». Как просто все это началось. Проще всего на свете. И как потом все запуталось. Почему? Каким образом? Мы поехали на юг. Мы переправились через Боденское озеро. Он мне все показывал, всему меня учил. И в конце концов постепенно я устала быть его ученицей. А он – он ведь привык быть один. Мы ездили из города в город. Наконец мы попали в Париж. Он часто усылал меня из дому. Мы были бедны, мы жили в одной комнате. И. мне приходилось часами слоняться по улицам, чтобы он мог пить один…
Вдруг лицо ее изменилось, она побледнела как полотно, пристально вглядываясь в праздную толпу за окном.
– Вот он идет! – крикнула она.
Я схватил ее за плечо, но она диким рывком высвободилась. Я увидел, на кого она смотрит. Это был малорослый, плотный, седой человек с угрюмым выражением лица. Он вошел в «Мон Верту» и покосился на Мари, как мне показалось, строго, с досадой. На меня он тоже взглянул с неприязнью. Я еще крепче схватил ее за плечо, встряхнул и заставил сесть на место.
– Прекрати это безумие! – сказал я. – Возьми себя в руки. Этот человек – француз. Погляди, у него ленточка Почетного легиона.
Человек остановился посреди кафе, выражение его лица изменилось с поразительной быстротой, он весело улыбнулся. Эта улыбка успокоила Мари больше, чем красная ленточка в петлице.
– Уйдем отсюда! – сказала она.
Мы быстро вышли на улицу. Мы кружили по лабиринту переулков у Старой гавани, но на этот раз уже вдвоем, на этот раз рука моя лежала у нее на плече.
– Он в самом деле похож на Вайделя? – спросил я.
– Сперва мне показалось… Немного…
Мы шли и шли, не останавливаясь, словно над нами тяготело какое-то проклятие. Вернее, это проклятие тяготело над Мари, а я не оставлял ее одну. В каком-то узеньком переулке-колодце мы пробежали мимо дома, дверь которого была задрапирована черными, окаймленными серебром шарфами. Это означало, что дом посетила смерть. В темноте эта задрапированная дверь убогого жилища походила на мрачный дворцовый портал. Мы вбежали в переулок, который кончался лестницей. Мы поднялись по этой лестниц е – внизу лежало море. Я по-прежнему крепко обнимал Мари за плечи. Небо было звездное. Уже взошел месяц. Глаза Мари светились. Она глядела на море. Я поймал на ее лице отблеск мысли, которую она мне никогда не поверяла, которую, быть может, вообще не высказывала вслух. Я почувствовал вдруг какое-то непостижимое, ненавистное мне единство между этой мыслью и морем, столь же непостижимым и ненавистным мне в эту минуту. Она отвернулась, и мы молча спустились вниз. И снова принялись кружить по переулкам, пока не вошли наконец в пиццерию. Насколько мне стало легче, когда я увидел огонь в открытой печи! Как он озарил ее лицо!..
IX
Мы выпили уже довольно много розе, когда вошел врач. Мари утаила от меня, что она условилась с ним встретиться в пиццерии. Я хотел было уйти, но оба попросили меня остаться, попросили с такой настойчивостью, что я понял – они не хотят быть наедине.
– Ну как дела с визой Мари? – спросил меня врач. Он ежедневно задавал мне этот вопрос. – Так вы полагаете, что все получится?
– Да, если только вы предоставите мне свободу действий, – ответил я, как отвечал ежедневно. – Лишние разговоры могут испортить все дело.
– «Поль Лемерль», должно быть, все-таки отплывет в этом месяце, – сказал врач. – Я только что заходил в контору «Транспор маритим».
– Послушай, дорогой, – вдруг ясным, звонким голосом весело сказала Мари. Она выпила уже стакана три розе. – Если бы ты точно знал, что я никогда не получу визы, ты все равно уехал бы на «Поле Лемерле»?
– Да, дорогая, – ответил врач. Он еще не прикоснулся к своему первому стакану. – Д а ж е если бы я это знал, на этот раз я бы уехал.
– И оставил бы меня одну?
– Да, Мари.
– Хотя ты мне и говорил, – сказала Мари несколько капризным, но бодрым тоном, – что я – твое счастье, твоя большая любовь?
– По ведь при этом я всегда тебе говорил, что на земле существует нечто, что мне дороже счастья, дороже большой любви.
Тут я пришел в бешенство.
– Да выпейте хоть сначала! Пейте, черт побери, чтобы нас догнать! Может, тогда вы скажете что-нибудь более разумное.
– Нет, нет, – крикнула Мари все тем же капризно-веселым тоном, – не пей! Сперва скажи мне честно, сколько пароходов ты пропустишь ради меня?
– В крайнем случае – «Поль Лемерль», но и на это твердо не надейся. Это я тоже еще как следует обдумаю.
– Вы слышали, что он говорит? – обратилась ко мне Мари. – Если вы в самом деле хотите мне помочь, то помогайте поскорее.
– Послушайте, – подхватил врач, – отъезд Мари – дело решенное. Помогите ей, дорогой друг. Немцы могут каждый день пересечь устье Роны, тогда мышеловка захлопнется.
– Все это вздор! – крикнул я. – Все это не имеет ни малейшего отношения к вашему отъезду. Впрочем, смотря по тому, что именно заставляет вас уехать. Сам отъезд покажет, что для вас основное: страх, любовь или преданность нашей профессии. Все прояснится благодаря тому решению, которое вы примете, иначе и быть не может! Ведь мыто, во всяком случае, живые люди, а не бесплотные духи, мы можем уехать.
Наконец врач осушил свой первый стакан.
– Вы придаете большое значение любви между мужчиной и женщиной, – сказал он, словно Мари здесь не было.
– Я? Ничего подобного! Куда выше я ставлю менее яркие и менее романтические страсти. Но, к сожалению, с этим преходящим и сомнительным чувством обычно сплетается нечто бесконечно серьезное. Меня всегда смущало, что самое важное в жизни неотделимо от мимолетного и ничтожного. Например, не бросать друг друга на произвол судьбы в нынешней бестолковой, путаной, я бы сказал, «транзитной» жизни – это уже нечто бесспорное, определенное и, так сказать, не транзитное.
Мы оба вдруг посмотрели на Мари, которая слушала нас затаив дыхание. Ее глаза были широко раскрыты, а щеки порозовели от жара печи. Я схватил ее за руку.
– Помните, как вас учили в школе, как вам говорили на уроке закона божьего: «Все преходяще, все мы смертны «. Но можно погибнуть и раньше срока. Если мышеловка захлопнется, если будут бомбить город, наше бренное тело может быть разорвано в клочья, может обуглиться. Как это у вас, врачей, называется? Ожог первой, второй и третьей степени.
Тут принесли большую пиццу, которую заказал врач для нас троих. Вместе с пиццей принесли и новую бутылку розе. Мы быстро выпили по стакану.
– В известных французских кругах рассчитывают, – сказал врач, – что этой весной деголлевцы уже перейдут к действиям.
– Я в этом плохо разбираюсь, – сказал я, – но мне кажется, что народу, который столько раз предавали и бросали на произвол судьбы, который заставляли зря проливать кровь, который вконец изверился, – такому народу нужно некоторое время, чтобы прийти в себя.
– Я тоже не думаю, что вон тот молодой пекарь, который месит сейчас тесто для пиццы, захочет этой весной умереть, – сказал врач.
– Вы меня неправильно поняли! – крикнул я. – Я вовсе не это хотел сказать. Почему вы позволяете себе оскорблять этого парня, когда день и ночь ваша голова занята только одним – как бы половчее удрать? Его час еще не пробил…
– Отпустите, пожалуйста, руку Мари, – сказал врач. – Вы ведь исчерпали все свои доводы.
Мы выпили все вино, которое оставалось.
– У меня больше нет хлебных талонов, чтобы заказать вторую пиццу, – сказала Мари.
Мы поднялись и направились к дверям. Только когда мы вышли из полосы света, которую отбрасывала печь, я заметил, как бледна Мари.
X
Мы встретились с Мари в маленьком кафе на площади Жана Жореса. Словно сговорившись, мы оба избегали теперь больших кафе на Каннебьер. Она молча села против меня. Мы долго молчали.
– Я была в мексиканском консульстве, – сказала она наконец.
Я растерялся.
– Зачем ты это сделала? – воскликнул я. – Даже не посоветовавшись со мной! Ведь я же тебе запретил предпринимать самой что бы то ни было!
Она с удивлением взглянула на меня.
– Моя виза еще не пришла, – сказала она тихо. – Консул заверил меня, что это вопрос дней. Но ведь отплытие «Поля Лемерля» тоже вопрос дней. В пароходстве сказали, что «Поль Лемерль» уйдет раньше объявленного срока. На этот счет будто бы есть специальный приказ правительства. Мексиканский консул говорил со мной вежливо, даже более чем вежливо. Да ты с ним, наверно, знаком, ты же там часто бываешь, знаешь все ходы и выходы. Удивительный человек! Похож на маленького черта. В любом другом консульстве ты сам себе кажешься полным ничтожеством, потому что ты для консула пустое место, привидение, вышедшее из досье. А в мексиканском – все наоборот. Ты обратил внимание на его глаза? Можно подумать, что из досье он узнает всю твою подноготную. Он поглядел на меня и выразил сожаление – очень вежливым тоном, но при этом не спуская с меня невежливо любопытных глаз, – что мои муж не просил визу для меня в то время, когда хлопотало своей.
Подавив в себе страх, я спросил Мари:
– Что же ты ему на это ответила?
– Ответила, что меня тогда еще не было в Марселе. Но консул возразил все так же вежливо и по-прежнему не отводя от меня все того же взгляда, словно смеясь над моим глупым враньем, что я, должно быть, что-то путаю. Ведь к моменту подтверждения личности моего мужа я давно уже была в Марселе. Конечно, в таком деле всегда возможна путаница, особенно с именами, сказал он, но к подобным шуткам он уже давно привык, и консул рассмеялся – не одними глазами, а громко, вслух. Я молчала. Я ведь не знаю, какие бумаги подал мой муж. Я не имею права путать его карты. А консул снова стал серьезен и сказал, что нее это в конечном счете его не касается. Он только сожалеет о задержке, он всегда видел свой долг в том, чтобы, используя свое служебное положение, по возможности помогать людям в беде… Но оставим этого консула в покое. В конце концов мне совершенно безразлично, что он об этом думает, даже если он и разобрался, что к чему. Понимаешь, мой муж не подал прошения о визе для меня, потому что он узнал о моем намерении уехать с другим.
– Ты все равно получишь визу. Я тебе это обещаю.
Она ничего не ответила. Она глядела на дождь за окном. Вдруг я почувствовал, что должен ей все сказать, всю правду, а потом – будь что будет… Мучительно долго тянулись секунды, пока я искал слова. Искал так напряженно, что пот выступил у меня на лбу.
Вдруг Мари улыбнулась, придвинулась вплотную ко мне, положила свою руку на мою и прижалась головой к моему плечу. Я перестал подыскивать слова, в которых мог бы открыть ей всю правду. «Лучше, чтобы Мари стала моей и душой и телом, не зная правды», – думал я.
– Погляди-ка вон на ту женщину, перед которой лежит гора устричных раковин. Я встречаю ее теперь почти ежедневно. Ей отказали в визе, и она прожирает деньги, отложенные на дорогу.
Мы глядели на нее и смеялись. Я знал многих из тех, кто шел сейчас под дождем по улицам, кто, вконец вымокши и продрогнув, заходил в наше маленькое, битком набитое кафе и искал места. Я рассказывал Мари всякие истории об этих людях и заметил, как охотно она меня слушает. Я говорил не умолкая, я боялся, что улыбка на ее лице сменится тем выражением мрачной печали, которое меня больше всего пугало.
Всю эту неделю врач то и дело спрашивал меня, не пришла ли наконец виза для Мари. «Транспор маритим» уже окончательно назначил дату отплытия «Поля Лемерля». Но я больше не ходил в мексиканское консульство. Я еще раз твердо решил устроить все так, чтобы врач уехал один.
Глава седьмая
I
В квартире Бинне я видел врача в последний раз второго января. Он не осматривал мальчика – тот был уже здоров и ходил в школу. На этот раз врач пришел только затем, чтобы принести ему подарок. Мальчик не развернул пакета. Он стоял, прислонившись к стене, и глядел в пол. Губы его были плотно сжаты. Врач погладил его по голове, но мальчик отдернул голову и вяло пожал протянутую ему руку. Уходя, врач пригласил меня на следующий день в пиццерию, чтобы отметить, как он выразился, его отъезд. Я понял, что он и в самом деле уезжает и что я останусь теперь один с Мари. Мне стало страшно, как во сне, когда сон становится похожим на явь, но в то же время ты каким-то непостижимым образом чувствуешь, что все, что тебя сейчас печалит или радует, никогда не станет действительностью.
Глядя на меня своими спокойными, холодными глазами, в которых отражалось только то, на что он смотрел, в данном случае – я, врач заговорил своим спокойным, по профессиональной привычке приглушенным голосом.
– Я прошу вас, я просто советую вам сделать все от вас зависящее, чтобы Мари смогла поскорее отсюда уехать, желательно через Лиссабон, – сказал он без обиняков. Я был ошеломлен. – Помогите ей выхлопотать транзитные визы с той же энергией, с какой вы ей помогаете теперь получить визу в Мексику. Главное – сломить ее нерешительность.
Направляясь к двери, он повернул ко мне голову и бросил через плечо, как бы невзначай:
– Мари никогда не решится остаться здесь навсегда. Она вбила себе в голову, что ее муж уже уехал, что он в Новом Свете.
Словно оглушенный, стоял я несколько минут на кухне и вдруг почувствовал к врачу необоснованную, бессмысленную ревность, еще более глупую, чем тогда, когда я впервые привел его в квартиру Бинне. Что в этом человеке, который к тому же уезжал, могло вызвать у меня зависть? Сила его духа? Его удивительный характер? Я даже на миг подумал, что, быть может, он лучше меня умеет молчать, что он знает больше, чем показывает. В охватившем меня смятении и безрассудстве, мне почудилось, будто врач находится в сговоре с покойником и оба они молча потешаются надо мной. Из этого безумного оцепенения меня вывели тихие звуки, доносившиеся из комнаты. Заглянув туда, я увидел, что мальчик уткнулся лицом в подушку и рыдает. Я склонился над ним, он отпихнул меня ногой. Я хотел его утешить, но он крикнул:
– Убирайтесь все к черту!
Я беспомощно глядел, как он плакал. Никогда еще я не видел, чтобы кто-нибудь плакал так горько. И все же я с некоторым облегчением подумал, что этот безудержный плач мальчика, считавшего себя обманутым и брошенным, не пригрезился мне, что это действительность. Я взял подарок, который принес доктор, и распаковал его. Это была книга. Я положил ее перед мальчиком. Он вскочил, кинул книгу на пол и принялся ее топтать. Я не знал, как его успокоить.
В комнату вошел Жорж Бинне. Он наклонился, поднял с пола книгу, раскрыл ее и, присев к столу, начал рассматривать. Казалось, он всецело поглощен этим занятием и не обращает на мальчика никакого внимания. Мальчик подошел к Жоржу и склонил над книгой свое опухшее от слез лицо. Вдруг он вырвал книгу из рук Жоржа, кинулся с ней на кровать и, крепко прижимая ее к себе, притих, словно уснул.
– Что случилось? – спросил Жорж.
– Врач приходил прощаться: он на днях уезжает.
Жорж ничего не ответил, он закурил сигарету. Я и ему завидовал: ведь он был у себя дома и не запутался ни в какой истории.
II
Прощание прошло лучше, чем я ожидал. Видимо, все мы его немножко побаивались. Я пришел первым и успел выпить с полбутылки розе до того, как они появились. «Возможно, в этот вечер мы в последний раз спокойно сидим все втроем в пиццерии, – думал я тогда. – Ведь это последний вечер, который они проводят вместе». Предстоящая разлука словно открыла мне глаза, я понял, почему Мари последовала за этим человеком, во всяком случае до Марселя. Он наверняка всегда оставался самим собой, всегда был спокоен, даже в те дни, когда гнал свою старенькую малолитражку через линию фронта, опережая немцев. Я удивился, почему Мари после скитаний и неразберихи последних месяцев не покорилась полностью этому спокойствию.
Я подумал тогда, что на свой лад врач вполне готов к отъезду. Он сумел раздобыть себе визу, необходимые транзитные визы и побороть все те чувства, которые могли бы его задержать. Я смотрел на него с большем уважением. Да, он мог уехать.
Мари съела кусочек пиццы и немного выпила. По ней тоже ничего не было заметно. Я даже не мог понять, что принесет ей отъезд врача – страдание или облегчение. Врач еще раз попросил меня сделать все для скорейшего отъезда Мари, во всем ей помочь. Казалось, он не сомневался в том, что они с Мари скоро вновь увидятся. А мои чувства не имели для него никакого значения.
Мы рано вышли из кафе и пересекли Кур Бельзенс, на которой раскинулись пестрые ярмарочные ларьки и балаганы. Разноцветные лампочки тускло мерцали в медленно надвигавшихся сумерках. Врач попросил меня подняться к нему в комнату, чтобы помочь перевязать чемодан, который плохо закрывался. В отеле «Омаж» я ни разу не был с тех пор, как прибежал туда по просьбе Бинне в поисках врача для мальчика. В тот вечер я почти не обратил внимания на внешний вид дома. Узкий и грязный фасад отеля выходил на уродливую улицу Релэ. Вошедшего поражало обилие комнат, расположенных по обе стороны узких коридоров, которые вели к лестничным площадкам. В вестибюле нижнего этажа стояла маленькая печка с коленчатой трубой, поднимавшейся до второго этажа. От этой трубы тоже исходило немного тепла. Постояльцы отеля «Омаж» сидели вокруг печки и сушили белье. Большой чан с водой стоял на конфорке. Более мелкие посудины были расставлены на коленах трубы. Когда мы вошли, люди с любопытством оглядели нас. Все они были здесь проездом. Да и кто выбрал бы себе такую трущобу для постоянного жительства? О таком доме говорят: «Живешь здесь только потому, что скоро уедешь». Я подумал, что врач неплохо запрятал Мари – Короткая улица Релэ – единственная улица, которая, начинаясь от Кур Бельзенс, не доходит до бульвара д'Атен, а обрывается у первого же перекрестка. Мы поднялись по лестнице. Врач открыл дверь, за которой в ту ночь мелькнула рука Мари. На стене висел ее синий халат. Раскрытые чемоданы стояли на полу. Один я запер на замки, другие стянул ремнями. Я скатал и запаковал одеяло. Как всегда перед отъездом, пришлось немало повозиться, прежде чем нее удалось уложить. Было уже далеко за полночь. Я заметил, что врач не хочет оставаться наедине с Мари. Он раскупорил бутылку рома, которая предназначалась на дорогу. Мы по очереди приложились к горлышку. Мы сидели па чемоданах и курили. Мари была спокойна, пожалуй, даже оживлена. Вдруг врач сказал, что, видимо, уже нет смысла ложиться спать, и попросил меня помочь ему снести вниз чемоданы. Машина заказана на пять утра. Я взглянул на Мари… Так в детстве меня неудержимо привлекала одна картина, но глядеть на нее мне было невыносимо. И хотя и облике Мари не было ничего ужасного, у меня и теперь еще при одном воспоминании об этой минуте сжимается сердце. Мари по-прежнему была как будто спокойна и бодра. Только лицо ее показалось мне чужим, потому что па нем лежала печать непонятной мне насмешки. Над чем туг было насмехаться?
Чтобы вынести все вещи, нам пришлось много раз спускаться вниз и снова подниматься наверх. Мари оставалась одна в комнате, и всякий раз, уходя с вещами вниз, врач как бы снова прощался с ней. Это было долгое прощание, разорванное на множество частей. Глядя на Мари, мне качалось, что она насмехается над врачом, который тащил ее с собой через всю страну, а теперь уезжает за океан без нее. Расставаясь, они пожали друг другу руки.
Немолодая горничная, дежурившая ночью в швейцарской, зевая, поднялась к нам и сказала, что машина пришла. Я первым спустился на улицу и помог шоферу уложить вещи. Следом спустился врач – он все-таки провел с Мари минуты три наедине – и спокойным голосом приказал:
– Жолиетт, пятый причал.
Я закурил и несколько раз затянулся, стоя в дверях отеля «Омаж». Окна и двери дома напротив были еще закрыты, как ночью. Я снова поднялся наверх.







