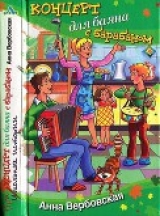
Текст книги "Концерт для баяна с барабаном"
Автор книги: Анна Вербовская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Лучше, чем собака

– Эй, Потёмкин, знаешь у меня мечта…
– Чего-о? Какая ещё.
– Никакая. Мечта как мечта. Обыкновенная. Темнота ты, Потёмкин. Всё равно ведь не поймёшь…
…что мечта моя огромная, как чемодан…
…лохматая, словно пропахшая нафталином бабушкина шуба…
…преданная… Я думала, как ты, Потёмкин…
– Глупая мечта. Сдалась тебе собака… кошки лучше. Хочешь, Луизу с помойки притащу?
И мама моя туда же:
– Сдалась тебе эта собака. Хомяки лучше. Во-первых, не гадят в коридоре. И живут всего два года. В худшем случае – три.
Мама у меня, вообще-то, добрая. Просто доброта в ней борется с любовью к порядку. Иногда доброта побеждает. И мама ведёт меня в зоомагазин.
Мы открываем скрипучую дверь. В нос ударяет запах затхлого сена и – ядрёного крысиного помёта. Дико хохочет свихнувшийся от безделья попугай. На головы посетителей сыплется шелуха от семечек и ошмётки жёваной яблочной кожуры.
– Выбирай!
Мамин палец с трудом пролезает сквозь частокол облезлых прутьев и утыкается в упитанный мохнатый зад. Я сглатываю комок и очень сильно зажмуриваю глаза, чтобы не разрыдаться.
– Не хочешь? – почему-то радуется мама. – Тогда рыбок.
Ну да, конечно. Рыбки – они ведь тоже не гадят в коридоре.
Рыбы лениво шевелят плавниками. Теряют очертания, расплываются в солёной пучине. Пучина пучится, заполняет меня до самой макушки. Выплёскивает рыб на поверхность. Вытекает слезами, топит мою мечту… огромную, как чемодан… лохматую, словно шуба…
– Ну, не хочешь, как хочешь.
Мамины благие намерения опять разбились о глухую стену моего ослиного упрямства…
Мы идём домой. Долго идём, кружными путями – чтобы я успокоилась. И на бульваре встречаем их. Я их здесь часто вижу. Они всё время гуляют вдвоём. Она – огромная и лохматая. Он – унылый, в мятой шляпе. Я завидую ему лютой завистью. Он ведёт её на поводке. Громко кричит: «Апорт»! А потом сразу: «Тубо»! Всю оставшуюся дорогу эти слова звучат у меня в ушах волшебной музыкой. Я представляю: вот они приходят домой. Он чешет её мягкое тёплое пузо. Ведёт в ванную. Моет её неуклюжие толстые лапы…
– Ха! – говорит мама.
Она, как всегда, мне не верит. Ни про «апорт». Ни про «тубо». И уж тем более про лапы. То есть, про лапы-то она, конечно, верит. Но вот, что я буду их мыть…
И ещё папа…
– Сдалась тебе собака! Какой-то преданный лохматый чемодан! У тебя же есть я!
Он забрасывает меня к себе на закорки. И скачет по всей квартире. И отбивает мне макушку об люстру, а бока – о дверные косяки и углы платяного шкафа.
– Раз-ве-нам-не-ве-се-ло?! – папа вколачивает ногами в пол невидимые гвозди и трясёт в такт головой и ушами.
С папой весело. Даже чересчур. У него вообще всё всегда чересчур. И рост. И усы. И затеи.
– Ну вот! Я же лучше, чем собака! – он радостно цитирует Карлсона и нажимает воображаемую кнопку у себя на животе.
Про этого Карлсона недавно показывали мультфильм. Там был Малыш, и он ужасно хотел собаку. Почти так же, как я. Но вместо собаки ему достался «в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил». Тоже, конечно, ничего себе. Но Малышу… Малышу нужна была собака!
И в конце концов…
О-о-о! Это было кошмарно! Чудовищно! Невыносимо! Вот этот момент, когда он влетел в комнату как полоумный и заорал во всю глотку: «Карлсон! Карлсон! Мне подарили…». Жгучая зависть накрыла меня с головой и затянула в водоворот нечеловеческих страданий.
– У меня есть знакомый! – заорал мне в ухо папа.
О-о-о! Моё горе, словно Ниагара, ревело, грохотало, сотрясало меня снаружи и изнутри…
– Зовут его Коля! Дядя Коля!!!
О-о-о!!! Как в жизни всё несправедливо! У Малыша и Карлсон, и щенок, а у меня… О-о-о!!!
– У дяди Коли есть собака колли! Колли у Коли! Смешно, правда?!
И вовсе не смешно. Ни капельки. Даже наоборот.
– Мы попросим очень вежливо, – папа прижал к груди ладони и мелко, по-китайски, затряс головой, – и он подарит нам щенка!
– Правда?!
– Сомневаешься?! – он весело и больно ткнул меня в бок.
Я не сомневалась. Просто верилось как-то не очень.
А папа помчался в специальный магазин – за поводком и ошейником. Но вместо этого купил болотные сапоги – ходить со мной и колли на охоту. И потом, когда я засыпала, долго шептался на кухне с мамой, уговаривал.
Не знаю, что там у них не сложилось. То ли мама оказалась упрямее, чем думал папа. То ли папа попросил дядю Колю не слишком вежливо… Жизнь моя остановилась …поболталась на краю и… кубарем ухнула вниз.
В самом низу были туфли – новые, глянцевые, с плетёным ремешком. Над туфлями – гольфы с помпонами. Над помпонами – платье. С отложным воротником и в горошек. Как раз такое, как я ненавижу. И помпоны ненавижу. И эту дурацкую панаму – настоящее помойное ведро. Он нахлобучил мне её на самый нос. И теперь она давила уши, стискивала затылок, мешала дышать. И ничего из-за неё не было видно. И зубы все заледенели от мороженого «пломбир». Семь порций! Он купил мне сразу-семь порций! Три пирожка с повидловой начинкой. И пять больших молочных шоколадок. Он вообще мне всего накупил. Сразу, как только мы пришли в парк. Две дуделки. Воздушный шар. Значок с собачьей мордой. Морда торчала из космической ракеты и весело скалила зубы. Издевалась…
А ещё он заставил меня играть с ним в «я садовником родился». В резиночку.

В классики. И когда он неуклюже прыгал на одной ноге по асфальту, то всё время спотыкался, сшибал фонари и скамейки и улетал вслед за битой в кусты.
Он очень старался, мой папа. Он старался доказать, что ничем не хуже… И мне его немножко было жалко. Он мог бы совсем не стараться. Но я всё равно знала: он лучше любой самой лучшей собаки. Но мне была нужна не любая… и даже не лучшая… а одна-единственная, огромная, как чемодан, лохматая, словно бабушкина шуба, преданная, как… ах, впрочем, да…
По-моему, папа чувствовал себя виноватым. Он горбился, шаркал ногами. Делал вид, что сам себе наносит хук справа, и…
– А боксёров ты любишь? – задал папа неожиданный вопрос.
Неожиданные вопросы были его сильной стороной.
– Э-э-эх, сто бед один ответ! Маму. мы уломаем. Когда там у тебя день рожденья?
Я зажмурилась. Перед глазами заплясали разноцветные круги и красные точки, и маленькие прозрачные червячки. И появился он. Красный шлем. Огромные красные варежки. И красный картофельный нос. За спиной его крутилось что-то вроде пропеллера. Пропеллер был тоже ярко-красный и громко чихал…
– Пчхи, пчхи, пчхи, будь здоров! – пожелал сам себе папа. – Знаешь, что отличает настоящего боксёра?
– Сломанный нос?
– Слюни!
Я присмотрелась к боксёру получше. Нос у него был всё-таки свёрнут набок. А по щекам текло противное, липкое, тягучее.
Видимо, папа всерьёз решил переплюнуть Карлсона.
– Пап, – сказала я тихо, мне было неудобно возражать… – Пап, мне бы собаку…
– Шутишь? – удивился папа.
И зашвырнул меня в самое небо. К белым большим облакам.
От недоеденного мороженого отвалился кусок, шлёпнулся папе на голову и медленно стёк ему за воротник.
Пока мы отчищали папу лопухами, он хмуро ворчал, что вот делают же такое липкое мороженое. И что в моём возрасте пора бы уже знать про боксёра. Про лучшую в мире породу. Слюнявую, как…
– А нельзя… ну… чтоб огромную и лохма…
Папа поджал губы и нервно отбросил смятый лопух.
Конечно, я перегнула палку. Ладно уж… чего там… Пусть облезлая. Пусть дефективная. Пусть даже без хвоста. Главное – моя… с тёплым мягким пузом…
Я завизжала и поцеловала папу в его большой чудесный нос.
Какое счастье! И мне тоже будет восемь лет! Прямо как в мультике про Малыша.
Когда ждёшь чего-то очень сильно и каждую минуту проверяешь календарь – время тянется, как вязкая тянучка. А я ждала так, что… В общем, кто никогда не мечтал о собаке, тот всё равно не поймёт.
Я переводила у часов стрелки. Вырывала из календаря по пять листков за раз. Но время всё равно было хитрее. Оно уже не бежало и даже не шло, а как-то еле ковыляло. Ползло по-пластунски, упиралось, сопротивлялось изо всех сил. И однажды остановилось совсем.
В тот день мама впервые сварила утром борщ. Нет, не борщ впервые.
Она нас часто балует пампушками там и всякими цыплёнками табака. Просто обычно борщ мы ели на обед. А папа иногда и на ужин. Но чтобы вот так – за завтраком, перед школой… С мамой вообще в тот день что-то случилось. Вечером она поставила мне под нос манную кашу. Моим какао полила герань. Вытерла пыль папиным галстуком.
С того дня всё покатилось под откос. Мама стала сама не своя. Вернее, не наша. Какая-та другая. Вечно всё путала. За порядком почти не следила. Даже забывала проверять мой дневник. Растолстела. Смотрела каким-то странным взглядом. Перевёрнутым. Не наружу, а внутрь себя.
И маму забрали в больницу. Думаю, в психиатрическую.
Вот, собственно, и всё.
Время с пространством остановились, съёжились и превратились в одну больную точку.
Папа, конечно, не выдержал и тоже… в общем… того… Он рассмеялся и подпрыгнул до потолка. Хлопнул в ладоши и затащил меня в хоровод. Только я водить хоровод не хотела. И тогда папа зашвырнул меня к себе на закорки и пропел на мотив арии «Куда, куда вы удалились?»:
– Кого-о-о, кого ты подарить проси-и-и-и-и-и-ила?!
Глупый вопрос! Я просила…
– Бра-а-а-ти-ка!
Какого братика?! Зачем?!
Я вцепилась в папино ухо. Он взвыл, затряс головой и перешёл на речитатив.
– Не-хо-чешь-бра-тика-мож-но-сес-тричку!
– Какую сестричку? – ощущение непоправимости происходящего поднялось изнутри огромным горячим пузырём. Пузырь заполнил меня целиком и лопнул. Глаза до краёв налились мокрым туманом.
Я запрокинула лицо к потолку. Слёзы закатились в меня обратно, и… мне захотелось отлупить самоё себя. Поставить на горох. Высечь розгами. Всё-таки, зависть – отвратительное чувство… Ладно ещё завидовать Малышу… Но Надьке! Из-за её сопливого, ушастого, как Чебурашка, братца!
А собака… моя собака…
– Понимаешь… – папа смущённо теребил кончик своего большого носа, – насчёт боксёра…
По потолку бежала тонкая, еле видная трещина. Она тянулась из самого дальнего угла, петляла, огибала люстру и…
– Да ладно, – пихнул меня в бок папа. – Сдалась тебе собака! У тебя вот-вот братик будет. Или сестричка. Ничем же не хуже…
Ха!
Ха!!
Ха!!!
Она мне не понравилась сразу. Абсолютно. Ужасно.
Скрюченный, сморщенный, красный от злости гном. Руки и ноги – связки сосисок. Свалявшийся пух на голове. Щёлки вместо глаз и приплюснутый, размазанный по щекам нос.
– Фу! – сказала я.
– Осторожно! – испугалась мама.
Потому что я нечаянно ткнула гнома пальцем в живот.
Живот оказался мягкий и тёплый.
Мама сказала:
– Подай пелёнку.
А я сделала гному зверское лицо: глаза к переносице, язык к подбородку, уши врастопырку. Гном блуждал по мне бессмысленным взглядом, сучил руками, царапал себе щёки и нос.
И мама дала мне её подержать. А сама подставляла снизу руки, боялась, что уроню. Только чего её ронять? Она ж ничего не весит. Весу в ней – как у щенка сенбернара. И ещё она обслюнявила мне руку. Фу.
И я засунула ей палец в рот. А она его укусила – не больно, у неё даже зубов не было. Ни одного!
А потом уцепилась за мой мизинец своим обезьяньим кулаком. Сильно так. Хотя пальцы-то у неё были – как спички.
А потом она зевнула, скривив на левый бок лицо. И мне захотелось посмотреть, что у неё там, внутри. Там было тепло и розово и пахло сладким молоком.
А потом пришла Ленка. За Ленкой – Надька. После Надьки – Вероника из седьмого «Б». Потом – Смирнова с Петровой и Ивановой. И ещё Оля Шварценгольд. Ну и пошло-поехало…
Только мама больше двух за раз не пускала. И заставляла всех снимать в прихожей ботинки. И загоняла в ванную – смывать с рук чернила и микробов.
И они топтались вокруг неё и причитали: ах, глазки! ах, пятки! ах, то да сё! А Надька сказала, что моя сестра гораздо лучше, чем её Чебурашка. Потому что у неё нет соплей и вполне нормальные уши.
Они мне ужасно завидовали.
Как будто завести сестру – всё равно что получить медаль. Или даже орден. И тебе теперь почёт и уважение. Как герою труда. Или кинозвезде. Или лучшей ученице в классе.

Елену Павловну мы встретили в парке.
– Гуляете?
Мы с мамой кивнули.
Елена Павловна задумалась – о чём бы ещё спросить. Ничего не придумала и ткнула пальцем в сторону коляски:
– Братик?
– Сестра! – возразила я.
Елена Павловна сделала медовое лицо и задала свой дурацкий вопрос. Я заметила: взрослые, когда им нечего сказать, спрашивают об одном и том же.
– Ну и как тебе сестрёнка? Нравится?
Медовый вид Елены Павловны стал ещё медовее.
А у меня внутри всё обожгло и разгорелось пожаром. Даже в носу засвербило. И закололо в ухе. И зачесалось где-то в спине и левая пятка. Ну как же можно вот так вот взять и ей объяснить… ну… про это про всё. Про свалявшийся пух и беззубый рот, про Чебурашку и боксёра, про мокрые пелёнки и дядю Колю, и про колли, и про Малыша, и про молочную кухню, и что у неё по ночам болит живот, зато нет соплей и вполне нормальные уши… Да и надо ли? И разве она поймёт?
Елена Павловна стояла, выбивала туфлей дробь, как указкой. И надо было что-то говорить. И я сказала… И лицо у Елены Павловны из сладкого сделалось кислым, и она попрощалась очень быстро, и пожелала нам всего хорошего.
А мой ответ потом стал семейным анекдотом. И папа хлопал себя по коленкам:
– Ха-ха-ха… Лучше, чем… ха-ха-ха!!!
Не понимаю, что здесь смешного.
Я на самом деле так считаю. Я так про неё Елене Павловне и сказала:
– Сестра как сестра… ну… в общем … лучше, конечно, чем собака.
А потом у меня был день рождения. Восемь лет. И мама с папой подарили мне книгу. Хорошую. Толстую и с картинками. Только жалко – не с цветными.
Я – раскрыла её наугад, на восемьдесят седьмой странице.
«…Тут Боссе кинулся в прихожую и минуту спустя влетел в комнату Малыша, держа на руках – о, наверное, – Малышу это всё только снится! – маленькую короткошёрстную таксу.
– Это моя живая собака? – прошептал Малыш.
Слёзы застилали ему глаза, когда он протянул руки к Бимбо. Казалось, Малыш боится, что щенок вдруг превратится в дым и исчезнет.
Но Бимбо не исчез. Малыш держал Бимбо на руках, а тот лизал ему щёки, громко тявкал и обнюхивал уши. Бимбо был совершенно живой.
– Ну теперь ты счастлив, Малыш? – спросил папа.
Малыш только вздохнул…»
И я вздохнула.
И закрыла хорошую толстую книгу.
И долго смотрела на потолок. Там бежала тонкая, еле видная трещина. Она тянулась из самого дальнего угла, петляла, огибала люстру…
Где-то сейчас Потёмкин? Как там его кошка Луиза?
Позвоню ему завтра. Скажу:
– Знаешь, Потёмкин… у меня была мечта…
Только он ведь тёмный, не поймёт.

Папин скелет

– Когда мои папа умрет, – Лёка лениво ковыряет ложкой утреннюю кашу, утопив задумчивый взгляд в её густой молочной глубине, – его скелет поставят в музее. И мы будем туда ходить и на него смотреть…
Лёка мне сестра. Вообще-то её зовут Элеонора. Но на полное имя она пока ещё не тянет. И мы называем её просто Лёка. Ей четыре года, и вчера её первый раз в жизни взяли в музей.
– Музей-зей-зей! Музей для друзей! – распевала она по дороге из дома, и в троллейбусе, и в очереди в кассу. И нетерпеливо дёргала папу за рукав, а меня – за косу. И веселилась. И корчила всем рожи. И самые страшные – мне. И приплясывала, и подпрыгивала, и ни минуты не могла устоять на месте.
В Лёкином незатейливом воображении музей – что-то вроде балагана, с клоунами, ряжеными и тележками, полными лимонада.
– Ну же! Ну! – бормотала Лёка и налегала толстым боком на тяжёлую дубовую дверь, и прижимала руки к груди, и кусала губы, и предвкушала, и замирала, и…
Дверь неохотно, со скрежетом подалась.
– Билеты!
Сбоку от входа стояла унылая пожилая смотрительница в скучном коричневом пиджаке. Меньше всего на свете она походила на клоуна.
Пахло нафталином и мастикой.
– Тапочки!
Из огромного короба торчали корявые войлочные уродцы с оборванными завязками. Лёка пугливо заглянула внутрь. Рот её скривился. Нос жалобно сморщился и всхлипнул.
– Там начало экспозиции, – коричневый пиджак вяло махнул рукавом в неопределённом направлении.
– Экс-зи-пиции?! – ужаснулась Лёка и булькнула утробно.
Экзекуции! – неудачно пошутил папа.
Лёка вся сжалась, побелела от страха и, оглушительно шаркая музейными штиблетами, покорно шагнула в неизвестность.
– Яванский ящер! Кистепёрая рыба латимерия! Пищеварительная система панцирного крокодила!
В царстве окаменелых и засушенных экспонатов папа чувствовал себя, как мастер спорта по плаванию посреди бассейна. Он бодро метался между витринами. Поднимал Лёку на вытянутых руках. Тыкал её носом в графики, схемы и распятых на стендах насекомых. Щедро сыпал латинскими словами и непонятными учёными терминами. Лёка пыхтела, вырывалась и требовала поставить её на пол.
Папа прищёлкивал пальцами, ловил разбегающиеся мысли и пытался запихнуть их в наши головы.
Я внимала.
Лёка зевала, грызла ноготь на большом пальце и равнодушно ковыряла в носу. Время от времени с неё сваливались тапки, мы с папой дружно падали ниц и приматывали непослушные растрёпанные завязки к её пухлым коренастым ногам.
Стенд «Сообщества водоёмов юры и мела» стал нашим последним пристанищем.
– До-о-омо-о-ой!!!
С Лёки в очередной раз слетел тапок. Злым прицельным пинком она зашвырнула его в дальний конец зала, набычилась и застыла музейным изваянием.
У-у-упс!
Папа тяжко вздохнул. Взял Лёку за руку. И повернулся в сторону выхода.
Наша маленькая печальная процессия торжественно прошествовала мимо панциря астеролеписа, черепа лабиринтодонта, кладки яиц протоцератопса…
– Что это?!
Лёка затормозила неожиданно и резко. Папа дёрнулся и пошатнулся. Я чуть не сломала об его спину нос.
Что это?! – Лёка запрокинула голову, широко открыв глаза и рот.
Над нами кровожадно улыбался, скалил огромные острые зубы и хищно сверкал пустыми глазницами скелет – тираннозавра. Ноги его были согнуты перед решающим прыжком. Длинный хвост упирался в пол. Маленькие никчёмные ручки болтались на недосягаемой высоте, под самым тираннозавриным подбородком. По обе стороны могучего позвоночника торчал частокол загнутых вовнутрь исполинских рёбер. Даже в таком – предельно обнажённом и растерзанном виде – тираннозавр был величествен и страшен.

Лёка спряталась за папу.
– Что это?
– Тираннозавр, – бодро начал папа, вдохновлённый возможностью продолжить экскурсию, – род вымерших гигантских динозавров. Длина тела больше пятнадцати метров. Передние конечности редуцированы, а задние…
– Что это? – повторила Лёка.
– Где?
– Вот! – Лёкин толстый палец ткнул в направлении огромного, собранного из множества отдельных костяных звеньев, хвоста.
– Хвост, – объяснил папа, – вместе с развитыми задними конечностями тираннозавра он образует…
– Хвост лохматый, – снисходительно объяснила Лёка папе и постучала кулаком по своему упрямому выпуклому лбу. – А это что?
– Хвост, – ещё больше растерялся папа, – только скелет…
– Какой скелет? – не поняла Лёка.
– Ну, скелет – то, что внутри.
– Внутри чего?
– Ну… – папа пребывал в замешательстве, – внутри хвоста.
– Хвост лохматый! – Лёка гневно топнула ногой, покраснела как рак и собрала в гармошку нос, готовая разреветься.
Папа схватился за голову. Его педагогические способности моментально капитулировали перед самоуверенным Лёкиным невежеством.
– А вот у тебя, – сделал неуклюжую попытку папа, – у тебя что внутри?
– Внутри? – Лёка любовно похлопала себя по животу. – Суп. Котлета. Компот. Два печенья… нет, три с половиной…
– При чём здесь компот! – папа начал раздражаться. – Что у тебя внутри ручек, ножек?
– Ручек? – Лёка заинтересованно поднесла к своему носу потную ладонь и принялась изучать неровную царапину, оставленную ей на память дворовой кошкой Дуськой. – Кр-р-ровь!
Глаза у неё сверкнули радостно и хищно. Почти как у жившего миллионы лет назад тираннозавра.
– Скелет! – вышел из себя папа. – У тебя внутри скелет!
– Скелет? – дрожащим голосом повторила Лёка. – У меня? Внутри?!
– Скелет! – торжествовал папа. – У тебя! И у него!
Папа махнул рукой в сторону парящего под потолком птеродактиля.
– И у него!
Папин перст ткнул тираннозавру в нос. На мгновение показалось, что тираннозавр ухмыльнулся и удовлетворённо кивнул своим огромным плотоядным черепом.
По отношению к Лёке это было жестоко.
Она растерянно переводила взгляд с массивных мослов ископаемых ящеров на свои маленькие крепкие ноги. По её лицу катились большие блестящие слёзы. Плечи поникли под тяжким грузом непредсказуемости и коварности жизни. Она показала тираннозавру язык, уткнулась в папин пиджак и разрыдалась – громко и самозабвенно.
Лёкин утробный вой заблудился в гулких музейных залах.
Скрипя паркетом, в нашу сторону засеменила служительница в вязаном жакете. На её груди колыхалась табличка, криво прицепленная булавкой…
Всю дорогу домой, пока мы долго тряслись в троллейбусе и шли пешком от остановки, папа втолковывал зарёванной Лёке, что скелет есть у всех. Во всяком случае, у многих.
– И у со-со-собаки? – всхлипывала она.
– И у собаки.
– И у рыбки?
– Конечно.
– И у Мухи-Цокотухи?
– Нет, у мухи нету.
– Жалко, – вздыхала Лёка.
И хмурила в недоумении лоб.
– А у Дуськи?
– Кто это?
– Ну кошка! – Лёка совала папе под нос свою царапину как верный признак принадлежности Дуськи к кошачьему семейству.
– У кошки есть, – кивал папа.
– А у тебя?
– Ещё какой! – папа гулко стучал кулаком в свою грудную клетку.
– И у Аньки? – с сомнением в голосе спрашивала Лёка, видимо, подозревая, что если у меня скелет и есть, то совсем плохонький и никудышный.
Папа объяснял, что людей без скелета не бывает, потому что без него мы, люди, не могли бы ходить. И руки у нас гнулись бы во все стороны, как резиновые. И мы бы растеклись по сиденью троллейбуса, как медузы. И Лёка даже развеселилась. И хихикала, косясь на меня. Представляла небось, как я превращаюсь в амёбу. Или неуклюжую каракатицу.

А ещё папа рассказал, как много-много лет назад все динозавры в одночасье вымерли. И превратились в собственные скелеты. Их засыпало песком и землёй. И теперь археологи откапывают их и несут в музей. А люди специально приходят туда, чтобы на них посмотреть.
За ужином Лёка съела всё пюре и дочиста обглодала куриную ногу. Долго вертела её в руках. Разглядывала со всех сторон. Примеряла к своей круглой коленке. По-моему, даже легла с ней спать.
Не знаю, что там ей снилось – в её глупых малышовских снах. Но только к утру интерес к скелетной теме у Лёки не только не утих, а разгорелся с новой силой.
– Интересно, – Лёка сидит за столом, подогнув под себя ногу, и перекатывает во рту свою кашу, и от этого у неё получается невнятно и шепеляво – «интэрэшно», – какой у папы шкэлет?
Внутри у меня ревниво кольнуло. Всё-то у неё папа да папа. Почему её не интересует мамин скелет? Или, к примеру, мой?
– Он похож на тир… зир… тирзирзавра?
– Ни капельки, – отрезаю я. – И в музей его не возьмут.
– Пошэму это? – расстраивается Лёка.
– По кочану, – объясняю я. И для ясности добавляю, что кого попало в музей не берут. И что там нужны только очень ценные экспонаты. А папин скелет никакой научной ценности не представляет.
– Как это? – Лёка громко сглатывает овсяный комок.
– Вот если бы он был Петром Первым. Или Екатериной Второй. Тогда конечно… А таких скелетов, как у папы, навалом. Пруд пруди.
– Ты, Анька, – Лёка смачно облизывает ложку и грохает ею об стол, – дура! А папин скелет возьмут!
– Не возьмут!
– Возьмут!!!
– Не возьмут!!!
– Возьмут!!!
Лёка отшвырнула ложку и разревелась. И проревела весь день.
А вечером пришёл с работы папа. И пообещал непременно прославиться и приобрести научную ценность.
– Только, – попросил папа, – можно я пока не буду скелетом? Мне с вами лучше, чем с тираннозавром в музее.
– Ла-а-адно, – смилостивилась Лёка, игриво дёрнула папу за нос и заглянула ему внутрь уха.
Нос у папы великолепный: крупный, мясистый. Да и уши ничего себе – торчат из головы розовыми мягкими лопухами. Лёка склоняет голову набок. Рассматривает папу, как художник, прицеливающийся к натуре. Чешет в затылке. Хитро щурит глаз.
В общем, завтра Лёку первый раз поведут в зоопарк.









