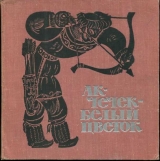
Текст книги "Ак-Чечек — Белый Цветок"
Автор книги: Анна Гарф
Соавторы: Павел Кучияк
Жанр:
Фольклор: прочее
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Нарядный бурундук

Зимой крепко спал в своей берлоге бурый медведь. Когда синичка запела весеннюю песенку, он проснулся, вышел из темной ямы, лапой глаза от солнца заслонил, чихнул, на себя посмотрел:
– Э-э-э, ма-аш, как я похуде-ел… Всю долгую зиму ничего не е-е-ел…
Его любимая еда – кедровые орехи. Его любимый кедр – вот он, толстый, в шесть обхватов, у самой берлоги стоит. Ветки частые, хвоя шелковая, сквозь нее даже капель не каплет.
Поднялся медведь на задние лапы, передними за ветки кедра ухватился, ни одной шишки не увидел, и лапы опустились:
– Э, ма-аш! – пригорюнился медведь. – Что со мной? Поясница болит, лапы не слушаются… Состарился я, ослаб… Как теперь кормиться буду?
Двинулся сквозь частый лес, бурную реку мелким бродом перешел, каменными россыпями шагал, по талому снегу ступал, сколько звериных следов чуял, но зверя ни одного не настиг: охотиться пока еще силы нет…
Уже на опушку леса вышел, никакой еды не нашел, куда дальше идти, сам не знает.
– Брык-брык! Сык-сык! – это, испугавшись медведя, закричал бурундучок.
Медведь хотел было шагнуть, лапу поднял, да так и замер: «Э-э-э, ма-а-а-ш, как же я о бурундуке забыл? Бурундук – хозяин старательный. Он на три года вперед орехами запасается. Постой-постой-постой! – сказал самому себе медведь. – Надо нору его найти, у него закрома и весной не пустуют».
И пошел землю нюхать, и нашел! Вот оно, бурундуково жилище. Но в такой узкий ход как такую большую лапу сунешь?
Трудно старому мерзлую землю когтями царапать, а тут еще корень, как железо, твердый. Лапами тащить? Нет, не вытащишь. Зубами грызть? Нет, не разгрызешь. Размахнулся медведь – рраз! – пихта упала, корень сам из земли вывернулся.
Услыхав этот шум, бурундучишка ум потерял. Сердце так бьется, будто изо рта выскочить хочет. Бурундучок лапами рот зажал, а слезы из глаз ключом бьют: «Такого большого медведя увидав, зачем я крикнул! Для чего сейчас еще громче кричать хочу? Рот мой, заткнись!»
Быстро-быстро вырыл бурундук на дне норы ямку, залез туда и даже дышать не смеет.
А медведь просунул свою огромную лапу в бурундукову кладовую, захватил горсть орехов:
– Э, ма-аш! Говорил я: бурундук хозяин добрый. – Медведь даже прослезился. – Видно, не пришло мое время умирать. Поживу еще на белом свете…
Опять сунул лапу в кладовую – орехов там полно!
Поел, погладил себя по животу:
«Отощавший мой желудок наполнился, шерсть моя, как золотая, блестит, в лапах сила играет. Еще немного пожую, совсем окрепну».
И медведь так наелся, что уж и стоять не может.
– Уф, уф… – на землю сел, задумался:
«Надо бы этого запасливого бурундука поблагодарить, да где же он?»
– Эй, хозяин, отзовитесь! – рявкнул медведь.
А бурундук еще крепче рот свой зажимает.
«Стыдно будет мне в лесу жить, – думает медведь, – если, чужие запасы съев, я даже доброго здоровья хозяину не пожелаю».
Заглянул в норку и увидел бурундуков хвост. Обрадовался старик.
– Хозяин-то, оказывается, дома! Благодарю вас, почтенный, спасибо, уважаемый. Пусть закрома ваши никогда пустыми не стоят, пусть желудок ваш никогда от голода не урчит… Позвольте обнять вас, к сердцу прижать.
Бурундук по-медвежьи разговаривать не учился, медвежьих слов не понимает. Как увидел над собой когтистую большую лапу, закричал по-своему, по-бурундучьи: «Брык-брык, сык-сык!» – и выскочил было из норки. Но медведь подхватил его, к сердцу прижал и речь свою медвежью дальше ведет:
– Спасибо, дядя-бурундук, голодного меня вы накормили, усталому мне отдых дали. Неслабеющим, сильным будьте, под урожайным богатым кедром живите, пусть дети ваши, и внуки, и правнуки беды-горя не знают…
«О-о, какой страшный голос, – дрожит бурундук, – о-о, какое грозное рычание…»
Освободиться, бежать хочет, медвежью жесткую лапу своими коготками изо всех сил скребет, а у медведя лапа даже не чешется. Ни на минуту не умолкая, он бурундуку хвалу поет:
– Я громко, до небес благодарю, тысячу раз спасибо говорю! Взгляните на меня хотя бы одним глазком…
А бурундук ни звука.
– Э, м-маш! Где, в каком таком лесу росли вы? На каком пне воспитывались? Спасибо говорят, а он ничего не отвечает, глаз своих на благодарящего не поднимает. Улыбнитесь хоть немножко.
Замолчал медведь, голову склонил, ответа ждет. А бурундук думает:
«Кончил рычать, теперь он меня съест». Рванулся из последних силенок и выскочил! От пяти черных медвежьих когтей осталось на спине бурундука пять черных полос. С той поры и носит бурундук на рядную шубку. Это медвежий подарок.

Как богатырь Сартакпай шмеля победил

Весеннее солнце землю согрело, белым цветом черемуха закипела.
Выглянули из своих восковых аилов семеро братьев, семь мохнатых шмелей. Шестеро к черемухе полетели, а седьмой – к золотым тюльпанам.
Вдруг черная тень легла на поляну.
Это Дьелбеген-людоед с горы спустился верхом на синем быке.
– Братья, братья, я дрож-ж-ж-ж-ж-ж-жу… – заплакал шмель.
Но братья были далеко, а Дьелбеген подходил все ближе, ближе.
У него семь голов, четырнадцать глаз, куда от нею скроешься?
– Жжу-жу… – метался шмель.
Кружился – кружился, да вдруг и переменил свою песенку:
– Жж-ж-ж-ж-ж-ж-жу, богатырю Дьелбегену я служж-ж-ж-жу!
– Ххх-х-х-ха-ха-ха! – расхохотался Дьелбеген. – Полети, мой слуга, узнай, кто на земле всех слаще. Я голоден, ужасно голоден!!!
Полетел шмель, укусил собаку, корову, медведя, лошадь, курицу, мышонка, оленя, девочку.
– Жж-ж-ж-ж-ж! Девочка всех слаще-слаще-слащ-щ-щ-щ-ше!
– Милый-милый шмель, не говори людоеду, он меня съест.
– Скажу, скаж-ж-ж-ж-ж-жу, людоеду я служу, служ-ж-ж-жу!
– Замолчи, шмель, – просит отец, – мы коня тебе дадим.
– Нарядную шубу сошьем, – плачет мать.
– Соболью шапку подарим, – уговаривают шмеля бабушка с дедушкой.
А он все не унимается:
– Девочка всех слаще-слаще-сла-щ-ш-щ-щ-щ-щ-ще!
Все стойбище вышло шмелю на поклон:
– Не говори, шмель, про нашу девочку! Мы аил тебе высокий поставим, над твоим очагом котел медный повесим, под ноги положим белую кошму.
– А не лучше ли будет, – сказал богатырь Сартакпай, – укоротить шмелю его длинный язык?
И укоротил!
Вот явился шмель к Дьелбегену. Тот как зарычит:
– Где пропадал? Кто всех слаще? Говори!!! А шмель в ответ:
– М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м…
Ничего другого он и по сей день сказав не может.

Обида марала

Прибежала красная лиса с зеленых холмов в черный лес. Она в лесу себе норы еще не вырыла, а новости лесные ей уже известны: стал медведь стар.
И пошла лиса на весь лес причитать:
– Ай-яй-яй, горе-беда! Наш старейшина, бурый медведь, умирает. Его золотистая шуба поблекла, острые зубы притупились, в лапах силы былой нет. Скорее, скорей! Давайте соберемся, подумаем, кто в нашем черном лесу всех умнее, всех краше, кому хвалу споем, кого на медведево место посадим.
Где девять рек соединилось, у подножья девяти гор, над быстрым ключом мохнатый кедр стоит. Под этим кедром собрались звери из черного леса. Друг другу шубы свои кажут, умом, силой, красотой похваляются.
Старик медведь тоже сюда пришел:
– Что шумите? О чем спорите?
Притихли звери, а лиса острую морду подняла и заверещала:
– Ах, почтенный медведь, нестареющим, крепким будьте, сто лет живите! Мы тут спорим-спорим, а дела решить без вас не можем: кто достойнее, кто красивее всех?
– Всяк по-своему хорош, – проворчал старик.
– Ах, мудрейший, все же мы хотим ваше слово услышать.
На кого укажете, тому звери хвалу споют, на почетное место посадят.
А сама свой красный хвост распустила, золотую шерсть языком охорашивает, белую грудку приглаживает.
И тут звери вдруг увидели бегущего вдали марала. Ногами он вершину горы попирал, ветвистые рога по дну неба след вели.
Лиса еще рта закрыть не успела, а марал уже здесь.
Не вспотела от быстрого бега его гладкая шерсть, не заходили чаще ею тонкие ребра, не вскипела в тугих жилах теплая кровь. Сердце спокойно, ровно бьется, тихо сияют большие глаза. Розовым языком коричневую губу чешет, зубы белеют, смеются.
Медленно встал старый медведь, чихнул, лапу к маралу протянул:
– Вот кто всех краше.
Лиса от зависти за хвост себя укусила.
– Хорошо ли живете, благородный марал? – запела она. – Видно, ослабели ваши стройные ноги, в широкой груди дыхания не хватило. Ничтожные белки опередили вас, кривоногая росомаха давно уже здесь, даже медлительный барсук и тот успел раньше вас прийти.
Низко опустил марал ветвисторогую голову, колыхнулась его мохнатая грудь, и зазвучал голос, как тростниковая свирель:
– Уважаемая лиса! Белки на этом кедре живут, росомаха на соседнем дереве спала, у барсука нора здесь, за холмом. А я девять долин миновал, девять рек переплыл, через девять гор перевалил…
Поднял голову марал – уши его подобны лепесткам цветов. Рога, тонким ворсом одетые, прозрачны, словно майским медом налиты.
– А ты, лиса, о чем хлопочешь? – рассердился медведь. – Сама, что ли, старейшиной стать задумала?
Отшвырнул он лису подальше, глянул на марала и молвил:
– Прошу вас, благородный марал, займитe почетное место.
А лиса уже опять здесь.
– Ох-ха-ха! Бурого марала старейшиной выбрать хотят, петь хвалу ему собираются. Х-ха, ха-ха! Сейчас-то он красив, а посмотрите на нею зимой – голова безрогая. комолая, шея тонкая, шерсть висит клочьями, сам ходит, скорчившись, от ветра шатается.
Марал в ответ слов не нашел. Взглянул на зверей – звери молчат.
Даже старик медведь не вспомнил, что каждую весну отрастают у марала новые рога, каждый год прибавляется на рогах марала по новой веточке, и год от года рога ветвистее, а марал чем старше, тем прекраснее.
От горькой обиды упали из глаз марала жгучие слезы, прожгли ему щеки до костей, и кости прогнулись.
Погляди, и сейчас темнеют у нею под глазами глубокие впадины. Но глаза от этого еще краше стали, и красоте марала не только звери, но и люди славу поют.

Страшный гость

Жил-был барсук. Днем он спал, ночами выходил на охоту. Вот однажды ночью барсук охотился. Не успел он насытиться, а край неба уже посветлел.
До солнца в свою нору спешит попасть барсук. Людям не показываясь, прячась от собак, шел он там, где тень гуще, где земля чернее.
Подошел барсук к своему жилью.
– Хрр… Бррр… – вдруг услышал непонятный шум.
«Что такое?»
Сон из барсука выскочил, шерсть дыбом встала, сердце чуть ребра не сломило стуком.
«Я такого шума никогда не слыхивал…»
– Хррр… Фиррлить-фью… Бррр…
«Скорей обратно в лес пойду, таких же, как я, когтистых зверей позову: я один тут за всех погибать не согласен».
И пошел барсук всех, на Алтае живущих, когтистых зверей на помощь звать.
– Ой, у меня в норе страшный гость сидит! Помогите! Спасите!
Прибежали звери, ушами к земле приникли – в самом деле от шума земля дрожит:
– Брррррк, хрр, фьюу…
У всех зверей шерсть дыбом поднялась.
– Ну, барсук, это твой дом, ты первый и полезай.
Оглянулся барсук – кругом свирепые звери стоят, подгоняют, торопят:
– Иди, иди!
А сами от страха хвосты поджали.
В барсучьем доме было восемь входов, восемь выходов. «Что делать? – думает барсук. – Как быть? Которым входом к себе в дом проникнуть?»
– Чего стоишь? – фыркнула росомаха и подняла свою страшную лапу.
Медленно, нехотя побрел барсук к самому главному входу.
– Хрррр! – вылетело оттуда.
Барсук отскочил в испуге, к другому входу-выходу заковылял.
– Бррр!
Изо всех восьми выходов так и гремит.
Принялся барсук девятый ход рыть. Обидно родной дом разрушать, да ослушаться никак нельзя – со всего Алтая самые свирепые звери собрались.
– Скорей, скоррей! – приказывают.
Горько вздыхая, царапал барсук землю когтистыми передними лапами.
Наконец, чуть жив от страха, пробрался в свою высокую спальню.
– Хррр, бррр, фррр…
Это, развалясь на мягкой постели, громко храпел белый заяц.
Звери со смеху на ногах не устояли, покатились по земле:
– Заяц! Вот так заяц! Барсук зайца испугался!
– Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!
– От стыда куда теперь спрячешься, барсук? Против зайца какое войско собрал!
– Ха-ха-ха! Хо-хо!
А барсук головы не поднимает, сам себя бранит:
«Почему, шум в своем доме услыхав, сам туда не заглянул? Для чего пошел на весь Алтай кричать?»
А заяц знай себе спит-храпит.
Рассердился барсук да как пихнет зайца:
– Пошел вон! Кто тебе позволил здесь спать?
Проснулся заяц – глаза чуть не выскочили! – и волк, и лисица, рысь, росомаха, дикая кошка, даже соболь здесь!
«Ну, – думает заяц, – будь что будет!»
И вдруг – прыг барсуку в лоб. А со лба, как с холма, – опять скок! – и в кусты.
От белого заячьего живота побелел лоб у барсука. От задних заячьих лап прошли белые следы по щекам.
Звери еще громче засмеялись:
– Ой, барсу-у-ук, какой ты красивый стал! Хо-ха-ха!
– К воде подойди, на себя посмотри!
Заковылял барсук к лесному озеру, увидал в воде свое отражение и заплакал:
«Пойду медведю покажусь».
Пришел и говорит:
– Кланяюсь вам до земли, дедушка-медведь. Защиты у вас прошу. Сам я этой ночью дома не был, гостей не звал. Громкий храп услыхав, испугался… Скольких зверей обеспокоил, свой дом порушил. Теперь посмотрите, от заячьего белого живота, от заячьих лап – лоб и щеки мои побелели. А виноватый без оглядки убежал. Это дело рассудите.
Взглянул медведь на барсука. Отошел подальше – еще раз посмотрел, да как зарычит:
– Ты еще жалуешься? Твоя голова раньше черная была, как земле, а теперь белизне твоего лба и щек даже люди позавидуют. Обидно, что не я на том месте стоял, что не мое лицо заяц выбелил. Вот это жаль! Да, жалко, обидно…
И горько вздохнув, замолчал медведь.
А барсук так и живет с белой полосой на лбу и на щеках. Говорят, что он привык к этим отметинам и даже похваляется:
– Вот как заяц для меня постарался! Мы теперь с ним друзья на веки вечные.
Ну, а что заяц говорит? Этого никто не слыхал.

Жадный глухарь

Роняет береза золотистую листву, золотые иглы теряет лиственница. Дуют злые ветры, падают холодные дожди. Лето ушло, осень пришла. Птицам время в теплые края лететь.
Семь дней на опушке леса в стаи собирались, семь дней друг с другом перекликались:
– Все ли тут? Тут ли все? Все иль нет?
Только глухаря не слышно, глухаря не видно.
Стукнул беркут своим горбатым клювом по сухой ветке, стукнул еще раз и приказал молодой кукушке позвать глухаря.
Свистя крыльями, полетела кукушка в лесную чащобу.
Глухарь, оказывается, здесь – на кедре сидит, орешки из шишек лущит.
– Уважаемый глухарь, – сказала кукушка, – птицы в теплые края собрались. Уже семь суток вас дожидаются.
– Ну-ну, всполошились! – проскрипел глухарь. – В теплые земли лететь не к спеху. Сколько здесь в лесу орехов, ягод… Неужто это все мышам и белкам оставить?
Вернулась кукушка:
– Глухарь орехи щелкает, лететь на юг, говорит он, не к спеху.
Послал тогда беркут проворную трясогузку.
Прилетела она к кедру, вокруг ствола десять раз обежала:
– Скорее, глухарь, скорее!
– Уж очень ты скорая. Перед дальней дорогой надо маленько подкрепиться.
Трясогузка хвостиком потрясла, побегала-побегала вокруг кедра, да и улетела.
– Великий беркут, глухарь перед дальней дорогой хочет подкрепиться, сил набрать.
Разгневался беркут и повелел всем птицам немедля в теплые края лететь.
А глухарь еще семь дней орехи из шишек выбирал, на восьмой вздохнул, клюв о перья почистил.
– Ох, не хватает у меня сил все это съесть. Жалко такое добро покидать, а приходится…
И, тяжело хлопая крыльями, полетел на лесную опушку. Но птиц здесь уже не видно, голосов их не слышно.
«Что такое?» – глазам своим глухарь не верит: опустела поляна, даже вечнозеленые кедры оголились. Это птицы, когда глухаря ждали, всю хвою склевали; земля вокруг кедров от птичьего помета побелела.
Горько заплакал, заскрипел глухарь:
– Без меня, без меня птицы в теплые края улетели… Как теперь буду я здесь зимова-а-ать?
От слез покраснели у глухаря его темные брови. С той поры и до наших дней дети, и внуки, и правнуки глухаря, эту историю вспоминая, горько плачут. И у всех глухарей брови, как рябина, красные.

Горностай и заяц

Зимней ночью вышел горностай на охоту. Он под снег нырнул, вынырнул, на задние лапы встал, шею вытянул, прислушался, головой повертел, принюхался…
И вдруг словно гора свалилась ему на спину. А горностай хоть ростом мал, да отважен – обернулся, зубами вцепился – не мешай охоте!
– А-а-а-а! – раздался крик, плач, стон, и с горностаевой спины свалился заяц.
Задняя нога у зайца до кости прокушена, черная кровь на белый снег течет.
Плачет заяц, рыдает:
– О-о-о-о! Я от совы бежал, свою жизнь спасти хотел, я нечаянно тебе на спину свалился, а ты меня укуси-и-и-ил…
– Ой, заяц, простите, я тоже нечаянно…
– Слушать не хочу, а-а-а! Никогда не прощу, а-а-а-а! Пойду на тебя медведю пожалуюсь! О-о-о-о!
Еще солнце не взошло, а горностай уже получил от медведя строгий указ:
«В мой аил на суд сейчас же явитесь! Старейшина здешнего леса Темно-бурый медведь».
Круглое сердце горностаево стукнуло, тонкие косточки со страху гнутся… Ох, и рад бы горностай не идти, да медведя ослушаться никак нельзя…
Робко-робко вошел он в медвежье жилище.
Медведь на почетном месте сидит, трубку курит, а рядом с хозяином, по правую сторону, – заяц. Он на костыль опирается, хромую ногу вперед выставил.
Медведь пушистые ресницы поднял и красно-желтыми глазами на горностая смотрит:
– Ты как смеешь кусаться?
Горностай, будто немой, только губами шевелит, сердце в груди совсем не помещается.
– Я… я… охотился, – чуть слышно шепчет.
– На кого охотился?
– Хотел мышь поймать, ночную птицу подстеречь.
– Да, мыши и птицы – твоя пища. А зайца зачем укусил?
– Заяц первый меня обидел, он мне на спину свалился…
Обернулся медведь к зайцу, да как рявкнет:
– Ты для чего это горностаю на спину прыгнул?
Задрожал заяц, слезы из глаз водопадом хлещут:
– Кланяюсь вам до земли, великий медведь. У горностая зимой спина, как снег, белая… Я его со спины не узнал… ошибся…
– Я тоже ошибся, – крикнул горностай, – заяц зимой тоже весь белый!
Долго молчал мудрый медведь. Перед ним жарко трещал большой костер, над огнем на чугунных цепях висел золотой котел с семью бронзовыми ушками. Этот свой любимый котел медведь никогда не чистил, боялся, что вместе с грязью счастье уйдет, и золотой котел был всегда ста слоями сажи, как бархатом, покрыт.
Протянул медведь к котлу правую лапу, чуть дотронулся, а лапа уже черным-черна. Этой лапой медведь зайца слегка за уши потрепал, и вычернились у зайца кончики ушей!
– Ну вот, теперь ты, горностай, всегда узнаешь зайца по ушам.
Горностай, радуясь, что дело так счастливо обошлось, кинулся бежать, да медведь его за хвост поймал. Вычернился у горностая хвост!
– Теперь ты, заяц, всегда узнаешь горностая по хвосту.
Говорят, что с той поры и до наших дней горностай и заяц друг на друга не жалуются.

Дети зверя Мааны

В стародавние времена жила на Алтае чудо-зверь Мааны. Была она, как кедр вековой, большая. По горам ходила, в долины спускалась – нигде похожего на себя зверя не нашла. И уже начала понемногу стареть:
«Я умру, – думала Мааны, – и никто на Алтае меня не вспомянет, забудут все, что жила на земле большая Мааны. Хоть бы родился у меня кто-нибудь…»
Мало ли, много ли времени прошло, и родился у Мааны сын – котенок.
– Расти, расти, малыш! – запела Мааны. – Расти, расти.
А котенок в ответ:
– Мрр-мрр, ррасту, ррасту…
И хоть петь-мурлыкать научился, но вырос он мало, так и остался мелким.
Вторым родился барсук. Этот вырос крупнее кота, но далеко ему было до большой Мааны, и характером был он не в мать. Всегда угрюмый, он днем из дома не выходил, ночью по лесу тяжело ступал, головы не поднимая, звезд, луны не видя.
Третья – росомаха – любила висеть на ветках деревьев. Однажды сорвалась с ветки, упала на лапы, и лапы у нее скривились.
Четвертая – рысь – была хороша собой, но так пуглива, что даже на мать поднимала чуткие уши. А на кончиках ушей у нее торчали нарядные кисточки.
Пятым родился ирбис-барс. Этот был светлоглаз и отважен. Охотился он высоко в горах, с камня на камень легко, будто птица, перелетал.
Шестой – тигр – плавал не хуже Мааны, бегал быстрее барса и рыси. Подстерегая добычу, был нетороплив – мог от восхода солнца до заката лежать притаясь.
Седьмой – лев – смотрел гордо, ходил высоко подняв свою большую голову. От его голоса содрогались деревья и рушились скалы.
Был он самый могучий из семерых, но и этого сына Мааны-мать играючи на траву валила, забавляясь, к облакам подкидывала.
– Ни один на меня не похож, – дивилась большая Мааны, – а все же это мои дети. Когда умру, будет кому обо мне поплакать, пока жива – есть кому меня пожалеть.
Ласково на всех семерых поглядев, Мааны сказала:
– Я хочу есть.
Старший сын – кот, мурлыча песенку, головой о ноги матери потерся и мелкими шагами побежал на добычу. Три дня пропадал. На четвертый принес в зубах малую пташку.
– Этого мне и на один глоток не хватит, – улыбнулась Мааны, – ты сам, дитя, подкрепись немного.
Кот еще три дня птахой забавлялся, лишь на четвертый о еде вспомнил.
– Слушай, сынок, – сказала Мааны, – с твоими повадками трудно будет тебе жить в диком лесу. Ступай к человеку.
Только замолчала Мааны, а кота уже и не видно. Навсегда убежал он из дикого леса.
– Я голодна, – сказала Мааны барсуку.
Тот много не говорил, далеко не бегал. Вытащил из-под камня змею и принес матери.
Разгневалась Мааны:
– Ты от меня уйди! За то, что принес змею, сам кормись червями и змеями.
Похрюкивая, роя землю носом, барсук, утра не дожидаясь, в глубь черного леса побежал. Там, на склоне холма, он вырыл просторную нору с восемью входами-выходами, высокую постель из сухих листьев взбил и стал жить в своем большом доме, никого к себе не приглашая, сам ни к кому в гости не наведываясь.
– Я хочу есть, – сказала Мааны росомахе.
Семь дней бродила по лесу кривоногая росомаха, на восьмой принесла матери кости того оленя, чье мясо сама съела.
– Твоего, росомаха, угощенья ждать – с голоду умрешь, – сказала Мааны. – За то, что семь дней пропадала, пусть потомки твои по семь дней добычу выслеживают, пусть они никогда не наедаются досыта, пусть едят с голоду все, что придется…
Росомаха обвила кривыми лапами ствол кедра, и с тех пор Мааны не видала ее.
Четвертой пошла на охоту рысь. Она принесла матери только что добытую косулю.
– Да будет твоя охота всегда так же удачлива, – обрадовалась Мааны. – Твои глаза зоркие, уши чуткие. Хруст сухой ветки ты слышишь на расстоянии дня пути. Тебе в непроходимой чаще леса хорошо будет жить. Там, в дуплах старых деревьев, ты детей своих будешь растить.
И рысь, неслышно ступая, той же ночью убежала в чащобу старого леса.
Теперь на ирбиса-барса посмотрела Мааны. Еще слова сказать не успела, а барс одним прыжком уже вскочил на островершинную скалу, одним ударом лапы повалил горного теке-козла.
Перебросив его через плечо себе на спину, барс на обратном пути поймал быстрого зайца. С двумя подарками мягко прыгнул он вниз к жилищу старой Мааны.
– Ты, ирбис-сынок, всегда живи на высоких скалах, на недоступных камнях. Живи там, где ходят горные теке-козлы и вольные аргали [4]4
Аргали – дикий горный баран (азиатский).
[Закрыть].
Взобрался барс на скалы, убежал в горы, поселился между камней.
Куда пошел тигр, Мааны не знала. Добычу он принес ей, какую она не просила. Он положил к ее ногам убитого охотника.
Заплакала, запричитала большая Мааны:
– Ой, сынок, как жестоко твое сердце, как нерасчетлив твой ум. Ты первый с человеком вражду начал, твоя шкура полосами его крови на вечные времена окрашена. Уходи жить туда, где полосы эти будут мало приметны, – в частый камыш, в тростники, в высокую траву. Охоться там, где ни людей, ни скота нет. В хороший год питайся дикими кабанами и оленями, в плохой – лягушек ешь, но не трогай человека! Если в этих гиблых местах ты первый увидишь охотника – это твое счастье, – беги! Если человек первый тебя заметит – это его счастье, – он не остановится, пока тебя не настигнет.
С громким жалобным плачем полосатый тигр в тростники ушел.
Теперь отправился на добычу седьмой сын – лев. В лесу охотиться он не захотел, спустился в долину и приволок оттуда убитого всадника и мертвую лошадь.
Мааны-мать чуть ум не потеряла:
– Ох-ох! – стонала она, царапая свою голову. – Ох, жаль мне себя, зачем родила я семерых детей! Ты, седьмой, самый свирепый! На моем Алтае не смей жить! Уходи туда, где не бывает зимней стужи, где не знают лютого осеннего ветра. Может быть, жаркое солнце смягчит твое твердое сердце.
Так услала от себя всех семерых детей жившая когда-то на Алтае большая Мааны.
И хотя под старость осталась она одинокой, и хотя, говорят, умирая, никого из детей своих позвать не захотела, все же память о ней жива – дети зверя Мааны по всей земле расселились.
Давайте же споем песню о Мааны-матери, сказку о ней всем людям расскажем.









