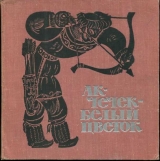
Текст книги "Ак-Чечек — Белый Цветок"
Автор книги: Анна Гарф
Соавторы: Павел Кучияк
Жанр:
Фольклор: прочее
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
А. Гарф, П. Кучияк
Ак-Чечек – Белый Цветок
Алтайские сказки

Про деда и бабушку, про синюю корову и кабаргу-лакомку

У опушки черного леса, на берегу быстрой реки, возле пушистых лиственниц стоял маленький, крытый корьем шалаш. В шалаше жили дед и бабушка. Деда звали Коголдей-мерген, бабушку – Ялакай-Алтын. Оба они под старость, словно зайцы к зиме, совсем побелели.
Никого, ничего у них не было, только синяя корова. Бабушка корову доила, молоко заквашивала, твердый алтайский сыр-курут над костром коптила.
Дедушка острым ножом вырезал из березового нароста славные чашки-чочойки, красивым узором их украшал.
Долгими осенними ночами, у жаркого костра, старик сказки пел, песни свистал. Голос его то журчал переливчато, как горный ручей, то громом гремел, то звенел нежно, будто кукование кукушки ранней весной. Старуха при свете костра шкуры звериные мяла, чтобы одежда, из них пошитая, мягкой, легкой была. Разминая шкуры, сказки слушала.
И сказки эти так гладко текли, что из полусонного черного леса, с каменных россыпей чуткая кабарга прибегала деда послушать. Свет костра белел на ее длинных клыках. Всю ночь, бывало, у шалаша стоит слушает.
Но вот однажды кабарга и днем о сказках вспомнила. Осторожно тонкими ногами перебирая, спустилась она к шалашу. Там стоял котел, полный молока. Кабарга заглянула в котел, понюхала, и сама не заметила, как половину молока выпила!
– Ох, вкусно… Однако, так наевшись, далеко не убежишь.
И кабарга прилегла отдохнуть в тени лиственниц.
Вернулась старуха домой, хотела молоко вскипятить, а котел наполовину пустой. Старуха даже руки подняла:
– Шестьдесят лет под этим шалашом живем, такого не случалось. Кто молоко выпил?
От стыда мигом вскочила кабарга, без оглядки умчалась. На высокие скалы, на горные уступы взобралась, куда и когтистому зверю не подняться, на холодные острые камни прыгнула, куда и крылатой птице не залететь.
Весь день, всю долгую ночь бродила в горах кабарга…
Под утро снова легким шагом пришла к шалашу, опять молоко выпила и умчалась в горы.
Рассердились старики, воткнули в землю три жерди и котел на них подняли.
Когда старик ушел на охоту, а старуха погнала на луг синюю корову, кабарга опять прибежала к шалашу. Увидела – котел стоит высоко, губами пожевала:
– Бш-ш-ш-ш… – Головой повела. – Пш-ш-ш, старики меня испугались, молоко вон куда поставили!
Стукнула передними копытами по жердям, котел качнулся, и молоко выплеснулось кабарге на спину. Серая спина покрылась молочными пятнами.
Сколько по земле каталась кабарга! Сколько о камни шоркалась! Нет, белые пятна никак не сотрет.
Стыдясь этой отметины, кабарга теперь всегда к серым камням жмется, в непроходимой чаще леса прячется. А все же, осенними вечерами, как только заведет старик Коголдей-мерген горловую свистящую песню, не вытерпит кабарга, неслышно с каменных россыпей, с высоких скал спустится и, притаясь в тени деревьев, уши поднимет, не шевелясь стоит, слушает.
И нам тоже дедушку Коголдей-мергена послушать довелось, молока синей коровы попить, бабушкиного копченого сыра-курута отведать.
Здесь, у этого костра, мы с Павлом Васильевичем Кучияком слушали знаменитого на Алтае слепого певца старика Улагашева, известного сказителя Сабашкина, слепую девушку сказочницу Казак Какпоеву, молодого колхозника-весельчака и замечательного рассказчика Кыргызакова…
И вот однажды осенью заседлали мы двух лошадей, каждой повесили на шею литой медный колоколец-ботало, чтобы слышно было, где ходят, когда мы пустим их на ночь пастись. Захватили с собой дорожные охотничьи мешки-арчимаки, взяли винтовку, одну на двоих, и выехали в долины и горы Алтая.
В дикой горной тайге Павел Васильевич узнавал дорогу по едва приметному излому былинки, по едва различимой ссадине на коре дерева.
На кедрах уже, как свинцом налились, потяжелели большие, с кулак, синие шишки. Тонкая, будто вырезанная из бумаги, хвоя лиственниц пожелтела.
Кучияк сказал:
– Богатырь, нам с вами еще неведомый, пил из золотой чочойки золотистое вино и, захмелев, расплескал его по всему Алтаю…
Семь дней мы верхами пробирались по горной лесной тропе, по краю обрыва ехали, частые ручьи переходили. Мелкими каменистыми бродами шли. На восьмой день у опушки черного леса, на берегу быстрой реки, под мохнатыми, пожелтевшими лиственницами спешились. Стреножили коней, а сами поспешили к шалашу. Подошли, а там нет никого. Ни деда, ни бабушки, ни синей коровы. Кабарожьи следы вели к трем покосившимся жердям, обратного следа мы не нашли.
Зола белела на месте костра, покрытый ржавчиной топор лежал рядом с красным упавшим на землю стволом высохшей лиственницы.
Этим топором Кучияк стесал кусок коры с жерди под навесом и карандашом написал по-алтайски:
Беззаботно сбросив на землю свои арчимаки,
полные богатой добычи,
В этом шалаше отдыхали два удачливых охотника.
Добро, ими добытое, не нуждается в охране —
Это сказки. Они сами даются в руки тому, кто их любит.
Но вот беда – охота за сказками насыщает душу.
Голод эти охотники утоляли лишь черствым хлебом
да диким чесноком.
Сладкими корнями саранки охотники не решались
полакомиться —
Так хороши были цветы саранки…
Уже давно нет в живых алтайского поэта Павла Кучияка. Нет всеми на Алтае почитаемого старика Улагашева. Не возьмет в руки топшур [1]1
Топшур – щипковый музыкальный инструмент, обтянутый кожей.
[Закрыть], с двумя струнами из конского волоса, прославленный Сабашкин. Не услышим мы Казак Какпоеву, не приложит она к губам маленький, изогнутый наподобие подковы комус [2]2
Комус-металлический губной музыкальный инструмент.
[Закрыть], не сыграет на нем песню летящих в небе серых гусей. Не придет к лесному костру колхозник Кыргызаков, чтобы самому посмеяться и нас посмешить озорными шутками-прибаутками…
Но сказки живут! Их сберегли, передавая друг другу из уст в уста, не знавшие грамоты пастухи и охотники.
Много лет назад мы с поэтом Павлом Кучияком записали, до этого никем еще не записанные, устные предания алтайцев. А теперь, дорогие друзья, хочу вам рассказать их, чтобы и вы тоже этим сказкам порадовались и полюбили алтайский край и людей Алтая.
Анна Гарф

Дил-кель

В старину, в далекую старину, все птицы жили на юге, и весной на Алтае пели только реки.
Однажды эту весеннюю песню воды принес птицам северный ветер. Всполошились птицы:
– Кто гам поет, кто звенит, ни днем, ни ночью не умолкая? Какая радость случилась, какое счастье пришло на Алтай?
Однако лететь в неведомую землю было страшно.
Напрасно уговаривал беркут скворцов и трясогузок, дроздов и кукушек. Отказались пуститься на север мудрые совы, нежные зяблики, серые гуси, свирепый ястреб. Даже благородный сокол собраться в дорогу не решился.
И только маленькая синичка отважилась.
– Слушай! – крикнул ей вдогонку беркут. – Если там хорошо, возвращайся скорей, покажи всем птицам дорогу.
– Цици-вю, цици-вю, цици-вю! – засвистала синица. – Вернусь-вернусь-вернусь! Цици-фюйть! – и улетела.
Летела она над морями и долинами, над лесами и реками. Сначала спешила-торопилась, часто-часто перебирала крыльями, потом все медленнее, медленнее… Живот у нее озяб, крылья ослабели… И когда уж совсем обессилела, увидала холмистые алтайские горы. В лучах восходящего солнца Алтай стоял весь розовый. Сверкали, будто огнями переливались, покрытые льдом и снегом холмы, долины.
– О, какой большой костер, – сказала синичка, – уж лучше сгореть, чем замерзнуть…
Сложила она крылья и упала. Но не в огонь, а на снег.
– Ци-си-ци… – пискнула синица, – здесь, на снегу, смерть легко меня одолеет…
Но тут увидела она на голой ветке трещину, в трещине личинку, а рядом, завернутая в сто паутинок, спала маленькая гусеница.
Клюнула синица разок, клюнула другой, и сердце взыграло, живот согрелся, голова легкой стала. Посвистывая, перелетает синица с ветки на ветку – то ягодку прошлогоднюю склюнет, то паучка на согретом солнцем пне подцепит. С каждым днем цокает и поет все веселей. Забыла она, для чего сюда прилетела, кто послал ее в этот обильный край, где родилась, и то уже не помнит.
Но вот, однажды, вдруг зашатались деревья от ветра, почернело небо от птичьих крыл. Это явилось на Алтай птичье войско.
Впереди всех грозный беркут.
Опомнилась синица, испугалась. А беркут уже кружит над ней:
– Однако, ты тут не плохо живешь, как я погляжу! Одна всем северным лесом владеешь. Почему домой не вернулась? Почему никакой другой птицы сюда позвать не захотела?
Голову опустила синичка, даже хвостик не трепещет. Не знает, как оправдаться.
Тихо-тихо стало в лесу, и синичка услышала теньканье первой капели. Встрепенулась, спохватилась:
– Кланяюсь вам до земли, великий беркут! В этом краю лед в семь рядов лежит, снег из семидесяти семи туч падает. Я одна тут с зимой спорю, весну зову: «Дил-кель! Дил-кель! Весна, приди! Весна, приди!» Это по моей просьбе теплый ветер подул, белый снег потемнел. Сама за вами лететь собиралась, да недосуг: «Дил-кель! Дил-кель! Весна, приди, приди! Цици-вю, цици-вю! Цок-цок-цок! Цици-фюйть!» Слушайте, слушайте, великий беркут, смотрите, смотрите!
Опустился беркут на голую вершину лиственницы, кругом посмотрел.
– Дил-кель! Дил-кель! – звенела синица. – Весна, приди!
И там, где слышалась эта песенка, снег таял, просыпались ручьи и реки, наливались на деревьях тугие почки.
– Ладно, – засмеялся беркут, – на этот раз прощаю тебя, легкая головушка. Через год видно будет, правду ли ты говоришь.
Вот с тех пор, чтобы обман не раскрылся, синица раньше всех в лесу начинает свою весеннюю песнь, а за ней запевают и другие птицы.

Малыш Рысту

Далеко-далеко, там, где небо с землей сливается, на подоле синей горы, на берегу молочного озера жил мальчик. Ростом он был с козленка. Из двух беличьих шкурок мальчик сшил себе шапку, из козьего меха – мягкие сапожки. Лицо у него было, как луна, круглое, и он никогда не плакал.
Язык птиц и зверей мальчик хорошо понимал, пчел и кузнечиков внимательно слушал. Он и сам то зажужжит, то застрекочет, то как птица защебечет, то зажурчит, как родник. Дунет мальчик в сухой стебель – стебелек поет, тронет мальчик пальцем паутинку – она звенит.
Вот однажды ехал мимо молочного озера хан Ак-каан верхом на белом коне. Услыхал Ак-каан нежный звон.
«Это не птица поет, не ручей бежит», – подумал хан.
Перегнулся он через седло, раздвинул кусты и увидал круглолицего мальчика. Малыш сидел на корточках, дул в сухой стебель, и стебель пел, словно золотая свирель.
– Как тебя зовут, дитя?
– Мое имя Рысту-Счастливый.
– Кто твой отец, где мать? Кто тебя кормит, кто поит?
– Отец мой – синяя гора, мать моя – молочное озеро.
– Хочешь быть моим любимым дитятей, Рысту? Я сошью тебе соболью шубу, дам тебе проворного иноходца, подарю серебряную свирель. Садись, малыш, на круп моего коня, обними меня покрепче, и мы помчимся быстрее ветра к моему белому шатру.
Рысту прыгнул на круп коня, обнял хана Ак-каана, и конь помчался быстрее ветра.
Было у хана двое детей: сын Кёз-кичинек и дочь Кара-чач.
Услыхали они ржанье коня, выбежали навстречу отцу, стремя поддержали, коня расседлать помогли.
– Что ты привез нам, отец?
Хан Ак-каан схватил Рысту за шиворот, поставил его перед своими детьми:
– Вот какой привез вам подарок! Дайте ему мою серебряную свирель, и он будет играть вам свои песенки и днем и ночью.
Но Рысту играть на серебряной свирели не захотел. Он от обиды слова вымолвить не мог.
– Не хочешь моих деток потешить? – рассердился хан. – Будешь, непокорный мальчишка, мой белый скот пасти!
И вот днем без отдыха, ночью без сна перегонял Рысту с пастбища на пастбище ханские стада, искал, где трава слаще, где вода чище. Летом солнце нещадно малыша жгло, зимой мороз пробирал до костей. Мягкие сапожки его скоробились, легкая шубенка присохла к плечам, глаза научились плакать.
Но никто ему слез не отер, никто с ним не заплакал.
Однажды зацепился малыш сапожком за сухой корень, споткнулся и упал лицом в траву. А встать не может, ослаб…
Лежит он и слушает, о чем шмели жужжат, о чем муравьи беседуют.
– Когда этот мальчик на синей горе жил, он плакать не умел.
– О чем же теперь плачет он так горько!
– Ноги его стертые болят, руки его натруженные устали.
– Да, тяжело ему день и ночь за стадом ходить.
– А сказал бы он, как перепел детям своим говорит: «Пып!» – и коровы, как перепелята, не сдвинулись бы с места.
– А крикнул бы он, как коростель кричит: «Тап-тажлан!» – и коровы поиграли бы с ним на лугу.
– Пып! – молвил Рысту по-перепелиному.
Коровы тут же легли.
– Тап-тажлан!
Коровы поднялись с травы, плясать начали.
Теперь малыш опять повеселел. Он сидел на берегу реки и щебетал, играя с береговыми ласточками. А коровы песни пели и плясали на лугу.
Узнал об этих забавах хан Ак-каан, как туча, посинел, как гром, загремел:
– Коров пасти не хочешь? Будешь масло сбивать.
Поставили малыша к большому чану с молоком, дали в руки длинную палку-мутовку и заставили крутить ее день и ночь. Руки мальчика отдыха не знали, сомкнуть глаза он ни на миг не смел.
Семья хана, его гости, даже слуги ели лепешки с маслом, а малыш Рысту и сухой лепешки никогда не видал.
– Хочешь – угощу? – засмеялась Кара-чач. – Сыграй на серебряной свирели! Вот лепешка, вот свирель.
– Это я принес свирель! – закричал Кёз-кичинек.
– Нет, я! – крикнула девочка и вцепилась брату в волосы.
Тот размахнулся, хотел было ударить ее, но Рысту сказал:
– Пып!
И рука девочки прилипла к волосам брата, рука мальчика к плечу сестры.
– Что с вами, дети мои? – заплакала ханша, обнимая сына и дочку. – Почему такая беда с вами случилась? Лучше бы этот мальчишка к палке-мутовке прилип!
– Пып! – тихонько прошептал Рысту, и ханша прилипла к своим детям.
Пришел домой хан:
– Что случилось? Почему все плачут, а ты один смеешься, непокорный Рысту? Отвечай, что с моей ханшей? Что с моими детьми? Не ответишь – нож возьму, голову твою отрублю, пику возьму – сердце твое проколю!
– Пып!
И хан остался стоять рядом с ханшей, в одной руке пика, в другой нож.
А малыш Рысту бросил палку-мутовку, толкнул ногой большой чан, поднял сухой стебелек, дунул в него и запел, как порхающая в небе птица.
Слушая эту песенку, хан дрожал, как мышь, ханша стонала, как большая лягушка, дети тихо плакали.
Пожалел их малыш, правую руку вверх поднял.
– Тап-тажлан! – крикнул он.
Хан, ханша, Кёз-кичинек, Кара-чач – все четверо в ладоши захлопали, ногами затопали, приплясывая, из аила [3]3
Аил – жилище, шатер, сложенный из коры лиственницы или березы. Пол в аиле земляной, посредине костер, над костром дымоходное отверстие.
[Закрыть]выскочили.
А счастливый Рысту на золотой ханский помост взошел. Один раз поскользнулся, в другой кувыркнулся, рассердился на самого себя, самому себе «Пып!» сказал и тут же к золотому помосту прилип.
Посидел-посидел, кругом поглядел – белый чистый войлок ханского шатра туго натянут на прочные жерди. Небо только через дымоходное отверстие увидеть можно – маленький синий клочок, величиной с ладонь.
Душно стало малышу в ханском шатре на золотом помосте.
– Тап-тажлан! – сказал он.
Помост подпрыгнул – малыш подскочил! Да так высоко, будто на крыльях взлетел, через дымоходное отверстие наружу вылетел. Перекувыркнулся, упал, на ноги встал и побежал к молочному озеру, к синей горе. Прибежал, молока из озера ладонью зачерпнул, разок-другой глотнул, улыбнулся, на синей горе шалаш себе поставил. Там и поныне живет.
Поет свои счастливые песни, играет на стеблях цветов, будто на свирели, паутинные нити пальцами перебирает, и паутинки в ответ тихим звоном звенят.
Эти песни, посвист, звон каждый может услышать, кто к тому месту, к той черте, где небо с землей сливается, подойдет.

Красная лиса и сыгырган-сеноставец

На каменной россыпи у светлого ручья, в щели между двух валунов жили дружные сыгырганы-сеноставцы.
Зубами резали они траву, сушили ее на камнях и ставили стога.
А повыше стойбища сеноставцев жила красная лисица.
Вот однажды в пасмурный день вышла она на охоту. Услыхал сеноставец-малыш лисьи шаги, почуял лисий запах, головой повертел, да как крикнет:
– Сыйит! Сыйит! Лиса идет!
Сеноставцы юркнули в щели и норы, осталась на каменной россыпи лишь сухая трава.
Понюхала лиса стожок и чуть не заплакала:
– Еще ни одна лиса сеном не кормилась, неужто я буду первая?
Выдернула клок, пожевала, а проглотить не может, только язык оцарапала да в горле запершило.
«А все из-за этого пищухи-сеноставца, – рассердилась лиса, – погоди-погоди! Съем я тебя и всю семью твою».
Подошла к щели между двух валунов и заверещала ласково:
– Ияу-у, какой старательный хозяин здесь живет, как ровно он траву накосил, как хорошо просушил ее, как ловко стога сметал! Даже человек мог бы у этого сыгыргана, у такого славного малыша, поучиться. Вот было бы счастье на этого умницу хотя бы одним глазком взглянуть.
Слыша эти похвалы, сеноставец спокойно в своей норе лежать не может. Он с боку на бок ворочается, вздыхает даже.
А лиса еще умильней тявкает:
– Неужто я никогда этого расторопного молодца не увижу? Ах, как приятно было бы с ним побеседовать…
Не вытерпел сеноставец, высунул мордочку из норки.
– И-и-и, – улыбнулась лиса, – как он с лица-то хорош! Взглянуть бы и на спинку! Говорят, со спины он еще краше.
Сыгырган спрятал голову и выставил спинку.
Тут лиса и ухватила его! Сеноставец даже крикнуть не успел.
Бежит лиса к себе в горы, своих деток сеноставцем угостить спешит. Крепко сеноставец зубами лисьими прижат.
Плачет бедняга, приговаривает:
– Ох, несчастный мой отец, бедная мать…
Услыхала сорока этот громкий плач, распахнула свою черную шубу с белой оторочкой, полетела следом за лисой и застрекотала:
– Сам, сам ты, сеноставец, лисе в зубы полез, о чем-чем-чем ты теперь плачешь?
– Как мне не плакать, слез не лить? Отец и мать меня всегда просили, уговаривали: «Не оставляй нас, сынок, куда бы ты ни вздумал ехать, и мы с тобой!» Но вот видишь, сорока, случилось так, что сам я в горы еду, а стариков своих дома оставил. Никогда мне этого отец с матерью не простят. Всю жизнь на меня будут в обиде.
Остановилась лиса. Не выпуская сеноставца изо рта, она пробормотала:
– Я могу и штариков твоих вжять. Где они?
– Тут близехонько, вон в тех камушках живут.
– Пожови их шкорей! – сказала лиса и разжала зубы.
– Сыйит! Сыйит! – крикнул сеноставец и юркнул в щель между камней.
Лиса тут же спохватилась, успела поймать малыша за хвост. Цепко держит, не отпускает. Однако и сеноставец крепко засел в щели, не вылезает.
Тянула его лиса за хвост, тянула, никак не вытянет. Рванула из последних сил, да вдруг как перекувыркнется! Затылком о камни стукнулась, еле-еле на ноги встала – в зубах у нее только сыгырганов хвост.
С того дня у лисы морда вытянулась, а сеноставец остался без хвоста.

Сто умов

Как стало тепло, прилетел журавль на Алтай, опустился на родное болото и пошел плясать! Ногами перебирает, крыльями хлопает.
Бежала мимо голодная лиса, позавидовала она журавлиной радости, заверещала:
– Смотрю и глазам своим не верю – журавль пляшет! А ведь у него, у бедняги, всего только две ноги.
Глянул журавль на лису – даже клюв разинул: одна, две, три, четыре лапы!
– Ой, – крикнула лиса, – ох, в таком длинном клюве ни одного-то зуба нет…
Стоит улыбается, а зубов у нее не сосчитать!
Журавль и голову повесил.
Тут лиса еще громче засмеялась:
– Куда ты свои уши спрятал? Нет у тебя ушей! Вот так голова! Ну, а в голове у тебя что?
– Я сюда из-за моря дорогу нашел, – чуть не плачет от обиды журавль, – есть, значит, у меня в голове хоть какой-то ум.
– Ох, и несчастный ты, журавль, – две ноги да один ум. Ты на меня погляди – четыре ноги, два уха, полон рот зубов, сто умов и замечательный хвост.
С горя журавль еще длиннее вытянул свою длинную шею и вдали увидел человека с луком и охотничьей сумой.
– Лиса, почтенная лиса, у вас четыре ноги, два уха, замечательный хвост, у вас полон рот зубов, у вас сто умов – охотник идет!!! Как нам спастись?!
– Мои сто умов всегда сто советов дадут.
Сказала и скрылась в барсучьей норе.
Журавль подумал:
«У нее сто умов», – и туда же за ней!
Никогда охотник такого не видывал, чтобы журавль за лисой гнался.
Сунул руку в нору, схватил журавля за длинные ноги и вытащил на свет.
Крылья у журавля распустились, повисли, глаза как стеклянные, даже сердце не бьется.
«Задохся, верно, в норе», – подумал охотник и швырнул журавля на кочку.
Снова сунул руку в нору, лису вытащил.
Лиса ушами трясла, зубами кусалась, всеми четырьмя лапами царапалась, а все же попала в охотничью суму.
«Пожалуй, и журавля прихвачу», – решил охотник.
Обернулся, глянул на кочку, а журавля-то и нет! Высоко в небе летит он, и стрелой не достанешь.
Так погибла лиса, у которой было сто умов, полон рот зубов, четыре ноги, два уха и замечательный хвост.
А журавль одним своим умишком пораскинул и то смекнул, как спастись.









