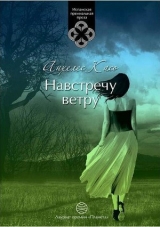
Текст книги "Навстречу ветру"
Автор книги: Анхелес Касо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
После церкви мы отправлялись в кафе на главной улице. Отец вел маму, опустившую голову и неуверенно шагающую, под руку, а мы впятером шли позади, сдерживая жгучее искушение побежать наперегонки, как по дороге из школы домой. В это время кафе было заполнено семьями, сильно напоминавшими нашу: самодовольные отцы, мальчики в пиджаках и галстуках, девочки, наряженные в лучшие платьица и в блестящих лакированных туфельках. Единственное, что, как мне казалось, отличалось – это матери. Другие мамы носили зимой шубы, а летом – очень элегантные платья, а также много золотых украшений и ожерелья из жемчуга. Они красили губы и пахли дорогими духами. Они приветствовали друг друга звучными поцелуями, вместе листали журналы, иногда весело смеялись, издалека присматривали за своими детьми, пока их мужья говорили друг с другом за барной стойкой.
Я смотрела на свою маму, маленькую, полноватую, седую, расплывчатую под ее всегда темной одеждой и без украшений, и замечала ту грустную улыбку, не распространявшуюся на глаза, и которой она приветствовала тех, кто удосужился обратить на нее внимание. Мама знала, что остальные презирают ее, в душе смеются над ее внешностью, над молчаливостью, с которой она садилась в уголке, незамеченная всеми этими дамами, которые тем временем громко сплетничали о помолвке популярной актрисы или о новом фасоне платья дочери Франко. И тогда на меня накатывала ужасная жалость, и мне очень хотелось заплакать. Я садилась рядом с мамой и брала ее за руку под столом, потому что мне хотелось позаботиться о ней, сказать, что она – лучшая мама на свете, защитить ее от мелочности этих разряженных в драгоценности женщин, от безразличия отца, который вел беседу у бара и был совершенно чужд ее беззащитности. Это был для меня худший момент всей недели. Я потягивала безвкусный напиток, держа мамину руку и все время следя глазами за отцом, пока ждала момента, когда он попрощается с друзьями и направится к нам, чтобы идти домой, момента, чтобы вытащить маму из этой клетки, в которой больше чем обычно она походила на птицу без оперения.
Родители с Мигелем вернулись домой после лета, проведенного в деревне. Бабушка, сдерживая рыдания, дала дочери пару бутылок своей микстуры против послеродовой депрессии и посоветовала спрятать их от мужа и принимать за его спиной. Мама поставила бутылки в самый дальний угол чулана за банками с маслом. Но однажды ночью отец внезапно зашел на кухню перед сном и застал ее принимающую лекарство. Конечно, он стал спрашивать, выяснять, угрожать, и мама ему объяснила. По крайней мере, частично. Она сказала отцу, что после родов она плохо себя чувствовала, лишилась аппетита, чувствовала усталость, и бабушка дала ей травы, чтобы подбодрить ее.
Отец закричал, что это уловки ведьмы. Он хотел знать, какие заклятья произносила старуха, какие молитвы дьяволу. Отец не хотел иметь ничего общего с этими недостойными средствами. Он был добропорядочным христианином, достойным человеком и не мог допустить, чтобы в его доме совершались магические обряды и шабаши. Отец строго-настрого запретил маме принимать зелье и сам лично отнес бутылки к мешкам с мусором, которые уже стояли на улице. Потом он посадил ее в гостиной и сказал, что у мамы нет никакого права жаловаться. Дескать, у нее было все, чего только могла пожелать женщина: хороший обеспеченный муж, здоровый сын и прекрасный дом. Маме ничего не оставалось, кроме как признать его правоту, хотя ее глаза были наполнены слезами, а сердце казалось маленьким, как будто оно внезапно уменьшилось и дрожало в груди, и она знала, что ее страдания никак не связаны с удачей, которую она встретила на своем пути по сравнению с невзгодами других. Она лечилась от болезни. Но этот человек никак не мог понять ее грусти.
– Больше никогда не хочу видеть, как ты плачешь. Не хочу слышать твоих жалоб. Никаких причитаний в моем доме. Я тебе запрещаю.
Мама осмелилась ответить:
– Но я же не жалуюсь…
– На всякий случай, если тебе взбредет в голову. Или я сделаю так, что тебя объявят сумасшедшей. И еще. Знай, ты больше никогда не увидишься с матерью.
То же самое он сообщил бабушке в письме: с этих пор они больше не приедут в деревню. А если он узнает, что несмотря ни на что бабушке удалось и дальше поить свою дочь всякими зельями, он обратится к судье, и маму признают выжившей из ума и отнимут ребенка. И он сделает все возможное, чтобы она никогда не вышла из сумасшедшего дома.
Бабушка поняла, что стоит отнестись к этим угрозам со всей серьезностью. Она сильно закусила кулаки, чтобы не закричать и не пожелать смерти этому выродку, на этот раз она даже не стала молиться святому Панкратию. Судьба ее дочери показалась ей достаточно злосчастной, чтобы обратиться прямо и смиренно к самому Богу, без посредничества его святых. Каждую ночь бабушка молилась Ему, чтобы Он дал ее дочери покой в жизни, и чтобы она время от времени возвращалась домой. Хотя бы иногда. Чтобы обида этого злого человека прошла, и он позволил бы им снова быть вместе, и чтобы бабушка могла заботиться о маме и баловать ее, и чувствовать, как и всегда, что делает то, что лучше всего умеет. Словно бы вся эта любовь была единственным истинным чувством, ее предназначением на земле.
Мама и бабушка не виделись много месяцев, пока на свет не появился Антонио. Отцу, наверное, опять надоели крики очередного младенца, и он решил, что его отдых важнее наказания, назначенного его жене и свекрови. Мама пережила самый худший период в своей жизни, думая, что никогда больше не увидит, как облака сталкиваются с вершинами холмов и рассыпаются в белые лоскуты, не увидит цветы яблони, появляющиеся из бутонов, словно крошечные сокровища, и как форель легко плавает и прыгает за наживкой. Что никогда больше не услышит насмешливый шорох листьев на ветру, ритмичный звук камня, затачивающего косу, долгую болтовню пичужек, прячущихся среди ветвей деревьев на холме, и могучее уханье совы по ночам, когда она кричала словно королева леса. Никогда не почувствует все те запахи, ставшие частью ее самой. Запахи травы и мха, влажных камней, свежего дымящегося на земле навоза, сладкий аромат цветов. И в особенности запах своей матери, эту необычную смесь свеженадоенного молока и мыла. Не ощутит ласкового прикосновения ее руки на волосах и нежную мягкость ее груди, наполненной теплотой. Никогда больше не увидит она свою маму, не поговорит с ней. Не сможет прижаться к ней в объятиях и дать себя поцеловать, почувствовав себя снова маленькой девочкой, такой легкой и слабой, как младенец, и в то же время такой защищенной ее нерушимой силой.
Должно быть, они долго обнимались. Бабушка пыталась удержать мамино тело, ставшее крохотным, шатким, словно грусть пожирала его изнутри и оставляла без всякой опоры, без достаточного осознания самого себя, которое необходимо, чтобы устойчиво двигаться в этом мире. Обе знали без лишних слов, что происходило. И знали, что на этот раз трава полыни не подойдет в качестве лекарства. Отец, готовый на все, лишь бы никакие подозрения в инакомыслии не пали на его семью, безразличный к страданиям своей жены, заставил бабушку поклясться на распятии, что она не будет испытывать на маме ни один из своих волшебных рецептов. Этим он не удовлетворился, обыскал весь дом, каждый шкаф и чулан, и все старые трухлявые сундуки, даже хлев и сарай, заглянул за каждый камень, каждую банку с молоком, каждый сложенный из трав пучок. Потом он пригрозил явиться в любой момент без предупреждения и застать их врасплох, если они снова станут играть в свои бесовские игры. А о том, что произойдет после, мама и бабушка были предупреждены.
Им пришлось придерживаться правил отца. Бабушка окружила маму всей нежностью и заботой, на которую только была способна, но не осмелилась дать ей в те несколько недель даже обычный ромашковый настой. Мама со временем понемногу поправлялась. Щеки у нее порозовели от многих часов, проведенных на чистом воздухе. Временами, когда мама смотрела, как играет Мигель или как спит Антонио, как летают в вышине, издавая крики воинственных повелителей неба, коршуны, когда наблюдала из кухонного окна, как льет на поля изо всей силы дождь, или когда копалась в огороде под солнцем, пропалывая сорняки, или слушала дрожащий голос бабушки, поющей песню, в эти мгновения на несколько секунд в ее глазах снова появлялся тот давно исчезнувший огонек, горевший в маминых глазах, когда она была ребенком, маленький след того, что могло бы быть.
Но по мере того, как приближался день, в который отец должен был приехать за мамой, эта мимолетная капелька блеска рассеивалась, и она снова потеряла аппетит и начала дрожать, садилась молча в угол, конечно, думая о той жизни, которая ждет ее дома в городе, о жизни, которая ее пугала. Мама боялась отца. Его приказов, его криков, его каменного взгляда, его омерзительного тела, бьющегося на ней, словно ящерица, пока она сдерживала тошноту, чтобы ее не вырвало прямо там, на расшитые простыни смехотворного приданого нелепой невесты, допустившей ошибку. Того мрачного присутствия, подчинявшего все и вся, словно рассердившееся и капризное божество.
Еще мама боялась одиночества. Как она справится в одиночку со своим недугом, с ощущением беспомощности, от которого страдала? Конечно, рядом были дети, но перед ними надо казаться сильной, в каждую минуту заботиться о них и защищать. Но кто защитит ее саму? Кто погладит ее по волосам, когда ей захочется плакать? Кто приготовит за нее еду, когда она не будет знать, что делать? Кто выслушает ее обиды, эту грусть, которую она ощущала, но не могла дать ей имя, и которую ей надо было выплеснуть, словно яд? Кому бы она рассказала все это?
С этих пор у мамы осталась навсегда эта внутренняя грусть. Уже никак нельзя было рассеять тоску, которая поглотила ее. Но мама продолжала идти вперед, волоча за собой жизнь, как тяжелый камень. Вскоре родился Эрнесто, а затем – Хавьер. Потом – я. Соски, обеды, подгузники, одежда, уроки… Мама занималась всем. И всегда старалась дать лучшее, что у нее есть, ту частицу мужества, которая еще в ней оставалась, крохотные остатки радости, которые иногда могли появляться из ее опустошенной души. Особенно время, которое мы проводили в деревне по целых три летних месяца вдали от отца, свободные и счастливые, и только и делали, что бегали, плескались в речке, лазали по деревьям, воровали черешню, строили шалаши и заботились о щенках, родившихся в окрестностях. В эти недели мама как будто постепенно возвращалась к жизни и превращалась в совсем другого человека. В женщину, которая выходила на дорогу и звала нас в голос, – хотя в городе никогда не разговаривала громко, – которая часами болтала со своими подругами и даже порой танцевала народные танцы во время праздников.
Весь год мы с нетерпением ждали наступления лета и поездки в деревню. Мы словно жили воспоминаниями, по тысячу раз обсуждая приключения прошлых каникул и переписываясь с друзьями, которые жили там и сообщали нам о здоровье своих собак, коров, ослов, лошадей и даже лягушек из пруда за церковью. Мы считали, сколько месяцев осталось, затем – недели, и наконец, дни, зачеркивая их перед ужином один за другим в календаре, висевшем на кухне. Но то, чего мы так страстно желали, было не только нашим собственным удовольствием, отдыхом и бесконечными играми, а также отсутствием отца рядом. Это означало перемену в маминой жизни, невероятное облегчение оттого, что она на какое-то время будет бодрой духом и спокойной.
Всю любовь, которую мы неспособны были почувствовать к отцу, мы сосредоточили на маме. Все мы старались хорошо себя вести, чтобы она не расстраивалась, смешить ее нашими глупостями, защищать ее от тихой ярости ее мужа, заботиться о ней. Да, все мы были немного мамой для своей мамы. Никто нам ничего не объяснял, – бабушка рассказала нам о послеродовой депрессии, только когда мы выросли, – но мы осознавали ее печаль и слабость. Мы знали о маминой ежедневной борьбе за выживание, о том, каких усилий ей стоит вставать каждое утро, когда дух все время спит, об изматывающем противостоянии самой с собой, чтобы вести себя как нормальная жена и мать. Мы, словно опытные психиатры, знали этот безымянный недуг, который я про себя называла болезнью теней. Потому что именно такой была моя мать большую часть года, почти тенью, едва заметным дыханием жизни, бессильно проявлявшимся в движениях, действиях и словах. Тенью, которую мы обожали и мечтали придать ей сил.
Я всегда задавалась вопросом, стала бы моя жизнь другой, если бы мама не была понурой. Предполагаю, что да. Наверное, тогда бы в ее чреве нейроны сформировались бы по-другому, и их связи были бы другими, и гормоны с белками перемещались бы с другой скоростью. Возможно, если бы я в детстве видела, как мама улыбается и поет, мир не показался бы мне местом, наполненным опасностями. Может, я стала бы смелой и решительной. Любительницей приключений, например, одной из тех женщин, кто восходит на Эверест, задыхаясь от нехватки кислорода, всегда рискуя неправильно поставить ногу или с легкостью вывернуть палец на одной из рук и сорваться вниз, на каждом шагу ставя на карту свою жизнь. Кем-то, кто способен преодолеть все опасности и подняться на вершину, на самую высокую точку планеты и смотреть оттуда на крохотный и покоренный мир, простирающийся далеко внизу. Я бы пересекала пустыни, вдыхая песок и горячий воздух, глядя по ночам на звезды у костра и ощущая себя крохотной и спокойной посреди этой необъятности. Я бы преодолевала тропические леса, сражаясь с плодородностью их земли и наслаждаясь яркими цветами и звуками, светом, проникающим через множество листьев, пением неизвестных мне птиц, громким криком паукообразной обезьяны. Я бы шагала по полюсам, слушая завывание ветров и хруст льдин, невозмутимая и уверенная в себе посреди этой жестокой и бескрайней пустоши. Увидела бы затерянные развалины безымянных цивилизаций, неизвестных животных, реки неслыханной жестокости, города, оставшиеся в прошлом, пыльные и безмолвные. Любила бы многих мужчин так, словно каждый из них – единственный. Занималась бы разными делами, выучила бы много языков, познала бы тайны частиц и энергии, секреты особого перемещения светил во вселенной.
Вместо этого я жила, запертая и сосредоточенная на своих страхах, почти немая и глухая, делая все возможное, чтобы не сталкиваться с волнением перемен, с тревогой опасности. Застывшая и бледная, словно статуя. Как будто бы моя кровь была твердой. Грязными кусками камней, которые не допускают какое-либо движение.
Поэтому я восхищаюсь Сан. Потому что она смогла воплотить в жизнь все, что я душила, гасила в себе, держала под пластами земли. Да, среди всех людей, кого я знаю, Сан я восхищаюсь больше всех.
Сан
Карлина родила Сан самостоятельно. Это были ее вторые роды, и прошли они так быстро, так внезапно, что она не успела никого предупредить. Она только почувствовала, что между ног стало мокро, как горячая мощная струя отходящих вод побежала по коже на землю, и тяжесть чего-то твердого и упругого, что пыталось выбраться из ее чрева. Карлина хорошо знала, что происходит. Она едва успела сдернуть покрывало с убогой кровати и положить себе в ноги. Села на корточки, сильно натужилась, слегка вскрикнув, снова напряглась, второй, третий раз, и вот младенец уже появился на свет. Карлина недоверчиво взглянула на малышку, переводя дыхание. Это была девочка, и, по-видимому, с ней все было в порядке. Она извивалась, словно гусеница, сильно сжимая кулачки, отчаянно размахивая ими в воздухе, и пыталась открыть глаза с усилием человека, спавшего очень долго и пытающегося пробудиться. Когда ей это удалось, малышка заревела. Звук ее плача был высоким и глухим, терялся на фоне оглушительного шума ливня, который в тот момент обрушивался на дом и на всю деревню.
Карлина яростно перекусила пуповину и наконец-то разорвала ее. Потом она подождала какое-то время, пока не вышла плацента. Потом завернула крохотное тельце в чистый угол покрывала и отправилась в дорогу. От красной почвы холмов, разогретой светившим все утро солнцем, поднимался пар. Деревья в садах под шквальным ветром раскачивались, словно духи, которые глумились над Карлиной и ее нелегким положением. Ее босые ноги утопали в грязи. Это лучше всего запомнилось Карлине в то утро – вид ее ног, устало поднимающихся, липких и будто бы окровавленных, и снова исчезающих в слякоти. Через несколько долгих минут она подошла к дому Ховиты, дверь которого была наглухо заперта. Карлина толкнула ее изо всех сил.
Ховита резко подскочила, испугавшись шума и вторжения намокшей фигуры с покрывалом в руках. Она все утро ждала, когда прольется дождь, сидя в своем кресле-качалке, купленном ее сыном Вирхилио в Вила-да-Рибейра-Брава в его последний приезд, четыре года назад. Когда пассаты приносили дожди, она не могла оставаться на пороге дома, курить трубку и наблюдать, как растут зеленая фасоль и помидоры, как птицы перелетают с дерева на дерево, как проходят мимо соседи, которые обычно останавливаются, чтобы подольше с ней поболтать, или как шумно играют дети. Ховита садилась в кресло-качалку в доме и грустила. Ей не нравился дождь. Ей становилось скучно, хоть она и знала, что нужно сказать спасибо Господу за эту воду, благодаря которой зеленая фасоль и помидоры будут по-прежнему расти, а источник Монте-Пеладу, из которого все пьют, не иссякнет. Ховита знала, что дождь это хорошо, но она скучала в одиночестве, в сумраке, и не с кем было поговорить, не было детей, чтобы их отругать, и нельзя было заплести косички девочкам, чьи матери занимались работой, подергать их за волосы. Чтобы с детства понимали, какова жизнь: нагромождение горечи и боли. Боли от голода во время засухи, когда живот сводит от пустоты, по всему телу разливается слабость, в голове стучит, не переставая; боли от одиннадцати родов, боли от того, что четверо детей умерли, а семеро уехали в Европу и никогда не приезжают. Боли от побоев ее мужей, когда они напивались…
Ховите не особенно везло с мужьями. Был только один хороший, третий по счету, бедняга Сократес, который занимался от зари до зари фруктами и рыбой, и, кроме того, огородом, поднимался за козьим молоком наверх, на гору, под драценой, и обращался с ней как с королевой, терпел ее скандалы и пьянки, делал все, что она ему велела. Сходи за водой. И он шел. Почеши мне спину. И он чесал ей спину. Доставь мне удовольствие сегодня ночью. И он доставлял. Ах да, удовольствие, секс. Это было самое лучшее в жизни. Ей всегда очень нравился секс, такое приятное ощущение – крепко прижаться к кому-то и чувствовать его влажную от пота кожу, забыть обо всем на какое-то время, ослепнув от наслаждения. Не обращать внимания на плачущих детей или кипящую на огне кукурузу. И это спокойствие после всего, благодатная слабость по всему телу, ликующее сознание и капелька нежности, пульсирующая под всем этим сиянием.
В этом Сократес тоже был лучше остальных, потому что ему несложно было делать все, что хотелось Ховите, в отличие от других мужей, которые заботились только о себе и оставляли ее одну в поисках удовольствия. Но Сократес умер много лет назад. Однажды ночью он, окаянный, уснул навсегда, а ему еще не исполнилось и пятидесяти. Раз в неделю, по понедельникам она ходила на его могилу. Ховита чистила его надгробие. Иногда она приносила с собой усыпанные цветами, словно алыми языками пламени, ветки сейбы, которая так ему нравилась. И всегда подолгу ворчала на него, как в лучшие времена их отношений, за то, что умер так рано. И даже не удосужился вернуться.
Ховита, унаследовавшая от своей матери обязанность закрывать глаза и приводить в достойный вид всех, кто умирал в деревне, и знавшая многое о разных вещах, была убеждена, что люди умирают тогда, когда им захочется. Даже дети. Конечно, никто вслух не говорил о том, что хочет умереть. Большинство даже не подозревали об этом. Но духи, живущие в голове у каждого, иногда становились злыми и завистливыми по отношению к живым и нашептывали на ухо человеку эту мысль вновь и вновь, пока не уговаривали: все, давай, пошли уже, достаточно пожил. Зачем тебе оставаться здесь дольше, разве что терпеть страдания? И если человек мало обращал внимания на непрерывный натиск голосов или не был достаточно силен, чтобы противостоять им, он давал себя уговорить, сам того не понимая. И тогда он умирал. Ховита много раз слышала, как духи зовут ее. Но пока она не собиралась уходить в мир иной. Не потому, что чувствовала какую-то особую любовь к жизни, которую она считала ничтожной, особенно после того, как рядом с ней не стало мужчины, с которым можно получать наслаждение. Потому, что Ховита не была вполне уверена, заслужила ли она рай или Господь отправит ее в чистилище. В ад – вряд ли, это уж она точно знала. Она ведь не сделала ничего, чтобы вечно гореть в котле, страдая от бесконечной боли. В конце концов, она хорошо заботилась о своих детях, всегда поддерживала чистоту в доме, а в лучшие времена иногда даже делилась едой с каким-нибудь нищим, которые иногда проходили через деревню, спасаясь от засухи на другом конце острова. Но она не отличалась добродетелью: слишком часто напивалась, крупными глотками пила тростниковый самогон, разогревавший ее и делавший из нее дикарку, заставлявший танцевать как полоумную, или бить детей, или ползать по полу, или все крушить без причины. К тому же был секс, который так ей нравился. Кроме своих трех мужей в молодости у Ховиты было много любовников на один раз, некоторые – даже женатые. Мужчины, чьи тела были желанны ей на мгновение, с которыми она встречалась тайно, в кустах по обочинам дороги, спускавшейся к берегу, или за часовней Монте-Пеладу. Нужно быть действительно грешницей, чтобы спать с мужчинами прямо за образом Богоматери…
Ховита не знала, простит ли Господь ей все это. Когда она исповедовалась и требовала, чтобы священник пообещал, что она попадет на небеса, он обычно говорил, что в ее случае нельзя знать наверняка. Из-за чрезмерной блудливости на ней лежал смертный грех, и все зависит от того, в каком настроении будет Бог в день, когда Ховита предстанет перед ним. Ведь у Господа тоже бывают хорошие и плохие дни. Разве в книгах не написано, что после сотворения мира Ему пришлось отдыхать из-за сильного утомления? Так вот, в некоторые дни Бог уставал, или ему было скучно, или ему надоела вечность. От Его настроения зависело милосердие. Так что дело Ховиты было в руках случая. А мысль о том, что судьба склонится в сторону чистилища, приводила ее в ужас. Ховита представляла себе чистилище как очень темное место, где все время идет дождь, вода по щиколотку, дует ветер и холодно, а ей совершенно не хотелось оказаться в подобном месте. Конечно, из чистилища можно выйти, но для этого нужно, чтобы за твою душу много молились. А кто будет молиться за Ховиту? У нее не было денег на то, чтобы заказать хотя бы сотню молебнов, которые гарантировали бы спасение души. Она слышала, что так делают богачи, чтобы попасть на небо. А что касается ее детей, Ховита сильно сомневалась, что теперь, когда они живут в Европе, и у них столько всего есть – машины, квартиры и дорогая одежда, и даже много пар обуви, чтобы менять ее в зависимости от погоды или под одежду, – они все еще помнят о Боге и ходят в церковь. Ведь они даже не вспоминали о ней и писали лишь на Рождество короткие письма, которые Ховите зачитывал кто-нибудь из тех соседей, что ходили в школу. Четверо ее детей никогда больше не возвращались на Кабо-Верде с тех пор, как уехали. Нет, на своих детей Ховите нечего было рассчитывать.
Все, что она могла сделать, – жить, сколько сможет, без спиртного и секса, и надеяться, что Бог забудет о том, какую жизнь она вела раньше. В мире столько людей, вряд ли добрый Господь помнит обо всем. Если Ховита проживет последние годы жизни трезво и целомудренно и такой предстанет перед Ним, сделав вид, что всегда себя так вела, возможно, Он поверит ей. На всяких случай она всегда говорила матери о своих намерениях:
– Скажи своим друзьям, чтобы оставили меня в покое, я не буду их слушать и не собираюсь умирать до тех пор, пока мне, а не им, по-настоящему этого захочется. Так, как сделала ты.
Мать Ховиты являлась каждую ночь в новолуние. Она заходила через дверь в своем красном платье, которое носила по воскресеньям многие годы и в котором ее похоронили, с большими рюшами на юбке и с вышитыми цветами на большом декольте. Она вставала в ногах у кровати и долго смотрела на Ховиту пристальным взглядом. Тогда Ховита, давно ее ожидавшая, но делавшая вид, что спит, чтобы уважить мать, медленно открывала глаза и говорила с ней:
– Привет, мама. Как там дела? Здесь все хорошо. Стояла ужасная жара, но вы же знаете, что мне она не мешает. Единственное, что плохо, – зуб болит. Придется мне поехать в Вилу к зубному, но я жду, пока мне пришлют деньги из Европы, потому что у меня почти ничего уже не осталось. Ну, на еду-то хватает пока, не волнуйтесь. На днях Карлина принесла мне хорошую кефаль. Я приготовила ее с картошкой, перцем и помидорами, и лавровым листом, как вы обычно делали. Рыба получилась очень вкусная. Я давно уже не ела кефали. Говорят, что с каждым разом ее все меньше и трудно поймать. Но, видимо, был сильный шторм, и рыбы, наверное, спрятались от него где-нибудь около берега, потому что Карлина сказала, что поймали много. Помните, мама, как вам нравилась кефаль?.. Вы почти не давали нам даже попробовать, все сами съедали… Ребенок Паулины, малыш, сильно болел в прошлом месяце после того, как вы приходили. У него начался сильный жар, и посреди ночи Паулина на руках отнесла его в Фаху к врачу. Не знаю, как ей удалось. Столько километров по этим божьим дорогам, по темноте, прямо над пропастью… Была очень темная ночь, и бедняжка чуть не убилась несколько раз, ведь она ничего не видела. Она пришла с разбитыми окровавленными ногами, которые нам пришлось лечить компрессами несколько дней подряд. Но зато ей удалось спасти ребенка теми лекарствами, что ей дал врач. Слава Богу, потому что иначе ее муж, когда вернулся бы из Европы, забил бы ее до смерти… Пять дочерей и единственный сын. Муж без ума от него, говорит, что увезет его в Италию, чтобы он там стал футболистом, и они разбогатеют… Мама, вы уже уходите? Берегите себя. До свидания. И скажите остальным, чтобы не вздумали являться, все равно я их не послушаю…
Мать не говорила с Ховитой. Она всего лишь смотрела на дочь очень строго, внимательно слушая то, что та ей рассказывала. Но сама не произносила ни слова, будто бы смерть вместе с пульсом отняла у нее голос. Ховиту это очень злило. Обычно духи подолгу разговаривали с живыми людьми. И в этих беседах они давали советы и предупреждали о будущем. Ее собственная мать знала обо всем, что должно было произойти с ней, и узнавала о смерти своих родных и даже соседей заранее благодаря разным привидениям, которые нередко являлись ей и все рассказывали, порой, чтобы она избежала неприятностей, в другой раз – чтобы она знала заблаговременно и была готова. Но по какой-то причине, понять которую Ховита была не в силах, в загробном мире ее мать стала немой. Возможно, из-за того, что в мире живых та слишком много говорила, постоянно судачила, распускала про всех сплетни и разбалтывала в подробностях даже самые личные тайны, о которых она узнавала после визитов с того света. Это безмолвие, вероятно, и было Божьим наказанием ей за такую небрежность.
Ховита была бы очень довольна, если бы ее мать говорила и предупреждала заранее о событиях. Ей бы удалось избежать многих страданий. Она бы заранее знала о временах засухи и запасала бы как можно большее количество продуктов, чтобы избежать ужасного голода. Она была бы предупреждена о смерти Сократеса и не стала бы кричать как полоумная, ее сердце бы не вырывалось из груди, и жизнь не разрушилась бы в один миг, когда она нашла его тем утром, окаменевшего и холодного. Ховита бы знала, что другие два мужа будут постоянно безжалостно избивать ее, и возможно, она бы с ними не сошлась. Или, если бы все-таки сделала это, обращалась бы с ними по-другому. Она бы знала наперед, что они бросят ее со всеми детьми, и тогда бы не стала от них столько раз беременеть. Первый муж исчез именно потому, что был сыт по горло этим выводком шумных созданий, и ушел к очень юной девушке. Второго след простыл потому, что на этот раз Ховита устала от его дурного обращения. Однажды ночью она караулила его в темноте с ножом, пока он не пришел, пьяный в стельку, испуская вопли, из-за которых дети проснулись и расплакались, как обычно. Тогда Ховита, не дожидаясь, пока он начнет ее избивать, набросилась на мужа, и среди многочисленных ударов, которые она попыталась нанести, ей удалось дважды воткнуть ему нож в руку. Муж выбежал из дома с воем, истекая кровью, и больше его не видели.
На тот момент у Ховиты было восемь детей. Двое уже умерли, потому что у нее не было возможности заплатить за услуги врача, когда они заболели. Но она привыкла тяжело работать, чтобы растить своих сыновей и дочерей. Каждое утро на рассвете Ховита наполняла огромную корзину фруктами и овощами со своего огорода и с соседских участков: гуавы, манго, папайи, салат-латук, помидоры или сладкие перцы.
Корзина водружалась на голову и, светило ли солнце, шел ли дождь, Ховита быстрым шагом преодолевала шесть километров, отделявших ее от побережья. Она ощущала, как тяжесть товара впивалась в череп и позвоночник, уменьшая ее, каждый раз делая ее все ниже, пока Ховита не добиралась до Карвоэйрос, съежившись и промокнув насквозь от пота или от дождя. Там она торговала продуктами на площади, расположившись возле церковного приюта, укрывавшего Ховиту от ветра и от ярко палящего утреннего солнца. Это была единственная особенность работы, которую она любила: приходили женщины и рассказывали ей разные истории, сообщали все деревенские слухи. Они проводили помногу часов за разговорами на разные темы – о здоровье, о мужчинах, о детях, о нарядах, о кулинарных рецептах, весело хохотали, говоря о приятных моментах, и оплакивали разрушенную любовь или умерших родственников.
Потом, в полдень, когда ее корзина уже была пуста, рыбацкие лодки начинали заходить в порт и звучали сигнальные гудки, Ховита подходила к пристани и покупала рыбу, сардины, осьминогов, кальмаров и куски тунца. Все это она снова водружала в корзине на голову, и, тяжело дыша и крякая, поднималась по длинной дороге в деревню, где и продавала рыбу.








