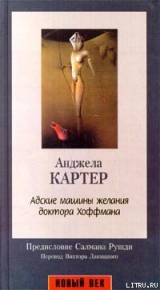
Текст книги "Адские машины желания доктора Хоффмана"
Автор книги: Анджела Картер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Труднее всего избавиться от привычки к сардоническим умозаключениям.
Когда мы допили кофе, Доктор извинился, заявив, что у него дела в рабочем кабинете, разместившемся в одной из башен, и, предложив мне еще одну из своих восхитительных сигар, удалился, Альбертина же спросила, не хочу ли я прогуляться и насладиться сигарой среди погожего вечера. Мы вышли в парк. Я забыл, какой на дворе стоял месяц, но по запаху догадался, что, должно быть, октябрь.
– Вот, – сказала она. – Сюда.
Перед ней открылся срез обрыва, но я знал, что открылся он только потому, что она нажала на вполне прозаическую кнопку. Ее обильные юбки головокружительно волновались перед нами, когда она повела меня вверх по круто вздымающейся расщелине в скале, тайному проходу на крышу, к стропилам гор, который вывел нас наружу в беспорядок разбросанных каменных глыб, где вращался один из передатчиков, напоминая собой преображенное мельничное колесо. Но она повернулась к нему спиной и прошла между бестолково раскиданных обломков скал под тусклой лимонно-желтой долькой луны чуть дальше; в своих вечерних костюмах мы были столь элегантны, что казались вопиющим анахронизмом, спроецированным назад, в глубь веков, на первозданное запустение. А потом мы оказались в выбитом в желтой скале полукругом амфитеатре, населенном безмолвной толпой неподвижных форм, выстроившихся рядами, колоннами и шеренгами, словно хранители этого места.
– Здесь было кладбище, – сказала Альбертина. – Его устроили индейцы до прихода европейцев – те, впрочем, сюда не дошли. А потом индейцы умерли, по крайней мере большая часть из них. Так что это все, что от них осталось.
В центре амфитеатра возвышался продолговатый курган, содержавший, чего доброго, кости моих умерших предков, и все окружавшие его немые зрители предназначены были отпугнуть грабителей могил, пум и диких собак – или любую другую тварь, которая могла бы потревожить покой спящих в земле. Индейцы изваяли из керамики, не покрывая ее глазурью, вооруженных мечами мужчин верхом на лошадях и женщин с натянутыми луками в руках, ощерившихся псов, а также урны, небольшие хибарки вместе с кухонными принадлежностями, словно намереваясь возвести целый город для земляного ополчения, этих неотесанных бурых фигур, вопиюще иззубренных временем и непогодой; заглянув в служившие им глазами дыры, можно было убедиться, что внутри все они пусты. Мы спустились по ступенчатому склону сквозь чащу из людских имитаций, и ее платье волочилось за ней следом, а волосы ниспадали на обнаженные, насыщенные цветами жизни плечи так же вольготно, как волосы друидской жрицы. Да такой и была она, вся сотканная из оттенков скал и керамики, темноты и лунного света.
Любовь – это синтез грезы и действительности; любовь – единственная матрица беспрецедентного, любовь – это древо, из почек которого, как розы, распускаются влюбленные. Преисполненная белоснежного, целомудренного величия, Альбертина вещала мне о любви среди заупокойного убранства на лысой горе, и тогда я, словно неустрашимый пловец, очертя голову ринулся прямо в ярящиеся буруны ее нижних юбок и, запечатлев на нем поцелуй, запечатал своим ртом нестриженый залог самой любви. Но зайти дальше мне не было дано – никогда. А дело было на кладбище моих праотцев.
Альбертина уселась на камень, который вполне мог быть когда-то алтарем, и поманила меня, чтобы я сел рядом с ней. Мы оказались в центре внимания незрячих глаз бесчисленной керамической публики.
– Состояние любви подобно Югу в парадоксе Хуэй Ши: «Юг имеет предел и в то лее время предела не имеет». Лу Дэмин так комментирует этот парадокс: «Он говорил о Юге, но использовал его лишь как пример. Есть зеркало и отражение в нем, но есть также и отражение отражения; два зеркала отражают друг друга, и отражения могут приумножаться без конца». Наша встреча, Дезидерио, – это высшая, последняя встреча. Мы и есть два таких рассеивающих до бесконечности отражения зеркала.
В зеркалах ее глаз я увидел, как само мое существо головокружительно разносится во все стороны и вновь собирается воедино неисчислимое количество раз.
– Любовь – это постоянное путешествие, которое не имеет никакого отношения к пространству, нескончаемое колебательное движение, покоящееся в неподвижности. Любовь сама по себе создает напряжение, которое взрывает любое наклонение времени – к прошлому ли, к будущему или настоящему. Любви присущи черты, которые роднят ее с вечным возвращением, поскольку обмен отражениями нельзя ни истощить, ни уничтожить, но это не возвращение к отправной точке, а непосредственное, лишенное всякой длительности и местоположения продвижение к окончательному состоянию экстатической аннигиляции.
Альбертина читала лекцию мне и мрачному замогильному убранству вокруг с немыслимо прекрасной весомостью, и если внимание мое блуждало где попало, то объяснялось это исключительно вызывающим озноб ночным воздухом и дразнящим присутствием в кармане преподнесенной Доктором сигары, которую, как я полагал, было бы невежливо сейчас закурить. Ну а кроме того, мои ноздри переполнял мускусный запах ее кожи. Альбертина положила руку мне на запястье, и это прикосновение наэлектризовало меня.
– Отец открыл, что магнитное поле, образованное нашим взаимным желанием – да, Дезидерио, нашим с тобой, – уникально по своей интенсивности. Это желание должно быть самой могучей силой во всем мире и, если бы удалось его кристаллизовать, стало бы некой залежью – окончательным отстоем мощнейших унаследованных ассоциаций. А ведь желание. – это к тому же и источник, питающий величайший источник лучистой энергии.
Меня впечатляла свойственная ей интеллектуальная хватка, но все же хотелось, чтобы она была чуть-чуть менее серьезной. Она в полной мере унаследовала одну отцовскую особенность. Владелец порно-шоу предупреждал меня, что с чувством юмора у Доктора не все в порядке. И тем не менее я находил ее донельзя привлекательной, когда она была такой серьезной. Стоило мне только подумать, до чего Альбертина привлекательна, как ни с того ни с сего она вдруг показалась мне точной копией ангела, которого монашенки водружали ежегодно на верхушку монастырской рождественской елки. Но она к тому же была и весьма красноречива. Ее красноречие волновало меня, как в былые времена волновала музыка Моцарта и древнеегипетская настенная живопись.
– В теории все можно свести к набору простейших элементов. Когда отец усовершенствует свою теорию, на что, вероятно, у него уйдет еще три-четыре года, он назовет это положение Принципом Несработанной Простоты Хоффмана, а полностью разобравшись в ее законах, сумеет свести все на свете к нетварным основам, из которых, собственно, и возведен мир. И тогда он разнимет наш мир на части и создаст новый мир.
Что? Серый человек с моноклем, который до такой степени ненавидит человечество, что не может заставить себя взглянуть на прислугу, и сохранил привязанность к безвозвратно мертвой жене? Да. Этот серый человек. Ее черная грива щекотала мне щеку, и я дотронулся до плеча Альбертины. Ее кожа на ощупь напоминала замшу.
– Потому что мир, видишь ли, построен из этих простейших. Все остальное на свете – не более чем неуместное обрамление набора простейших элементов. Эти элементы обладают особым типом реальности, больше ничему не свойственным. Предельная, окончательная простота, Дезидерио, это Любовь. То есть, Дезидерио, Желание. Которое порождается между четырех ног в постели.
Не в силах снести подобного подстрекательства – и достаточно наивный, чтобы принять это за призыв, – я опрокинул ее на могильную насыпь и нырнул под ее взбитые, пенистые юбки. Но хотя мне и удалось забраться достаточно высоко, чтобы поцеловать ее простоту, она сопротивлялась столь умело, что на большее меня не хватило. Тогда она рассмеялась.
– Ты что, не понимаешь, что сейчас об этом не может быть и речи? – проговорила она. – Ты еще никогда не занимался со мной любовью потому, что на протяжении нашего знакомства меня во всех моих внешних проявлениях поддерживала только сила твоего желания.
Я пришел в замешательство, обнаружив, что моей телесности, моей физике перечит ее метафизика. Я ударил Альбертину по лицу своей тяжелой ладонью. Из разбитой губы проступила кровь, но она не вздрогнула от удара и не набросилась на меня с упреками.
– О Дезидерио! Скоро, уже скоро! Когда мы вместе войдем в лабораторию, ты увидишь меня такой, какая я на самом деле.
Этих слов я и вовсе не понял. Долька луны сочилась жиденьким мерзким светом цвета сепии, который крошил силуэты вокруг нас, низводя их к самым дегенеративным формам. Мой ум был смущен и обеспокоен, ибо замок чародея оказался отнюдь не пристанищем неразумия, а скорее школой невразумительной для меня логики, а Альбертина тем временем заявила, что мы должны туда вернуться, – ее отец ожидал меня, чтобы показать свои лаборатории.
Она проводила меня до его рабочего кабинета, разместившегося в высокой башне, куда нас вознес плавно скользящий лифт, и оставила перед самой дверью. Поцеловав меня в щеку, она сказала с бесконечным обещанием в голосе: «Сегодня. Позже», – и исчезла за дверью лифта, словно втянутая внутрь белая птица; я следил, как она покидает меня, с неведомо откуда взявшимся предчувствием злой судьбы. Откуда я мог знать, что, когда увижу ее в следующий раз, у меня не будет другого выбора, кроме как убить ее?
Я постучался. Меня встретил Доктор, переодевшийся в белую хламиду, – ведь он же был ученым, – но, какую бы одежду он ни носил, стать более безликим, чем он был изначально, не представлялось возможным. Холодный, серый, спокойный, бездонный – не человек, море. Я понял, что боюсь его.
Его кабинет (личная рабочая комната, внутреннее святилище, логово, обсерватория) был снабжен окнами, из которых он мог контролировать движение передатчиков, хотя, вероятно, наблюдал и звезды, поскольку на стене висела старинная карта звездного неба. Теперь мне кажется, что я, должно быть, придумал и вообразил по меньшей мере какую-то часть обнаруженной в кабинете обстановки, поскольку она так полно удовлетворила мое воображение, что меня захлестнуло недоверие, хотя я и вспомнил, как владелец порно-шоу говорил, что его бывший ученик с головой погрузился в арабские, восточные и средневековые лженауки. Наполовину это была лаборатория Роттванга из «Метрополиса» Ланга, но также и кабинет доктора Калигари и в еще большей степени – возможно, здесь я несколько ошибаюсь – лаборатория аристократического дилетанта конца семнадцатого века, который на любительском уровне занимался натурфилософией и отважился сунуться в некромантию, ибо в бутылях на полках покоились квашеные корни искореженной пытками мандрагоры, а воздух наполнял смешанный запах янтаря и серы.
Комната была в беспорядке завалена разнообразными диковинами – китовым зубом, рогами нарвалов, скелетами вымерших тварей, – набросанными как и куда попало и покрытыми толстым слоем пыли и донельзя убедительной паутины; справа, в огромном черном запертом застекленном шкафу, который владычествовал в комнате, расположились перегонные кубы, тигли, бунзеновские горелки и прочие химические принадлежности – вместе с банками, содержащими законсервированных уродов, и грудами окаменелостей столь причудливых форм, что я ни за что бы не поверил в возможность их существования, постранствуй я поменьше по свету. Слева от шкафа длинные полки прогибались под весом стоящих на них книг. По большей части книги были очень старыми, некоторые из них на арабском языке и многие – на китайском. Основной корпус его библиотеки составляли, похоже, редкие трактаты, посвященные всевозможным формам предсказаний, хотя в общем-то трудно было отыскать ветвь человеческого знания, там не охваченную. На верстаке оказалась разложена прелюбопытная коллекция оптических игрушек: чудовертка, китайская лампа с шагающим иноходцем и много других, построенных на принципе инерции зрительного восприятия. На них, в отличие от всего остального, не было ни пылинки; не иначе, они являлись объектом его сравнительно свежих изысканий. Я вспомнил, что в последнее время он пытался заменить утраченный набор шаблонов. Доктор положил руку на верстак.
– Вот на этом самом станке я в одиночку, не считая своей дочери и бывшего профессора, пальцы которого отнюдь не ослепли, собирал, выбирал и градуировал все сложные, составные явления во вселенной – еще до того, как смог приступить к их изменению.
В знак восхищения я пробормотал что-то невразумительное. Он вытащил из кармана связку ключей на кольце и отпер шкаф. Распахнувшись настежь, черная дверца открыла моему взору три длинные полки, битком забитые толстенными досье в картонных папках.
– Здесь сведены в таблицы все записи, касающиеся моих исследований.
Но меня гораздо больше тянуло взглянуть на шесть полок, отведенных под заготовки для производства изображений порно-шоу, – две полки для поддонов со стеклянными слайдами, две – для конвертов, помеченных «нег.» и содержащих, должно быть, негативы фотографических сериалов, и две – с изложницами для отливки мелких предметов из воска, аккуратно разложенными на группы, носящие над собой загадочные заголовки из разных сочетаний сгруппированных по три сплошные и прерывистые линии, например:

или же

или

и так далее.
Хоффман говорил:
– Как только шаблоны отобраны, истолкованы, нарисованы, отлиты и сочленены, я могу столь же наглядно предъявить боль, как и красный цвет. Я показываю любовь точно так же, как прямую линию. Демонстрирую страх с той же наглядностью, с какой привожу в пример кривую. Исступление и дерево, отчаяние и камень – все выставлено напоказ одинаковым образом. Я могу заставить вас воспринимать идеи органами чувств, так как не признаю существенной разницы в феноменологических основаниях этих двух типов мысли. Все на свете сосуществует в парах, но мой мир – отнюдь не мир либо/либо.
Мой мир – это мир и + и.
Я, только я обнаружил ключ к неисчерпаемому плюсу.
Его голос ни разу не возвысился над заунывной монотонностью, ни разу не выказал ни малейшего воодушевления, ни разу не попытался меня удивить. Унаследованный от него дочерью педантизм не был приправлен в нем ее обаянием или оттенен интеллектуальной страстностью.
– Какова же природа этого ключа, Доктор?
– Эротоэнергия, – монотонно промямлил он. – Вот. Тут у меня есть кое-что, что вас заинтересует.
Покопавшись в недрах шкафа, он извлек оттуда диктофон и включил его. После вступительного щелчка я услышал голос Министра. Столько времени спустя после таких перемен я вновь услышал, как он говорит. Запись, вероятно, была сделана по трансляции во время его пропагандистского обращения к жителям осажденного города.
– …и пусть реальная чума опустошила наши ряды, а от большинства зданий не осталось камня на камне, так что выжившим приходится хорониться, как крысам, среди развалин; пусть даже временами души наши подвергали бесконечным пыткам обманчивые образы, прорвавшиеся из той темной области человеческой природы, на отказ от которой неотвратимо должно согласиться человечество, если мы собираемся жить в мире и сообща; пусть безрассудство безудержно захлестнуло улицы нашего города; тем не менее разум может, должен – и наведет-таки в конце концов порядок! У нас нет другой путеводной звезды, кроме разума. Днем и ночью, ночью и днем без устали трудимся мы над непосредственно встающими перед нами проблемами. И единственным нашим оружием в этой борьбе является несгибаемый рационализм, и вот стоило нам пустить в ход, в бой разум, как часы вновь согласились показывать нам одно и то же время и уже…
Магнитофонная лента зарегистрировала оглушительный, зубодробительный грохот и далее была абсолютно пуста. С легким шипом она крутилась еще некоторое время, пока Доктор не выключил мотор.
– Рассудок не в состоянии произвести на свет ту поэзию, которую порождает беспорядок, – заметил он безо всякого подъема. – Министр думает, что я действую только в зазорах между предметами и их определениями! Не очень-то он жалует меня своим уважением!
Но я хранил молчание, ибо решительный, но без признаков истерики тембр голоса Министра всколыхнул во мне едва припоминаемые непоколебимые убеждения, какие-то позабытые гармонии, которые волновали меня когда-то до глубины души – то есть быть взволнованным глубже я просто не мог.
Столкнувшись с нею лицом к лицу, я счел, что наука Доктора мне вовсе не по вкусу. А его холодные глаза выводили меня из равновесия. Я знал, что ему никогда не быть моим наставником. Возможно, мне не подходил мир Министра, но не желал я и мира Доктора. Неожиданно я оказался поддет рогами дилеммы, ибо мне были предъявлены две альтернативы, и казалось, что Доктор, скорее всего, ошибается, поскольку они вряд ли способны сосуществовать друг с другом. Ему, возможно, и впрямь известна природа неисчерпаемого плюса, но это ничуть не мешало ему оставаться тоталитаристом. А я находился в таком неудачном положении – именно меня и никого иного наделили решающим голосом, я должен был выбирать за всех между бесплодным, но гармоничным затишьем и плодородной, но какофоничной бурей.
Ну да вам же известно, какой выбор я сделал. Ничто в этом городе не препирается ныне со своим именем. Часы, все как на подбор, идут в ногу со временем. Само время катится вперед на четырех колесах четырех измерений в точности тем же путем, что и до появления Доктора. Когда я закончу эту главу, мне принесут чашку горячего молока и тарелочку с чуть смазанными маслом улучшающими пищеварение сухариками, а когда я завершу свои дни, мне принесут саван и заберут в усыпальницу в соборе. Они так здорово отстроили собор заново, что просто не верится, что когда-то он был разрушен. Никогда больше я ее не увижу. Непреложно падают тени. На площади каштан роняет тронутые осенью листья на плечи моей статуи. Не разбита, по словам Екклезиаста, в этом городе золотая чаша. Она кругла, как пирог, и каждый может отрезать себе кусок по потребности. Потребность не имеет ничего общего с желанием.
Старый Дезидерио спрашивает Дезидерио молодого: «А когда он предложил тебе целую ночь совершеннейших восторгов в обмен на спокойное довольство на всю оставшуюся жизнь, как ты мог выбрать последнее?»
И молодой Дезидерио отвечает: «Я слишком молод и не знаю, что такое сожаление».
Но, конечно же, все не так просто. Да и не очень-то я был доволен. Бот остальные, те-то наверняка были еще как довольны. Ничего чрезмерного, заметьте, всегда только этакое скромное удовлетворение. И однако благодаря тому, что я сделал, каждый относительно удовлетворен, поскольку не знает, как назвать свои желания, и поэтому желания в полном соответствии с теорией Министра просто не существуют. Посему я полагаю, что в общем и целом действовал ради всеобщего блага. Вот почему из меня сделали героя, хотя я в то время и не подозревал, что действую всем на благо. Возможно, я действовал чисто импульсивно. Возможно, Доктор просто не предложил мне достаточно высокой цены; в конечном счете он предложил всего-навсего то, чего желало мое сердце.
К тому же он был ханжой и лицемером.
Он запер желание в клетку и заявил: «Смотрите! Я освободил желание!» Он был лицемером. Ну так что же, я, лицемер не столь грандиозных масштабов, лицемерно его и убил, не так ли?
Ну вот, опять я за свое, опять забегаю вперед, Ведь я уже снял все напряжение. Смазал экстатическую конвульсию развязки. Но почему вы, собственно, заслуживаете экстаза? Просто я, насколько могу припомнить, пытаюсь поточнее рассказать вам, как все произошло на самом деле. А вы и так уже отлично знаете, что доктора Хоффмана убил не кто иной, как я; в книгах по истории вы прочли об этом все и знаете дату этого события намного лучше меня самого, потому что я ее забыл. Кажется, стоял октябрь, потому что воздух пропах грибами.
Я бы меньше его ненавидел, если бы он не так надоедал со своими изобретениями.
– Источник эротоэнергии, конечно же, неисчерпаем, как, собственно, и предполагал мой бывший коллега и сотрудник Мендоса.
Он указал в окно на передатчик, бесперебойно вращающийся на гребне нависшей над домом скалы.
– На протяжении пяти последних лет эти передатчики, движимые простой лучистой энергией – то есть эротоэнергией, – излучали на город голую инфраструктуру
а) искусственно подлинных явлений;
б) изменчивых комбинаций искусственно подлинных явлений; а также транслировали и
в) радиацию, достаточную, чтобы интенсифицировать всякий символ, пока он не станет объектом, – в соответствии с законом эффективного развертывания или, если вы предпочитаете более точную формулировку, комплексного становления.
Высвобождая подсознательное, мы, конечно же, освободим человека. И обнаженный человек образумит и выведет из ума каждого из нас.
Но сам-то он относился к людям, которых просто невозможно представить себе без одежды. Его прервал приступ кашля, который он подавил при помощи безукоризненно белоснежного носового платка.
– Позитивное является запутанным коррелятом негативного, и стоит одарить желание синтетической формой, как из этого тут же неотвратимо вытекает, что мысль и объект Действуют на одном и том же уровне. Такова основа…
И это был человек, чья дочь призывала Министра побояться абстракций! Я перебил его, у меня возник вопрос:
– А что на самом деле случилось с Мендосой?
– С Мендосой?
Доктор снял с полки одну из банок. В ней в формальдегиде плавал человеческий мозг.
– Вот все, что нам удалось спасти. Он был чудовищно обезображен. Не знаю, что стряслось с его машиной времени, но она сожгла его до кости и окончательно расстроила рассудок. Он протянул в бреду еще пять дней, прежде чем умер в общей палате благотворительного госпиталя. Мы с Мендосой годами не разговаривали. Но я сумел-таки получить его мозг, ибо мне было очень любопытно взглянуть на него. Но, увы, что бы он в себе ни содержал, все это умерло на пять дней раньше, чем тело, а строением его мозг ничуть не отличается от любого другого.
Почему-то повествование Доктора оказало на меня до крайности нервирующее воздействие. Он убрал банку на место и, как мог, доброжелательно улыбнулся:
– А теперь позвольте проводить вас вниз, чтобы ознакомить с перегонным оборудованием и машинами, преобразующими реальность. Уверен, что вы сочтете преобразующие реальность машины достойными восхищения; на самом деле они осуществляют предварительные стадии синтеза явлений.
С таким же успехом он мог пригласить меня на обзорную экскурсию по шоколадной фабрике. Я гадал, за что любит его Альбертина. Моему представлению о Прометее намного лучше, чем настоящий Прометей, отвечал граф; и все же раз за разом к полуироническому презрению, которое я испытывал к этому чопорному вору огня, примешивалась противная дрожь, когда я вспоминал, что доктор Хоффман являл собою трижды рафинированный Ум, а Материя была для него всего-навсего оптической игрушкой. Но я никак не мог взять в толк, почему подобный человек в такой степени желает освободить человека. Я не мог догадаться, как внутрь его черепа могло пробраться понятие освобождения, и был уверен, что он жаждет одной только власти.
Быть может, я убил его из-за непонимания.
В подземные ярусы замка мы спустились на другом, деловито смотрящемся электрическом лифте, который успел унести нас глубоко под землю, прежде чем наконец остановился. Здесь, где полагалось бы находиться мрачным донжонам, пролегали отделанные белым кафелем коридоры, пол которых был укрыт приглушающей шаги черной резиной; освещали их лампы дневного света – светом куда более ярким, чем дневной. Здесь царили сугубо технологическая белизна и тишина. Чуть погодя Доктор нажал на кнопку, и перед нами невозмутимо открылась казавшаяся неприступной металлическая дверь. Мы вошли в активно функционирующую, но пустынную лабораторию, заполненную всевозможными перегонными аппаратами. В стеклянных баках, кубах и трубах пузырилась чуть светящаяся молочно-белая субстанция.
– Нам здесь незачем особенно задерживаться, но я подумал, что вам все же любопытно будет разок взглянуть на все это. В этом перегонном оборудовании выделения, секретированные удовлетворенным желанием, подвергаются обработке, чтобы извлечь из них еще не проросшую в зародышевую фазу сущность. Даже при помощи электронного микроскопа невозможно обнаружить хотя бы самую мельчайшую крупицу корня или семени в этом, хотим мы этого или нет, биохимическом метасупе, так что можно смело сказать, что мы сварили в наших стеклянных кастрюлях чистую, несотворенную сущность бытия.
Ну-с, а теперь, что же мы делаем с нашим метасупом? Как же, как же, мы его поторапливаем. Прошу сюда.
Стена перегонной лаборатории раскрылась и, пропустив нас, тут же вновь сомкнулась.
– Разрешите представить вам, – сказал Хоффман с тусклой улыбкой, – мои преобразующие реальность машины.
Работая, машины время от времени издавали из своего нутра негромкие, напоминавшие пощипывание струн звуки, их вполне можно было использовать в сфере электронной музыки. Внешне они представляли собою шесть цилиндрических барабанов из нержавеющей стали, вращающихся на невидимой оси с той же равномерной, пугающей безмятежностью, что и передатчики, кружащиеся теперь, должно быть, в доброй миле над нашими головами, поскольку мы внедрились в землю очень глубоко. Высотой барабаны были в человеческий рост, а в окружности около трех футов; в каждом из оснований виднелось снабженное оптическим затвором смотровое окошечко. Ребристая пластиковая трубка, выныривая из покрытой белым кафелем стены, исчезала в запечатанном отверстии в верхней части каждого из барабанов, а выходившие из них провода пичкали, казалось, шесть светящихся экранов путаницей бесконечно набухающих и опадающих силуэтов, образованных эктоплазмой вокруг центральных ядрышек пульсирующего света. Экраны напоминали своих телевизионных собратьев и группировались вместе в стене над сложными, усеянными всевозможными переключателями панелями управления, оккупировавшими противоположную сторону лаборатории.
Хотя комната была ярко освещена и, безо всякого сомнения, интенсивно использовалась, единственными следами пребывания в ней технического персонала служили водоохладитель, несколько стульев из гнутой стальной трубки и стол, оснащенный планшетками с разграфленной бумагой. Место было очень стерильное.
– Основой для всех этих машин послужила модель объективного случая, если принять «объективный случай» в качестве определения глобальной совокупности всех совпадений, управляющих индивидуальной судьбой. Точно так же, как и передатчики, они приводятся в движение эротоэнергией, так что на их работу оказывает в дальнейшем воздействие эффект Мендосы, то есть побочный темпоральный эффект эротоэнергии.
Внутри преобразующих реальность машин мы осаждаем сущность бытия.
Он щелкнул затвором одного из смотровых окошек, и я успел заметить внутри клубящуюся темноту, прорезаемую сполохами сверкающих искр, словно небо в ветреную ночь. Окошечко тут же закрылось.
– В процессе осаждения сущность бытия самопроизвольно порождает зародышевую молекулу несотворенных альтернатив. То есть зародышевую молекулу объективного желания.
Он сделал паузу. Чтобы я лучше переварил полученную информацию. От любого другого человека я бы ожидал каких-то внешних проявлений пусть самой скромной гордости демонстрируемыми устройствами, которые способны полностью подорвать человеческое сознание, но доктор Хоффман выказывал лишь поблекшее утомление и гнетущую скуку. Он остановился, чтобы глотнуть нацеженной из водоохладителя воды, уныло скомкал использованный картонный стаканчик и вздохнул:
– Внутри преобразующих реальность машин, в среде, лишенной сущностной дифференцированности, эти зачаточные молекулы находятся в возбужденном состоянии, пока наконец в соответствии с некоторыми врожденными определяющими тенденциями не организуются в расходящиеся последовательности, которые действуют в качестве так называемых «групп преобразований». В конечности счете на свет появляется многомерное тело, которое действует только на основе принципа неопределенности. Эти тела появляются на экране… вот тут… выраженными в сложной нотации направленных в разные стороны сигналов. Только зрение с очень высокой инерционностью способ, но уловить на этой стадии смысл кода. Тем не менее эти бесформенные кляксы являются, так сказать, зародышами вполне осязаемых видимых проявлений. Когда недифференцированные, но потенциально схватываемые идеи объективированного желания достигают отвечающего взаимностью объекта, видимость органически меняет структуру под воздействием латентно присущих самому объекту желаний. Эти желания, конечно же, обязаны существовать, поскольку желать – значит быть.
Так вот каково философское кредо, cogito Доктора! Я ЖЕЛАЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я СУЩЕСТВУЮ. И при всем при том сам он казался мне человеком, желаний начисто лишенным.
– Именно таким образом и обретают форму искусственно подлинные или синтетически аутентичные явления. В качестве испытательного полигона для своих первых экспериментов я воспользовался столицей этой страны только потому, что нестабильная экзистенциальная структура ее институтов не могла подавить скрываемое в сознании столь же эффективно, как структура с более жесткой социальной организацией. В Пекине, например, я мог рассчитывать лишь на самый ограниченный успех – несмотря на то, что китайская мысль во многом повлияла на мои исследования.
– Моя жена, – внезапно перескочил он на другую тему, – совершенно блестящая женщина.
Я вспомнил о покоящемся наверху теле и содрогнулся.
– Я выбрал столицу только потому, что она как нельзя лучше подходит для моих экспериментов. Я был в общем-то выбит из колеи, когда времена породили Министра, а Министр породил свою защиту. Я-то полагал, что против развязанного подсознания защиты нет. Я не договаривался воевать, когда начинал передачи, и не рассматривал себя в качестве военачальника, но на деле в него превратился.
По многозначительной паузе я догадался, что он пошутил, и засмеялся.
– Я нанял солдат, и волей-неволей в процесс развертывания моих умозрительных образов вмешался элемент сопротивления, поскольку изначально я мог до некоторой степени контролировать эволюцию призраков, используя набор шаблонов, да и мой слепой профессор, получив однажды несколько уроков предсказаний от моей жены, мог предлагать событиям некоторые возможные изменения, которые, по правде говоря, обычно и случались. Однако я собирался отойти от активных действий, как только получу явные свидетельства автономного, свободного по форме саморазвертывания конкретизированных желаний. Но после случайного уничтожения набора шаблонов все мои начинания пошли вкривь и вкось. Смутное Время наступило мгновенно, а не вызрело в ходе запрограммированного растворения самого времени, и я не знал, способны ли уже проявленные желания стоять, так сказать, на своих двоих. Или на любом другом количестве ног, если они его себе выбрали.








