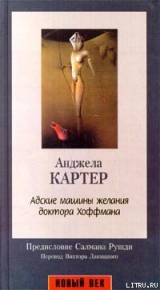
Текст книги "Адские машины желания доктора Хоффмана"
Автор книги: Анджела Картер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Но граф не был способен унизиться до объективности и лишь воспользовался какими-то наметками Ляфлера, чтобы продолжить свой монолог.
– Я раб своих стремлений или же я им хозяин? Наверняка я знаю только то, что стремлюсь к непрерывному величию и возвышенности, и мое стремление подчеркивает бездну, в которую я пал. В глубинах этой бездны вижу я черного сутенера.
Но Ляфлер продолжал развивать свою тему:
– Вы были человеком, заключенным в одну клетку с чудовищем. И вы не знали, то ли чудовище явилось из вашего сна, то ли вы сами были сном чудовища.
В приступе чудовищной ярости граф забряцал своими цепями:
– Нет! Нет! Нет!
Но адресовано было это тройственное возглашение теням, не Ляфлеру, который продолжал в довольно резком тоне:
– Теперь же, полагаю, вы уверовали, что являетесь сном черного сводника. Это обратная сторона – то есть противоположность – ИСТИНЫ.
Но граф не слышал его.
– Я опрокинул своего пиротехнического тигра и, бесконечно, как Люцифер, погружаясь вниз, себя спрашиваю: «Каково же самое чудесное событие на свете?» И отвечаю себе: «Я падаю в свои собственные руки. Они тянутся ко мне со дна преисподней». Я совершенно одинок. Я и моя тень, мы заполняем мироздание.
Ляфлер на это, чуть не задохнувшись, разинул рот – и так же поступил я сам, поскольку мгновенно почувствовал себя сведенным на нет. К своему ужасу, я обнаружил, что немедленно стал не столь массивен и не так плотен. Я чувствовал – как бы это описать? – что окружающая нас темнота вползает мне в каждую пору, чтобы меня уничтожить. Я увидел тусклый белый свет, сочившийся из лица Ляфлера, и умоляюще протянул к нему руки, упрашивая его кануть вместе со мною в забвение, которому нас предал граф, чтобы составить мне там, в стылой ночи небытия, компанию. Но прежде чем мои чувства успели мне изменить, с палубы внезапно донеслись жуткие крики и шум.
Аккордеон пролопотал свой последний нерешительный, обезумевший от ужаса аккорд. До нас долетали вопли, удары, звуки падения каких-то тел и жуткий, все покрывающий визг, потом он прервался, вероятно, это визжала свинья, пока пираты не перерезали ей глотку; и тогда сверху донеслись восклицания стоустого хора, возвещающего пришествие хаоса. Одним толчком меня вышвырнуло из магического круга, очерченного эгоцентризмом графа; мое растворение оборвалось. Пришел конец нашему заточению. На корабль напали пираты.
Были это изжелта-смуглые коренастые мужчины невысокого роста, снабженные огромными мечами и тяжелыми ницшеанскими усами. Разговаривали они на трескучем, лающем, безличном наречии и никогда не улыбались, хотя чуть позже, во время развернувшегося при свете разожженных на палубе огней неспешного ритуала обрубания голов, глядя, как катятся, подпрыгивая, по палубе головы команды, они от души смеялись. Узнав, что мы убийцы, они отнеслись к нам с большим почтением и тут же перерубили наши оковы молниеносными взмахами своих тяжелых мечей, острота которых не поддавалась описанию, пригласив нас подняться на палубу и полюбоваться разгромом.
Кроме нас, не спасся никто. Порешив команду, пираты побросали туловища за борт, а сами расселись за наскоро разведенными костерками, чтобы слегка подкоптить отрубленные головы, которые они собирались оставить себе на память. От запаха крови граф полнел прямо на глазах. Он взирал на жуткий балет казни с ужимками посетителя кабаре. Когда он настежь распахнул свой плащ и пираты увидели, что он все еще носит униформу Дома Анонимности во всей ее заносчивой экзотичности, у них от восторга отвисли челюсти и они низко поклонились ему в знак покорности. Очередной поворот на сто восемьдесят градусов восстановил его непрерывность. Он опять был на подъеме.
А вот Ляфлер растерял всю свою выказанную в кутузке живость и прыть. Он пугливо и недоверчиво жался ко мне поближе. Позже я узнал, что он был смертельно напуган и чуть не выдал себя, дабы мы не умерли, не узнав друг друга, ведь пираты были наемниками самой Смерти.
Они бороздили неприветливые, враждебные воды вдалеке от выпестовавших их земель на черном корабле с нарисованными на носу глазами и кормой в виде хвоста черной рыбины. Черны были и треугольные паруса, а над ними развевался черный стяг. Они принадлежали к смешанному племени курдов, монголов или малайцев, но их угрюмые лица невольно выдавали адское происхождение, а поклонялись они мечу.
Перебив команду, они принялись грабить судно, перенося все товары с него на свой корабль. Обнаружив на полубаке бочонки с ромом, они встретили их с невнятным ликующим воркованием, однако не почали их тут же. Вместо этого они нагромоздили бочонки в виде ритуального подношения вокруг алтаря меча, возведенного на полуюте черного корабля. Теперь уже мы с Ляфлером старались держаться поближе к графу, словно перепуганные детишки, поскольку пираты инстинктивно относились к нему с благоговением.
Увидев, что наши запястья стерты до крови кандалами, они обмотали их смоченными маслом и какими-то снадобьями тряпицами; поместили они нас – задаром – в намного более просторную каюту, чем нанял на торговом судне граф, – в настоящую комнату с соломенными циновками на полу, матрасами для сна и стильной акварелью, изображавшей черного петушка – правда, немного отсыревшей, – на стене. Наши вкусные и сытные трапезы состояли из риса, обильно сдобренной карри рыбы и всяческих солений. Сам корабль казался хрупкой и легкой скорлупкой. Здесь я чувствовал себя значительно ближе к морю, чем раньше, и, стало быть, к смерти тоже, ибо малейший порыв ветра мог опрокинуть суденышко и выбросить нас вместе с нашими хозяевами в море. Но моряками они были самыми что ни на есть опытными и умелыми.
За время своих похождений на Востоке граф нахватался по верхам каких-то познаний во многих тамошних языках, и теперь выяснилось, что он может обменяться несколькими словами или фразой-другой с вожаком пиратов; посему он проводил большую часть времени с этим задумчивым тщедушным убийцей, чье лицо было столь же непреклонно суровым, как и объект его поклонения, намереваясь узнать побольше об их искусстве фехтования на мечах. Узнал он и о цели нашего плавания. На этой утлой заупокойной скорлупке нам, грабя по пути все попадающиеся суда, предстояло пересечь Атлантический океан, обогнуть мыс Доброй Надежды, пересечь Индийский, а также любой другой океан, который окажется у нас на пути, и в конце концов бросить якорь у одного из островов неподалеку от побережья Китая, куда они свозили все награбленное, где стояли их храмы и жили их женщины. Перед нами лежало тяжелое, утомительное путешествие, полное к тому же опасностей, да и поджидающий нас где-то за горизонтом искомый берег в изобилии сулил нам, я был уверен, различные ужасы. Теперь на свободе я был напуган намного сильнее, чем ранее в оковах.
Надпалубное святилище представляло собой меч, покоящийся между двух опор черного дерева. С шеста, возвышавшегося позади него, свешивалось несколько гирлянд человеческих голов, продымленных до смуглого, желтовато-коричневого цвета, выдубленных на манер коричневых щегольских сапог и сжавшихся в процессе копчения до величины мартышечьей головы. Каждое утро после молитвы вожак пиратов снимал свое единственное одеяние – черную набедренную повязку – и низко нагибался над полуютом прямо напротив алтаря, а все его люди в благоговейном молчании выстраивались гуськом у него за спиной и по очереди лобызали его выпяченную задницу, издавая при этом отрывистое льстивое рявканье и плашмя шлепая его по ягодицам своими мечами. Их верность своему господину переходила все границы, нетрудно было поверить даже, что они являлись всего-навсего различными сторонами, гранями своего лидера, а все их множество являлось единым целым. Они были неотличимы друг от друга и напоминали гирлянды бумажных фигурок – рука в точно такой же руке, – вырезаемые детишками из листов бумаги. После этой демонстрации – или обновления – своей верности они переходили к упражнениям с мечами.
Были это тяжелые, обоюдоострые стальные черенки лишь вдвое короче своих хозяев, с рукояткой, приспособленной к двуручной хватке. Хотя чтобы управиться с ними, требовалась недюжинная сноровка, любая тонкость во владении подобным оружием оказывалась излишней, поскольку самым действенным, образцовым, безусловно, являлся смертоносный удар сплеча, который с легкостью разрубал человека на две половинки. Фехтовать подобным мечом было невозможно. Невозможна была и защита – любая, кроме атаки первым. Это оружие исключало всякую преднамеренность, оно являло собой воплощенный в стали порыв к действию. И сами пираты – такие худощавые, такие безмолвные, такие жестокие, такие двумерные – подчиняли, казалось, мечам все свое существо и существование, словно оружие было их душой или же они заключили со своими мечами договор, препоручая им свой дух, поскольку вспышки меча представлялись языком гораздо более выразительным, чем односложное стаккато, столь неохотно слетающее с их губ. Занятия длились у них шесть часов в день. За это время палубы превращались в аркады ослепительного света, ибо клинки оставляли за собой сверкающие полосы следов, надолго повисающие в воздухе. Кончив дело, они еще с час полировали свои клинки и, когда солнце начинало опускаться за горизонт, собирались все вместе, чтобы пропеть на диво немелодичный гимн, который вполне мог бы быть реквиемом по убиенному их мечами дню. Вслед за чем наступала абсолютно безмолвная ночь.
Пираты только кормили нас, а в остальном полностью предоставили самим себе, за что я был им сердечно признателен. Корабль наш казался черной морской птицей, океанским вороном. Он скорее порхал по лону волн, чем их рассекал, и хотя всех нас от смерти отделяла только тончайшая обшивка, из которой впору было бы делать спички, истинная виртуозность, достигнутая ими в искусстве мореплавания, позволяла нам пребывать, если так можно выразиться, в положении корабля, скользящего над океанской бездной по туго натянутому канату. Их искусность в мореходстве поражала ничуть не меньше мастерства во владении мечом и, учитывая риск, на который они шли, тоже, казалось, предполагала некое глубоко интимное сообщничество со смертью. Мы с Ляфлером проводили в своей каюте наедине целые дни, наслаждаясь покоем и пестуя дурные предчувствия. Я обнаружил, что его затаенные лучистые глаза все время следят за мной с любовью, даже с поклонением, и начал постепенно ощущать, что знал его всю свою жизнь и был он моим единственным другом; но при этом сказать, что эта новая теплота расцвела пышным цветом, было никак невозможно, поскольку теперь он придерживался почти траппистской бессловесности и за весь день вряд ли произносил в мой адрес что-либо кроме дежурных «доброе утро» и «доброй ночи». У меня появилось ощущение, что скоро я разучусь пользоваться языком. Я отсчитывал день за днем, процарапывая ногтем линии на стене нашей каюты. На двенадцатый заунывный день случилось полнолуние, и, когда пираты продавили насквозь затычки в бочонках с ромом, я понял, что они собираются выплеснуть наружу столь долго сдерживаемые и подавляемые страсти во всеобщей попойке.
В процесс первоначального опьянения они вступили все с тем же угрюмым усердием, которое отличало все их действия. Ночь выдалась безумно душной, зловеще спокойной. Раздавшаяся в талии луна воспламенила морское лоно, и черный корабль чуть заметно покачивался на ложе из холодно-искрящегося пламени; пираты спустили паруса, чтобы он мог постоять сам за себя остаток ночи и большую часть следующего дня, коли в том будет нужда, ибо каждый из них намеревался напиться до полного бесчувствия. Затем они рядами расположились на палубе, по своему обычаю усевшись, скрестив ноги, на круглые соломенные циновки лицом к полуюту, где под святилищем лицом к команде уселся их вожак, рядом с ним восседал его гость, граф, а перед ними стоял бочонок рома. Каждый держал наготове свою жестяную стопку, и вожак, пролаяв перед выпивкой краткое благословение, зачерпнул ковшом в бочонке рому и налил его в стопку графу, затем проделал то же самое с собственной посудиной. Пираты один за другим подходили за своей порцией. Четкостью очертаний они походили на кукол индонезийского теневого театра. Каждый из них был облачен в черную набедренную повязку и нес на боку меч, вложенный в ножны. Волосы их стягивали обвязанные вокруг головы ленты, все до одного они не доросли до пяти футов по крайней мере на три дюйма, эти роковые домовые смерти. Заполучив проливающуюся через край дозу, каждый пират снимал свой меч и клал его в большую кучу, стремительно растущую рядом с вожаком, – то ли в знак доверия и доброй воли, то ли из гигиенических предосторожностей, призванных предупредить тот урон, который они могли бы нанести своим оружием, достаточно напившись.
Пока команда проходила с жестянками, сподобляясь своей порции, Ляфлер, глядевший рядом со мной в окно, робко потянул меня за рукав.
– Смотрите! – сказал он. – Там земля на фоне неба.
Через чуть зыблемое плато светлой воды далеко-далеко вдали запустили в белое небо свои бахромчатые руки очертания тропического леса. Мы уже проплыли на юг многие сотни миль; далекий ландшафт казался мне столь же чуждым, как инопланетный пейзаж, но все же это была земля, и взгляд на нее облегчил мое сердце, пусть даже мне и не суждено было ею воспользоваться.
– Течения в этих краях обманчивы, а предательские шквалы налетают на редкость стремительно и безо всякого предупреждения, – сказал Ляфлер. – Они выбрали для запоя самое что ни на есть дурацкое время.
– Требования ритуала всегда сильнее доводов рассудка, – ответил я. – Когда наступает полнолуние, они обязаны напиться хоть у самого урагана в пасти.
– Лучше бы они не поклонялись стали, – сказал он. – Она совсем не гибкая.
Вновь разговаривать с кем-то, да еще чувствовать его доброжелательность – для меня это было сплошное наслаждение, хотя снова его личина являла себя настолько законченной и ловко преподнесенной, что у меня не было никаких шансов проникнуть под нее.
– Ну да, мы лее ведь не можем убедить ураган разнести корабль и оставить при этом нас в живых, – сказал я.
– Конечно, нет, – сказал Ляфлер. – Но ураганом правит чистая случайность, а случайность по крайней мере нейтральна. Можно положиться на нейтральность случая. А когда я смотрю на небо, мне чудится буря.
Я тоже посмотрел на небо, но увидел лишь лунный свет да плывущие валы облаков. Когда пираты выстроились для второго захода, они уже хрюкали в диком и буйном веселье и пихали друг друга, поскольку о забавах у них были самые примитивные представления. Их поведение колебалось между всего двумя полюсами – мелодрамой и фарсом. Как только они скинули с себя свои фривольные доспехи, отложили в сторону мечи и приняли внутрь каплю-другую рому, они тут же расшалились с бездумностью, но отнюдь не невинностью малых детей. Даже из своей каюты мне было видно, что граф все более и более разочаровывается в них. Прежде он восхищался объявшей их темным крылом опекой смерти, но тут, после третьего раунда, они сбросили набедренные повязки и все как один пустились во все тяжкие соперничать друг с другом. Сам небосвод содрогнулся от нестройных раскатов батареи их газовых пистолетов. Подставив луне полумесяцы-двойняшки своих лимонно-желтых мадам сижу, каждый старался грохнуть как можно громче посреди настырного, но нестройного хора смешков, а вскоре они начали уже и поджигать спичками испускаемые газы, так что время от времени каждую из выставленных задниц вдруг покрывало голубое пламя.
– Тучи сгущаются, – едва слышно прошептал Ляфлер, и действительно, небо все мрачнело и мрачнело, лунный свет падал теперь, злобно ослепляя, – но не собутыльников, слишком пьяных, чтобы заметить хоть что-нибудь.
Они затеяли борьбу и возню, ставя друг другу подножки, пока их бесконечная цепочка вращалась, чтобы получить очередную порцию из, казалось, неисчерпаемых запасов рома, и вожак, который выпивал в два-три раза больше, чем его люди, часто промахивался мимо стопок и опорожнял черпак на голову очередного сотрапезника. Они покатывались от этого со смеху. Кто-то отвязал от святилища трофейные головы, и пираты, спотыкаясь, затеяли игру в футбол. Застыв в неподвижности, сидящий граф нависал над этим брейгелевским кривлянием, его лицо выказывало явственные черты аристократического отвращения.
– Вокруг луны ореол, – возбужденно пробормотал Ляфлер.
Посмотрев вверх, я увидел, что луну окружает сатанинская аура, а ее бледный рот выблевывает из себя омерзительные горячечные всплески. Пираты, однако, знать ничего не знали и ведать не ведали. Одни как подрубленные валились вдруг с ног и тут же начинали храпеть. Другие поначалу, нерешительно покачиваясь, блевали, прежде чем тяжело осесть на палубу. Большинство же просто опускалось на ее доски и погружалось в глубокий сон только что прошедшего через очищение. Постепенно замирали крики, смех, обрывки пьяных песен. Хотя он выпил больше всех, последним отключился вожак. Он медленно соскользнул из вертикального положения, схватился, чтобы приостановить свое падение, за бочонок с ромом и в обнимку с ним покатился по полуюту, чтобы наконец застыть посреди лужи пролитой жидкости. Граф вскочил на ноги и схватил с алтаря святой меч, всем своим видом и жестом говоря, что их бог был к ним слишком добр. Долговязый, как аист, он был столь же необуздан, как сам дух бури, которая вдруг обрушилась на нас внезапным шквалом. Молнии плясали вдоль клинка, дождь обрушился на погруженных в забытье бражников с тропической яростью, когда граф прошипел: «Подонок!» – и плюнул на вожака пиратов. С брезгливым отвращением перешагивая через тела и лужи блевотины и экскрементов, он направился на корму и безжалостно и непреклонно направил корабль прямо в око смерча.
Мы выскочили из каюты, чтобы подобострастно, как псы, припасть к нему в надежде на покровительство, поскольку он вновь предстал перед нами в своей бушующей стихии, буря казалась его оружием, которым он воспользовался, чтобы уничтожить черный корабль и всех его матросов.
Сам воздух обратился в пламя. Стеньга, раскаленная добела спица, с треском обломилась и обрушилась вниз; на всех поверхностях плясало порожденное бурей свечение, а дождь и неистовые волны исхлестали и промочили нас насквозь, так что мы едва не захлебнулись, еще не утонув. Мы с Ляфлером судорожно цеплялись друг за друга, пока корабль раскачивался из стороны в сторону, перебрасывая взад и вперед свой груз дрыхнувших свиней, ссыпая их, так и не пришедших в сознание, в кипящее море или же давя их тела своими свежеизготовленными деревянными обломками. Развернулись и умчались на крыльях грозы прочь черные паруса, граф размахивал мечом, как не то волшебной, не то дирижерской палочкой, управляя бурей, будто симфоническим оркестром, и мы вновь услышали его расхристанный хохот, покрывавший собою совокупный рев вод и ветров.
– Среди беспорядочных вспышек молний течение и ветер сносили нас все ближе и ближе к суше. Мы увидели, как гигантские исхлестанные пальмы сгибаются вдвое, словно присягая графу на верность. Но толком разглядеть мы ничего не смогли, ибо судно сильно рыскало, а после того как по нему судорогой прошлась череда толчков, и вовсе распалось на части, и все, кто на нем был, оказались сброшенными в воду.
Но ни один из перепившихся пиратов даже и глазом не моргнул, когда их жадно заглатывало море; ну а нас, живых, оно вынесло на белый пляж, по которому ветер, ни на секунду не останавливаясь, передвигал наметанные им дюны вместе с изрядным количеством черных плавней и желтых тел.
Да, мы были спасены – Ляфлер, граф и я; хотя и являли собой вряд ли нечто большее, чем надутые соленой водой кожаные мешки, а в ушах у нас по-прежнему бушевал ураган, словно кто-то прижал к ним большие раковины, подменявшие собой все остальные звуки. Но прадедушка всех бурунов небрежно вышвырнул меня, вцепившегося в обломок рангоута, почти к самой опушке леса, а вслед за мной его меньшой брат вынес на берег и Ляфлера, не выпускавшего из рук руля. Я, спотыкаясь, заковылял по пляжу, таща его за собой по песку от греха подальше, когда вспышка молнии выхватила из темноты силуэт графа, выходящего из воды с такой простотой, как будто он только что принял ванну; в глазах у него теплился странный огонек удовлетворения, а в руке он по-прежнему сжимал могучий клинок.
Мы чуть углубились следом за ним в лес, где вместе с Ляфлером устроили себе среди подлеска нечто вроде гнезда, и тут же заснули, как только наши избитые головы коснулись травяных подушек, но граф просидел бодрствуя всю ночь, словно неся со своим мечом ночной дозор. Когда мы проснулись, он все еще стоял на коленях среди кустов и молодой поросли. Игривые мартышки забрасывали нас листьями, веточками и кокосовыми орехами. Высоко в небе сияло солнце. Таинственное перешептывание тропического леса нежно вибрировало у меня в ушах после несмолкаемого океанского рокота. Нежно благоухал теплый воздух.
Шторм кончился, и чудесный покой наполнял сводчатую, величественную пальмовую рощу. Просачиваясь сквозь паутину лиан, на нас троих лился окрашенный в зеленое свет; да, на бедных лесных сирот, столь нелепо смотрящихся рядом друг с другом; а жара уже была такова, что пар поднимался клубами от нашей промокшей одежды и от превратившихся в грязное тряпье повязок Ляфлера, которые он упорно отказывался снять с лица. Чудесно было вновь ощутить под ногой твердую землю, даже если и не хватало уверенности, какому континенту она принадлежит. Я полагал, что, скорее всего, это мой родной дальний Американский Юг, но преисполненный оптимизма граф сделал выбор в пользу дикой Африки, в то время как Ляфлер безучастно заметил, что мы не имеем ни малейшего представления касательно того, где на самом деле находимся, и вполне вероятно, океан без спросу вынес нас на побережье какого-то далекого острова. Спустившись на пляж, чтобы ополоснуться в море, мы не замедлили установить, что цвет кожи местных обитателей – черный, и тем самым уверились в том, что попали в Африку.
Отступив, отлив оставил вдоль бесконечного белого пляжа распростертые вперемешку с раковинами тела пиратов, а искрящаяся, глянцевая чистота песка подчеркивала непревзойденную черноту местных жителей, одетых в длинные балахоны из раскрашенного хлопка, на которые свисали ожерелья из высушенных бобов; в надежде разыскать и присвоить клад – пиратский меч – они усердно рылись среди обломков. Тут были и мужчины, и женщины, все высокого роста и величественной осанки, в сопровождении смеющихся, на диво обворожительных детишек, и, стоило им нас завидеть, они кротко замычали о чем-то между собой, словно сходка мудрого скота. Наши одежды дымились. Мы замерли на месте и ждали, пока они подойдут. Они делали это медленно, кое-кто неловко волочил за собою пиратский меч. Их лица и грудные клетки были испещрены завитками и шрамами племенных отметин – ножевых разрезов, обесцвеченных втертой в них белой глиной. Пока мы ждали, все больше их высыпало из примыкающих к берегу джунглей, выступая с такой грациозностью, что, казалось, все они могли бы при этом нести у себя на головах огромные кувшины, а голые детишки отплясывали тем временем вокруг них, будто вырезанные из угля марионетки. Увидев, какого цвета их кожа, граф задрожал, словно подцепил в океане лихорадку, но я-то знал, что дрожит он от страха. Зато эти прочные и подвижные тени не выказывали по отношению к нам никакой боязни, хотя постепенно и столпились вокруг нас, окружив со всех сторон кольцом, и тут мы поняли, что попались.
Вскоре до нас донеслись звуки неотесанной, но весьма воинственной музыки, и из леса выступило подразделение развязных амазонок. Это были пожилые курдючные телки. Формой они напоминали перезрелые груши, готовые в любой момент лопнуть от переполнявших их соков, а их сморщенные сиськи вольготно болтались туда-сюда, то и дело вываливаясь на свободу из-под серебристых щитков, которые все они носили на груди, но тем не менее зрелище они собой являли величественное; одни носили алые плащи и просторные белые кальсоны, сделанные из подобранных между ног полотняных бинтов, другие – шоколадно-коричневые плащи и темно-синее исподнее, а все поголовно – увенчанные бунчуками из черного конского волоса металлические шлемы. Их командирши, как подумалось при первом на них взгляде, выбраны были наряду со всеми прочими достоинствами и за размеры своей задницы; они вышагивали рядом со своими подчиненными, дудя в длинноствольные медные трубы и постукивая в крохотные ручные барабанчики; вооружены все эти самки-солдаты были довольно агрессивно: аркебузы, фузеи, мушкеты и отточенные как бритва ножи явились, казалось, прямо из музея старинного оружия. Без особых затруднений они сумели объяснить нам знаками, что мы вновь очутились под арестом, и повели нас, охраняемых скорее числом, а не умением, по зеленой тропе на поляну, где расположилась их деревня; черное же воинство тем временем выстроилось позади нас с присущей им во всем, что бы они ни делали, благопристойной живописностью.
Деревня оказалась уютным и симпатичным местечком, составляли ее просторные хижины, выстроенные из засохшей тины с грязью; нас поместили в скромный и опрятный домик и ТУТ же предложили своего рода завтрак, состоящий из толченого зерна, смешанного с мелко накрошенной свининой, подавалось все это на пальмовых листьях. Мы с Ляфлером жадно набросились на еду, но граф, вновь лишившись всякого мужества, – этакий дрожащий скелет – к пище не притронулся. Он забился поглубже под выданные нам, чтобы мы могли на них отдыхать, стеганые одеяла, повторяя снова и снова: ВОЗМЕЗДИЕ ГРЯДЕТ. Но они были слишком вежливы и учтивы и даже бровью не вели, когда он попадался им на глаза. По правде говоря, единственной режущей ухо нотой среди всей этой сдержанной и гармоничной благопристойности являлись низкие стулья, на которые нам предложили усесться, и столь же низенькие столы, за которыми мы поглощали пищу, поскольку их с большой фантазией и остроумием изготовили из костей, которые, судя по форме, могли принадлежать только человеку. Но кости эти так миленько принарядили, что поначалу заметить это было почти невозможно, ведь их выкрасили в бордовый цвет и разукрасили мозаикой из налепленных при помощи смолы раковин и перьев.
С учтивыми восклицаниями отвращения они забрали нашу превратившуюся в отвратительные лохмотья одежду, и Ляфлер с трогательной, почти девической стыдливостью забился в угол, пока они не принесли нам несколько отрезов набивной хлопчатобумажной ткани, испещренной узорами в черных, малиновых и ярко-синих тонах, и мы не смогли прикрыть свою наготу. Соорудив себе тоги на римский манер, мы с Ляфлером уселись на солнышке у порога нашей хижины, пытаясь, не зная ни слова, поболтать с местными ребятишками, не спускавшими с нас своих огромных серьезных глаз. Детишки с любопытством ощупывали Ляфлеровы повязки, принимая их, должно быть, за часть его лица, и он смеялся вместе с ними со столь трогательным материнством, что я должен был заподозрить… но я ни о чем не подозревал! Смена внешности сводилась для меня к сплошному очковтирательству. В общем, мы достаточно безмятежно скоротали утро, и даже намека на страшные мысли не вызывало у нас зрелище женщин, с деловитым видом суетившихся вокруг подвешенных над огнем огромных котлов, то тут, то там расположенных на открытом воздухе; когда же солнце стояло уже прямо над головой, к нам наведалась командирша женского подразделения и сообщила, что пришла пора, когда мы обязаны отдать дань уважения местному вождю, чья вместительная церемониальная хижина находилась неподалеку от деревни. Так что мы подтянули наши тоги и, как могли, расчесали растопыренными пальцами свои космы. Но граф ни за что не хотел идти по доброй воле, и командирше пришлось выпихивать его прикладом своего мушкета, пока он наконец, сопротивляясь, не выполз наружу, чтобы присоединиться к нам.
О, до чего же изгвазданным демиургом он предстал! Изодранное черное трико свисало клочьями, а на конце каждой ноги из лохмотьев высовывалась бахрома босых пальцев, из проймы же свисал член, вялый и жалобный, как проколотый воздушный шарик. Он с трудом волочил ноги, словно орел с перебитым крылом. Бедный, жалкий тигр! И однако же он с блеском прошел в предыдущую ночь через свою бурю и даже теперь, когда нас под охраной вели по деревне, понемногу обретал, словно призвав для этого на помощь всю угасающую храбрость, какие-то жалкие обрывки своей загадочной харизмы, все же достаточные, чтобы гордо откинуть назад голову, возможно воодушевленный на это сопровождавшим нас всю дорогу высоким, пронзительным гомоном труб.
Дорога круто карабкалась в гору под сводчатыми архитравами пальм, которые уходили прямо в небо горделиво вздымающимися, на диво громадными серо-голубыми колоннами, чтобы расцвести там украшенными султанами зонтами из изумрудных перьев, служившими в этом растительном соборе капителями. Поступь нашей охраны преисполнилась некой приглушенной торжественности. Они сменили музыку, перейдя в более мрачную тональность, исполнялось теперь нечто вроде этакого ламенто, а когда мы приблизились к водопаду, все они пали, поклоняясь ему, ниц. По другую сторону от водопада в гладкой поверхности скалы находилась пещера, вход в которую прикрывали занавеси из уже знакомого нам набивного ситчика. Солдатши вновь простерлись ниц, из чего нетрудно было сделать вывод, что здесь живет их вождь и что его племя испытывает по отношению к нему благоговейный трепет. Граф побледнел, будто из тела его выпустили всю кровь, но, однако же, все еще сохранял в себе нечто от своего доброго старого духа непокорности. Фанфары и литавры смолкли, но по-прежнему слышна была текучая мелодия водопада и треск дров, сгорающих под огромным котлом у самого входа в пещеру.
Оглянувшись назад, я увидел, что за нами сюда явилась вся деревня, и посреди древовидной тишины только мы остались стоять, а все остальные припали к земле, зарывшись лицом поглубже в траву или же прижавшись им потеснее к почве. Присутствие сотни безмолвных людей наполняло зеленый лесной полумрак священным покоем, от которого мне невольно стало не по себе. А затем из пещеры потянулась весьма чувственная процессия жен и наложниц вождя, занавеси они при этом в сторону не откинули, и нам не было видно, что находится внутри. Насыщенно черные и абсолютно обнаженные, женщины эти, покачивая воткнутыми в волосы страусовыми перьями, расположились вокруг входа в пещеру преисполненным смиренного благоговения обрамлением. У многих на грудях или ягодицах кровоточили следы гигантских укусов. У некоторых не хватало соска, почти все недосчитывались одного-другого пальца на руках или ногах. У одной девушки в глазнице сверкал помещенный туда вместо утраченного глазного яблока рубин, иные щеголяли самой причудливой формы вставными зубами, вырезанными из слоновьих бивней. Все, однако, были когда-то красавицами и, претерпев разнообразные виды обезображивания, обрели некий изысканный пафос. Вслед за ними вышло несколько евнухов, а затем – придворный кастратор, придворный цирюльник и несколько других официальных лиц местной варварской иерархии, пока перед нами не предстал весь двор, выстроившийся перед пещерой в ряды, словно собираясь позировать для групповой фотографии.








