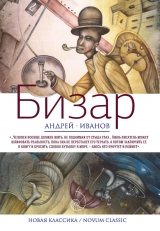
Текст книги "Бизар"
Автор книги: Андрей Иванов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Меня рисовали девушки и мальчики. Я был этим очень доволен. Прежде всего тем, что был всего лишь материал. Физический объект. Повод для ковыряния карандашом. Такой же, как кувшин, бюст, чучело. Безымянный. Когда они меня рисовали, я чувствовал, что мое тело вернулось на место, у меня снова появились руки, ноги, голова, ребра. Я ощутил, что у меня есть тени. Во мне зашевелились линии. Побежали черточки. Тело. Как просто! Что еще нужно? Студенты старались. Ничего больше им и не нужно было! Они наяривали. Целились взглядами, вычерпывали из меня личность. Потом я смотрел на свои изображения и видел незнакомого человека, который был неуязвим, потому что у него не было ни биографии, ни отпечатков пальцев. Это был кто угодно. И у него было мое лицо, мои руки, мои татуировки… Волшебная анонимность – о таком можно было только мечтать! Я смотрел в окно и ни о чем не думал. Они рисовали. По крышам блуждало яркое солнце. Летели птицы. Дверь хлопала, но меня это не беспокоило.
Сюзи любила понюхать амфика и тогда уходила в работу с головой. Когда мы оставались вдвоем, она рисовала особенно упоенно, часами… понюхает и рисует, рисует и болтает: о себе, об отце, о своих подругах… о подругах она могла чесать бесконечно! Все они на чем-нибудь сидели. Некоторые давно отъехали, другие время от времени лежали в дурках… И мои знакомые тоже, говорил я ей, либо сдохли, либо свихнулись. Она смеялась как припадочная, заворачивалась в себя, чуть ли не по полу катаясь, повторяла: «Either dead or mad! Dead or mad!»[10]10
Либо умерли, либо свихнулись! Мертвые или сумасшедшие! (англ.)
[Закрыть].
Сюзи никак не могла понять, почему одна из ее подруг бросила своего ребенка. «Она любила его безумно! – рассказывала Сюзи. – На самом деле! Она так хотела ребенка, и, когда все получилось, она пять лет с ним нянчилась, если не больше. А потом… Я так и не поняла, что там такое приключилось у нее с головой, почему она бросила ребенка…» Сюзи хотела разобраться, просила, чтоб я помог понять, как так могло получиться, что ее подруга (я не знал ее совершенно) сперва безумно любила своего сына, а потом взяла и бросила его. «Она сказала, что больше не может. Он ее раздражает). Представляешь, Эжен?! Она сказала, что он ее раздражает! Она плакала у меня на руках и кричала, что не понимает, что с ней происходит…» Ее подруга билась в истерике: «Еще вчера я его безумно любила, а теперь он мне кажется плохим и гадким! Меня раздражает этот ребенок!» Сюзи не могла понять, что случилось: «Как ты думаешь, что с ней могло случиться? Почему она так поступила?» Я сказал, что это шизофрения. «Ах вот в чем дело! – воскликнула Сюзи. – Как просто! А я не знала, что думать…» Ее мой ответ удовлетворил: подругу она больше не вспоминала. Другая много лет пила какие-то крепкие сонники и ничего не соображала. Ее язык заплетался, как у пьяной. После двух бокалов вина она отключалась. Сюзанна подарила ей картину, где я, медно-красного цвета, как бронзовая фигурка, был нарисован в чалме. Я сам повесил. Там была еще одна баба, такая развязная и бухая, она так откровенно любовалась моим животом, бедрами… Я ей пытался объяснить, что я совсем не такой… Сюзанна перестаралась… Но она не хотела слушать, трогала, гладила картину… Все это кончилось тем, что Сюзи разругалась со всеми и мы ушли…
Все лето я шатался по Хольстебро. Посиживал у фонтанчиков. Прогуливался по мосту. Курил в парках. Пил пиво на скамейках. Крутил самокрутки и жмурился на солнце. На меня нападала странная меланхолия. Словно я куда-то уехал. Насовсем! Не только из Эстонии в Данию, но из Дании куда-то еще… Вообще уехал! Стал кем-то другим в другом мире…
В один из таких тихих дней дядя мне переслал письмо матери.
От этого письма у меня началась бессонница. Мать писала, что снова приходили, крутились, опять в машине какие-то типы сидели, курили, посматривали, опять в телефонной трубке какой-то скребет и т. д., и т. п. Накатила волна мрака и холода, дни и ночи съежились. Я не знал, куда себя деть. Вся одежда стала тесной. Сигареты обжигали горло. Еда вставала комом – я икал, давился. По ночам вскакивал. Заваривал чай, крутил сигаретки, думал, и мне представлялись мрачные субъекты, которые караулят в машине у дома матери; в моей голове разворачивался сюжет, разыгрывались эпизоды из триллера: кто-то кому-то отчитывается о том, что ходил, прохаживался под окнами, звонил по телефону, царапал почтовый ящик… Все эти действия каким-то образом влияли на меня. Люди без лиц, с ремнями и мобильными телефонами, с кобурой вместо сердца, злобные гномы потустороннего мира, они что-то напряженно думали, сидя за столами, со слабой лампочкой, которая тлеет над распахнутыми папками, курится сигарета, вплетаясь в мою судьбу; они суетились, черной кошкой перебегали улицу, на которой я родился, светили в окно матери печальной желтой звездой, приводя таким хитрым способом в действие магический магнит человеческих душ, высасывая меня из тела, затягивая обратно в Таллин. Я не мог противостоять этому заклинанию! Меня охватывал ужас и бессилие… и чем больше меня душило бессилие, тем страшнее мне становилось.
Сюзи заметила, что я напряжен, что у меня странное лицо, начались вопросы: в чем дело?., что случилось?.. Я не знал, что сказать. Хотелось, чтоб меня оставили в покое, чтоб никто ни о чем не спрашивал, не тянул за ниточки, не писал мне писем… не вспоминал обо мне… никто!
Особенно сильно скрутило в китайском ресторане.
Там был китайский ресторан. В него ходили старики. Я наблюдал со скамейки. Ветхое здание, мутное стекло, выцветшее меню. Люди шли туда, как за старостью. Входили, чтобы оставить лет десять сразу. Я курил под деревом и поглядывал. По вечерам, когда зажигали свечки, из сумрака вырезались кругленькие столики, за которыми сидели печальные посетители. Старики… Они посматривали друг на друга, проверяя, кто пришел, а кто нет… Представляю, как для них это было важно. Пока ты можешь дотащиться до своего столика, ты в форме. Пока ты сидишь тут, пилишь свою сосиску, ты в строю.
Однажды не выдержал и вошел. С письмом, от которого по всему телу разбегались болезненные покалывания.
Клеенки на столиках. За стойкой старая китаянка. Взял блинчик и долго жевал. Старичку напротив поднесли ягермайстер. Он не торопился. Его руки тряслись. Они были сморщенные, как перчатки… как руки моей матери (больница, клейстер).
Стараясь забыть о письме, настойчиво думал о том, что эта опрятная китаянка в передничке с кружевами уже привыкла к этим мумиям. Привыкла им улыбаться. Изучила каждого. Знала, как перед кем наклониться, насколько громко с какой стороны сказать и что и как высветить на своей физиономии, а самое главное, насколько быстро или медленно все это проделать. Наверняка, она замечала, как они пропадали потихоньку. Наверняка она научилась не придавать этому значения. Наверняка она даже не думала об этом. Просто забывала. Да, так оно и было. Вот это настоящее забвение! Когда тебя так забывают… Тогда это уже всё! Вот бы меня так!
Все будет стерто. Все будет забыто. Всему приходит конец, – писала мать. На обломках старых домов строят новый громадный банк. Жизнь неумолимо жестока. Жестока и несправедлива…
Глядя исподлобья на дрожащие руки старика, я напряженно думал…
До нашего появления на этой убогой планете чертова Вселенная существовала целую вечность. После нас будет существовать столько же. И какое мне дело до каких-то старичков, пьющих ягермайстер в китайском ресторанчике Хольстебро? Зачем вообще их замечать? Какое отношение все это имеет ко мне? Зачем думать о том, что где-то от одиночества и тоски сходит с ума мать? Пуповину давно перерезали… А там все ноет… Тридцать лет ноет! Если жизнь неумолимо жестока, почему я не могу быть жестоким тоже? Жестоким и бессердечным. Я ведь часть жизни, один из живых организмов, действующий актер этого бродячего цирка. Так почему я не могу наплевать и забыть о матери, которая белкой в колесе вертится где-то там на отшибе Таллина, в старой, почти рухнувшей квартире… охотится на работы, как кошка на голубей?.. Почему я не могу заглушить этот стон? Откуда берется чувство вины? Почему мне кажется, что я жесток? Ведь я спасаю свою шкуру!
Как гипсовую форму, меня наполнила тяжесть, которая сжимала горло, не давала дышать, – я носил ее в себе, ощущая, как медленно она затвердевает, изменяя меня.
Не только внутри… Однажды, когда брился, заметил на своем лице странный оскал, присмотрелся… и вдруг перестал себя узнавать! Это был не я. В зеркале стоял отвратительный мужичок, такой подуставший хмырь, у которого черт знает что может быть в голове, он стоял там и пялился на меня – это был не я! Про таких говорят: «сосед», «квартирант», «гражданин», «субчик»…
Больше не подходил к зеркалу – было страшно; не мог есть, не мог пить, не мог курить, улыбаться, не слушал, что мне говорили, не чувствовал себя свободным и раскованным, когда меня рисовали. Сеансы стали мучением. Август обвалился ливнем. На неделю весь Юлланд заволокло туманом. Стало холодно и неуютно. В студии включали свет. Это было нестерпимо! Голый, я сидел на столе, в снопе электрического света, а за окном была серость, снаружи кто угодно мог меня рассматривать! Я был выставлен, как вещь на продажу!
Сюзи меня раздражала. Я злился на нее, хотя она ни в чем не была виновата. Мы поссорились; она думала, что я переменился из-за нее; она кричала, что знает, знает, знает, как это бывает, что не надо ей ничего, ничего не надо объяснять!.. И я не стал ничего объяснять – вернулся в лагерь.
– Она тебя старше на восемь лет, – успокаивал меня Хануман.
– Сюзи тут ни при чем, – говорил я, а в голове вертелось: все напрасно… все это напрасно…
Мы пили вино, дорогое легкое вино; Хануман разглагольствовал:
– Женщины… это ерунда! Не стоит им уделять так много места в своем сердце, Юдж, не говоря о голове. Зачем тебе гарем в голове? Надо с ними попроще. Раз-два и пошел дальше. Запомни, женщины – это хозяйственная часть человечества, физиологический тип, приспособленный для продления рода. Ничего больше… Причем заметь, чем больше они кричат о своих правах, о том, что они что-то собой представляют, тем агрессивней охотятся на мужиков. Это у них тактика такая. В Дании они совсем остервенели. Они настолько поверили в свою независимость от мужчин, что перестали в них нуждаться и быть похожими на женщин. Восточная Европа – вот место, где еще остаются нормальные бабы… Там еще уважают мужчин, а вообще… человечество скатывается в яму матриархата, и поверь мне – это будет тотальной тюрьмой! Тотальная тюрьма – вот что ожидает человечество в недалеком будущем. Впрочем, это не имеет значения, женщины все равно всегда будут охотиться на мужчин… Миром уже правят бабы… и деньги. А такая дурочка, как Сюзи… таких бесполезных телок знаешь сколько! Ты ничего не потерял. Сколько их у нас было, Юдж! Лучше вот послушай мою новую теорию. Холодная война не закончилась, Юдж! Она просто перешла в новую фазу – «деньги против человека». Советский Союз все-таки был идиотской утопией, там деньги не принимали всерьез, а напрасно. Деньги – это опасное изобретение. Хуже бактериологического оружия. Я выработал новую теорию, которую хочу проверить на практике. Слышь, Юдж? Я хочу проверить кое-что… Мишель станет моей лабораторной крысой! Хэ-ха-хо!
Я не слушал его: все, что он говорил, мне казалось просто бессмыслицей.
Так и не встретились. Сюзи нигде не было, ни в студии, ни дома. Побрел на точку. Шел по пешеходке и думал: пару месяцев назад мне здесь было хорошо, на самом деле хорошо, поэтому я поехал не в Ольборг, а именно сюда, даже не затем, чтобы встретиться с Сюзи, а затем, чтобы пройтись по этой же самой улице, где мне было легко и беззаботно. Я хотел понять, куда эта легкость улетучилась. Ведь я – это я; и город тот же.
Но нет, всё изменилось: и я, и город, – всё стало другим.
Но как?.. Когда?.. Почему?..
Город молчал. Статуи натягивали сети сумрака. Небо кемарило на крышах. Ветер перелистывал газету, перелистывал…
Я шел, передвигая своего черного двойника, как шахматную фигуру, из одной тусклой витрины в другую. Остановился. От речки веяло холодом.
Зачем я здесь? спросил я себя. Черт с ним, с гашишем… Кто так решил, что я должен этой ночью стоять и смотреть на свое отражение в этой чернильной витрине? И для чего?..
Фонарь моргнул юрким велосипедистом. Ничего не нащупав в себе, пошел дальше. На скамейке спал пьяный. Летели и не могли улететь шарики, привязанные к ветке невидимого дерева.
Лето прошло, подумал я. Еще одно лето моей жизни прошло.
У Мартина меня как-то неприветливо встретили. Там были гости. Пять или шесть человек курили большой кальян. Жрали пиццу и гоготали. Мартина не было. Пока Йене взвешивал, я, прислонившись плечом к стене, слушал. Какой-то незнакомый бородач рассказывал про тюрьму. Недавно вышел. Был полон впечатлений. Рассказывал, как о поездке на Бали. Даже показывал фотографии. Йене кивнул головой в сторону бородатого:
– Мне тоже скоро в тюрьму. Уже получил извещение. – Он сделал кислую мину, буркнул for satan![11]11
Черт побери! (дат.)
[Закрыть] и добавил несколько крошек гашиша на весы.
Йене все лето был таким дерганым, говорил, что устал ждать, когда для него освободится место в тюрьме.
Я спросил, не видел ли он Сюзи. Йене сказал, что она куда-то уехала, она говорила куда, но он забыл.
– Впрочем, не имеет значения. Она укатила с каким-то стариканом. Он у нее уже две недели. Тебя давно не было… – Завернул гаш в фольгу, пересчитал деньги, вздохнул и опять заговорил про тюрьму. – Ждать тяжело, – говорил он. – Ладно бы сразу посадили. Живешь, дела делаешь, а срок висит где-то там, в неопределенном будущем… – Я качал головой понимающе. – По сути, срок начинается с момента оглашения приговора, – рассуждал Йене. – Я, можно сказать, полгода отсидел, пока ждал. Можно сказать, наконец-то! Так что будешь покупать у него, – снова кивнул в сторону комнаты, где сидел паханом бородатый и корчил рожи. – Эй, Гуннар, иди сюда! – крикнул ему Йене. – Это русский парень, он у нас покупает, запомни его на всякий случай!
– Русский?! – воскликнул Гуннар. – Никогда не видел русских!!!
Вразвалку, как горилла, подошел; выпучив глаза, осмотрел меня с ног до головы, даже присел, чтобы посмотреть на мои ботинки; понюхал, как собака, повернулся и крикнул что-то нечленораздельное в комнату. Оттуда послышались смех и хлопки в ладоши, кто-то пропел: оле!.. оле!.. оле!..
Бородач осклабился, похлопал меня по плечу, пожал руку и сказал:
– Всегда добро пожаловать! Приходи почаще!
Я стал ездить в Ольборг.
2
Афганцы приносили деньги каждую неделю. Довольный дедушка Абдулла грелся на солнышке. Большая спортивная вязаная шапка, синий пуховик с желтой молнией и красной изнанкой. Спортивные штаны. Барахло это им выдали в приемнике Сундхольма. Дедушка Абдулла был такой старый, что никого не узнавал – никого, кроме хазара, доктора и внука, – сидел на скамейке неподвижно и с кроткой улыбкой смотрел – в поле, в небо, себе под ноги, на большие потертые кроссовки с длинными носками, на свою палку, на травку под ногами. Он и представить себе не мог, что мимо него раз в неделю проходит человек, который привозит ему гашиш.
Михаил каждый раз заруливал на свалку, ползал по кузовам ржавых машин, как жук по металлическому муравейнику, делал вид, что ищет что-то, что могло превратить убитый «кадет» в новорожденный «форд», шарил в багажниках в надежде найти что-нибудь ценное.
– Мало ли, – шептал он, – забыли, перегнали и забыли…
Луч его фонарика метался во мраке. Дождевик шелестел. Я терпеливо ждал. Он выдирал что-нибудь из приборной доски, и мы уходили.
За рулем он постоянно трещал о каких-то бабах. Нашел себе русскую, которая жила у датчан, подрабатывала, что-то там делала, в навозе копалась и цветы высаживала на подоконниках, кустики стригла. Он возил ее к морю, они выпивали дешевое винцо, и там он ее трахал. Жаловался, что теперь как-то и переезжать грустно… Привык…
Мы ставили машину в мертвом переулке, я просил его подождать, он пытался за мной увязаться, даже следил, но мне легко удавалось уйти. На обратном пути я покупал себе бутылку пива, старался облиться побольше, чтобы забить запах гашиша, но он все равно чуял.
– Дунул, что ли? – спрашивал он. – Дунул, да?
Отломив скромный кусочек, Хануман отдавал остальное Джахану. Забирал чеки на бензин у Михаила, записывал в блокнот литры и кроны, напоминал:
– Мишель, ты все еще нам должен. Ты поставил машину на продажу?..
Михаил ничего не отвечал, ворчал, хлопал дверью, громыхал ботинками; Хануман ухмылялся.
– Я ему не дам ускользнуть. Будь уверен! Я его использую по полной, каждую крону вытяну… и из афганцев тоже, – говорил он, а потом спрашивал: – А почему от тебя так пивом воняет?
Я объяснял…
– А через парфюмерный в Kvickly[12]12
Сеть датских супермаркетов с богатым выбором товаров.
[Закрыть] не догадался пройтись? Надо было купить пиво?
– Я не могу себе купить пиво?
– Можешь, – говорил он. – Но не надо им обливаться и вонять! Купи себе пиво и пройдись через парфюмерный! Не будь дураком, Юдж! Нет, ну ты посмотри на него, посмотри на этого клоуна! – говорил он, глядя сквозь жалюзи на то, как Потапов намывает «кадет». – Он даже машину моет не просто так… а как бы по приятной необходимости.
Я подошел к окошку. Потапов мыл машину, в его движениях чувствовалось торжество.
Все в лагере стали смотреть на Михаила с придавленной завистью, с черствой злобой; каждый день у нашего окна разыгрывались одни и те же идиотские диалоги…
– Moving, my friend? – спрашивали его албанцы.
– No moving! House! House!
– House? Deport? – спрашивали те.
Потапов заводился:
– No! Fuck deport! Living in house! – И добавлял сакраментальное для беженцев: – Just like a normal human being.
Курды изумленно спрашивали:
– Positive, my friend?
– Not yet![13]13
– Переезжаешь, мой друг?
– Не переезд! Дом! Дом!
– Дом? Депорт?
– Нет! К черту депорт! Проживание в доме! Как всякий нормальный человек.
– Позитив, мой друг?
– Пока нет!
[Закрыть] – отвечал Михаил.
В край озадаченные албанцы и курды чесали бороды, пытаясь постичь, что бы это могло значить. Он с важностью говорил, что писал письма в Директорат.
– Какие письма? – изумлялись они.
Михаил отмахивался, говорил, что ему некогда – масса дел, масса дел, – вскакивал и деловито направлялся к себе паковать вещи: вещи, так много вещей!
Аршак пытался вызнать детали – ему тоже срочно захотелось переехать в дом. Он даже посерел, когда узнал, что Потапову так подвезло. Он потерял от зависти покой и больше не мог прохаживаться туда-сюда по коридорам билдингов в своих ворованных спортивных костюмах, его это больше не удовлетворяло. Он перестал выходить во двор в дорогих ботинках, закидывать ногу на забор на уровне плеча, любуясь в такой противоестественной позе тем, как на солнце поблескивает краденый башмак. Его больше не видели ни в бильярдной, ни в кафетерии, где он обыкновенно проводил вечера с вывернутым на футболку золотым распятием весом в восемьдесят восемь граммов. Все это перестало радовать Аршака; все эти свидетельства несомненно великих достижений и высочайших человеческих качеств поблекли, как только он узнал, что косолапый русский толстяк каким-то образом заполучил право на проживание в отдельном доме. Слыханное дело! Все были в стойле скоты скотами, и вдруг взяли одного и со свиным рылом да в дом! Где справедливость? Чем он лучше других? За что вдруг такие привилегии? Теперь хоть в пиджаке от Кардена выйди, это уже не поможет! Зачем тебе хорошая одежда, если ты живешь в таком отстойнике?!
Мы с Хануманом пускали дым в потолок, пили чай, а Потапов за окном мыл-намывал машину, готовил ее выставить на продажу, говорил жене (а я переводил Хануману):
– Пусть Аршак хоть весь золотом обвешается! Кто это золото видит? В этом клоповнике-то! Тут все чмори, до одного! А мы теперь в дом, Маша, переедем и больше эти рожи никогда не увидим. Заживем как белые люди. Представляешь, утром на кухню выходишь – и там ни одного арабского рыла! Ни одной черномазой свиньи! Ни одного скота! Больше не будет луж в туалете. Будет унитаз, на котором белые люди гадят, а не черножопые мартышки. Наступают хорошие времена. Чую, начинается белая полоса. Ну, сколько можно терпеть? Мы так долго этого ждали. Кажется, появился свет в конце тоннеля. Сперва дом, а потом, глядишь, и временный вид на жительство. Дом – первый шаг к позитиву.
Хануман закатывал глаза:
– О, наивный дурак! Невежественный идиот!
* * *
Вскоре Потаповым сообщили, что жить они будут на острове Лангеланд, и началась совершенно новая эпопея. Михаила вызвали в офис и торжественно вручили карту, на которой жирной красной точкой был обозначен их дом, точкой поменьше была помечена автобусная остановка, от нее к «дому» бежал красный извилистый пунктир – путь, который следовало проделать пешком.
Ханни открыл свой атлас. По всей видимости, Потапов должен был отныне жить на отшибе самого длинного в Дании острова. Посмотрели в сноску – заповедник. Судя по редким линиям на карте, в этих угодьях даже автобусы не ходили. Глушь! Один захудаленький довозит тебя до конечной в порт, а дальше ты сам должен переть. Хануман посмотрел на масштаб карты и выразил сомнение:
– Иван и Мария, да, они пройдут. Да и Лиза протопает. А вот Мишель… – сказал с ухмылкой Ханни, – Мишель вряд ли… он такой жирный…
Я согласился, покашлял в кулак.
– У Мишеля такие короткие ноги… – приговаривал Хануман. – Пять с половиной километров пешком…
Но Михаил радовался, как ребенок. Он упаковывал чемоданы, вязал мешки, договаривался с транспортной фирмой.
– Все оплачивает Красный Крест! – говорил он, потирая ладони. – Перевоз совершенно гратис! Государство платит!
– Уезжаешь? – спрашивал ядовито Хануман. – Нам уже тебя не хватает! Скажи, когда именно? Скажи мне дату, ублюдок! Ты поставил машину на продажу? Продавай армянам за пару штук и возвращай нам тысячу! Я прощу остальное…
– Мужик, – деловито отвечал Михаил, – это глупо. Сразу видно, что ты в машинах ничего не понимаешь. Такой «кадет» за две тысячи? – ухмылялся Михаил. – Три штуки минимум! Минимум!
– Сукин сын, продавай за две, не жадничай! – настаивал Хануман. – Потом и того не дадут!
– Я знаю, что я делаю, – упорствовал Михаил. – Подкрашу, поставлю стереосистему и за три с половиной уйдет! Можно на свалке и кресла поновей раздобыть, приборную доску… Это мелочи, но вид товарный. Переведи ему, Жень! Он ни хера в машинах не понимает.
И уехал на свалку, а может, к морю со своей чертовой куклой, вернулся утром с какими-то бумажками.
– Информация об острове, – сообщил он важно. Все мы должны были понимать, о каком острове шла речь. Потапов узнал о Лангеланде всё, пообщался с людьми, набрал в библиотеке каких-то брошюр. Кто-то сказал ему, что там есть порт, идет клев, треска стаями ходит, можно арендовать лодку, почти ничего не стоит, копейки, и вообще, красота да и только! Еще там жил Ярослав, с которым мы познакомились в транзитном лагере Авнструп, – Ярослав перебрался из лагеря к какому-то церковному деятелю, и это воодушевило Михаила: он хотел, чтоб теперь его окружали не лагерные, а люди со связями среди местных, те, кто мог ему поспособствовать в дальнейшем пускании корней. Михаил позвонил Ярославу, тот произнес три ключевых слова: природа – порт – свалки, – больше можно было ничего не говорить: Потапов был на седьмом небе от счастья, ходил сам не свой, облизывался и потирал руки. В машине сидеть с ним стало невозможно – он потел и зомбировал меня.
– Там все дешевле, это точно, – тарахтел он по пути в Ольборг. – На Лангеланде всё значительно дешевле!
– С чего бы это?
– Посуди сам! Порт – рукой подать до Германии! А в Германии, сам знаешь, всё дешевле! А тут тебе прямо из порта везут. Рыба дешевле. А рыба – это здоровье!
– Ну и что мне с того? – спрашивал я его. – Мне-то что? Даже если там все бесплатно…
– Ну не знаю, – терялся Михаил, – мог бы тоже…
– Что тоже? – ставил я его в тупик.
– Пожить на Лангеланде… – неуверенно говорил он. – Поехал бы с нами, пожил бы у Ярослава. Он о тебе спрашивал. Ярослав вообще-то не на самом Лангеланде живет, а на соседнем острове. Фюн называется. Примыкает к Лангеланду длинным мостом. Он сказал, что это самый высокий мост в Дании! Вот я подумал: покурить бы на нем, а? Так накроет… Может, купим травки?
Я только морщился.
Несколько раз на дню мы слышали, как Михаил кому-нибудь у нашего окна объяснял: Лангеланд по-датски значит «длинный остров». Хануман ухмылялся:
– Он так произносит Лангеланд, точно это Long Island!
Так оно и звучало.
Наконец он, кажется, все-таки сплавил «кадет» на стоянку или черт знает куда… Машины не стало, пришлось ездить на школьном автобусе; я брал тетрадки, садился рядом с Непалино, делал вид, что что-то читаю в учебнике, стараясь не косить на шофера, так мы и ехали…
В лагере Виссе, под Ольборгом, жил Отар, я каждый раз заходил к нему; он завязал с вином и воровством, читал Библию и философию, Достоевского, Розанова, Мамардошвили… У него было много книг, так много, что они с другом выкинули кровати, тумбочки, шкафчики, у них не было ни стола, ни стульев, спали на полу, на матрасах, а вокруг них были книги… Его друг, Арто, тоже завязал с воровством и ширкой, они вместе постились и держались особняком от остальных. Отар всегда радовался, когда видел меня, приглашал к себе, заваривал чай, мы садились на пол, пили чай, разговаривали. Я был многим ему обязан, но он ничего не хотел слышать об этом; он просто подливал чаю, спрашивал, как у меня дела, как там Хануман, рассказывал истории, которые циркулировали по лагерям, плавно переходил к своей философии, рассказывал, какие чудные видения его посетили… Он был настоящий визионер! Пока я болтался без дела в поисках неприятностей, Отар делал невероятные открытия. Я сидел и слушал – это была поэзия, настоящая поэзия! Верить в то, что он говорил, было не обязательно, – он и не убеждал. Тощий, изнуренный постом, он все время был в поиске, задавал себе вопросы, спорил сам с собой, – я смотрел на него, и мне казалось, что я присутствую на спиритическом сеансе. Когда входил в раж, он мне казался одержимым; он выплескивал на меня свои соображения и смотрел мне в глаза, затаившись, точно ожидал: что будет?., выживу я или, не вынеся отблеска Истины, разорвусь в клочья?.. Я пил чай и слушал, а потом шел по моим делам. Приходилось долго топать, сорок минут вдоль шоссе до центра… под дождем и ветром… через спальный район, где рыскали бандитские стаи курдских подростков… нырял под арки, петлял дворами…
Последний раз Отара не оказалось в лагере, я решил, что зайду на обратном пути. В городе меня посетило странное чувство разлуки. Хныкал дождик по-стариковски жалобно; под козырьком у церквушки меня окликнули знакомые наркоманы. Ларе и Бент. Потрепанные и очень сонные. Они прятались от дождя… и еще что-то у них было в пакете… Я хотел было махнуть рукой, пройти мимо, но тут что-то меня удержало, и я подошел…
– Как дела, мужик? – спросил Ларе, покачиваясь. – К Кривому или от него? Шучу, шучу, не в свои дела носа не сую.
Мне стало неловко. Объяснил, что кое-кто скинулся… Они меня остановили: не надо ничего объяснять. Измочаленные, озабоченные, оба давно слезли с иглы, но героин курили исправно, и мы с Ханни с ними за компанию пару раз тусанулись. Было у них очень грязно. Они всегда плодили сор. Вот и под козырьком уже натоптали, набросали окурков, наплевали… салфетки, билетики… и пакет, таинственно прикрытый картонкой. От меня они ничего не хотели. Просто попросили, чтобы постоял. Они убивали время. Спросили, как дела у Ханумана, рассказали, что одного их приятеля опять закрыли в дурку, кто-то вышел и тут же загремел в реанимацию, то да се… Были они вялые, почти тряпичные, ветер ощупывал их одежки, как если б те болтались на вешалках у входа в какой-нибудь магазин.
– Ты куда-то уезжаешь? Мы тебя больше не увидим? – спросил неожиданно Бент, и мне стало тревожно, я вдруг ощутил, что – да, уезжаю, – и пробежал озноб по спине.
– С чего ты взял? – спросил я.
– Выпить хочешь? – спросил Ларе, присел и раскрыл пакет: бутылки, бутылки… – Только что прошлись по магазинам, – улыбался он счастливой улыбкой, отвинтил колпачок, выпил. Они уже отпили из всех, кроме одной, которую берегли для продажи или обмена на гаш. – Признаться, мне тоже показалось, что ты уезжаешь.
Я сделал глоток вермута, – почему-то захотелось бежать сломя голову.
– Не знаю, – пожал я плечами, еще глоток. – Не знаю, вроде бы не собирался.
И засмеялся. Они тоже засмеялись. Но был это странный смех. Будто сам Ольборг смеялся надо мной.
Отара снова не оказалось в лагере. В коридоре меня за рукав поймала соседка, сказала, что он ушел.
– И друг его, Арто, тоже ушел, – вздохнула пожилая армянка, – ушли они. – И шепнула: – В Германию ушли. Теперь неизвестно, кого поселят, а с ними было так спокойно, друг мой, такие хорошие соседи, интеллигентные мальчики, не пили, не курили, не воровали, только говорили, много и хорошо говорили, правильно по-русски говорили, очень много о Боге говорили, о тебе тоже. Пойдем со мной, – вдруг поманила она меня, и завлекла в свою полупустую комнатку. – Отар тут тебе оставил кое-что… Я так беспокоилась, что не увижу и не передам, – шептала она, вытягивая из-под кровати большую сумку. – Думала, думала: как передам?., где найду тебя? Отар сказал: «Уважаемая Гулизар, передайте брату моему, Евгению, будьте так добры, он зайдет обязательно». Вот ты и зашел, мой дорогой. Вот тебе сумку передал Отар. Такой вежливый молодой человек, этот Отар, – прикрыла глаза. В сумке оказались кроссовки, легкое пальто, джинсы, большая металлическая коробка индийского чая и три тома Достоевского, я даже вздрогнул. – И вот, возьми-ка это тоже, – вложила в сумку кулек с пирожками.
Я стушевался, стал благодарить, пожилая женщина ласково гладила меня по рукаву – бери, бери, дорогой; теплые-теплые руки, мягкие влажные глаза; я поблагодарил… хотел что-то еще сказать… начал говорить, но неожиданно мой голос просел, в горле что-то заклокотало. Отвернулся. Поторопился уйти.
Афганцы перестали приносить деньги; в Ольборге я больше никогда не был.
* * *
Михаил так радовался, будто выиграл в самую важную лотерею в жизни. В нем проснулась энергия, забили родники жизненных сил, по венам двинулись соки, и все это устремилось к красной точке на карте, которую ему распечатали в офисе. Последние дни в лагере изменили его до неузнаваемости; я много раз слыхал о той невероятной метаморфозе, которая приключается с азюлянтами, когда нисходит на них «позитив», но к преображению Михаила Потапова я был не готов. Он напялил синий комбинезон с лямками, раздобыл колодки, в каких ходят в Дании мастера, и с беззаботным видом прогуливался по Фарсетрупу, громыхая копытами, здоровался со всеми подряд, давая всем понять, что он без пяти минут полноправный житель Дании. Это было омерзительно. Каждый день он заставлял всю семью учить датский. Сам тоже брал в руки учебник и что-то бормотал. Он быстро впал в иллюзию, будто одолел Директорат, поверил, что за тыщу зеленых купленная схема сработала, он-де взял бюрократов измором, не пропали деньжата даром, вот-вот поднесут ему гражданство на блюдечке, за поселением в «Аннексе» последуют собственный дом, подъемные, не сегодня завтра сольется Потапов с одной из тутошних коммун – и все будет fint![14]14
Замечательно (дат.).
[Закрыть]







