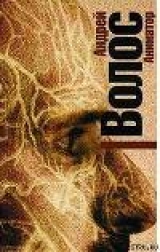
Текст книги "Аниматор"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Прикинь: двадцать два в один конец!
– Совсем оборзели, – согласился Никифоров, безнадежно маша рукой. -
Да эти еще. Тут уж самим не продохнуть – е-е-едут!..
– Кто? – не понял сразу Полын, а потом протянул без интереса: -
А, эти-то…
– Ну да, – оживился Никифоров. – Да что далеко ходить? Вон этот-то.
На черта его Григорий взял? Я говорю: Григорий. На хрена, говорю, ты его берешь?
Полын достал сигареты. Никифоров сморщился и помотал головой – он, дескать, уже накурился.
– Тут, говорю, своих навалом. Вон, говорю, Колю Кратова лучше бы.
Или еще Володька Синяков заходил, тоже спрашивал – как, мол, мы тут без него управляемся. Ты, говорю, конечно, всему голова.
– Ну, – отозвался Полын, посматривая на проходящих по переулку.
– Вот тебе и ну! С ним не поговоришь. У него разговор простой: выпил, так пойди проспись. Вот и поговорили. А при чем тут? Вот взял он его, да? А теперь…
Взглянув на часы, Никифоров на полуслове повернулся и пошел к дверям цеха.
Полын равнодушно посмотрел ему вслед, покачал головой, а потом привалился пятнистым плечом к железу будки и стал разминать сигарету.
В шестнадцать с половиной лет, учась на втором курсе ПТУ, Никифоров на спор затвердил полторы страницы из учебника. Петька Хлам подначил. Все прикалывался: прикинь, какой Никифор-то козел: училка спросит, а он мычит и топчется, а уж если ляпнет что-нибудь, так мозги сломаешь, пока к делу приспособишь. А сам в носу ковыряет – ему, мол, все по барабану. “Ты сам-то понял, что сказал? – вопил
Хлам. – Тебе на Хорошевку надо, для умственно отсталых!” Короче, достал до печенок, вот они и заложились. Никифоров выдолбил полторы полстраницы (если с картинками считать) и отбарабанил наутро без сучка и задоринки. Все аж рты пораскрывали… И что? Ну поставил
Хлам проспоренную бутылку портвейна, так ее тут же и выпили – и дело с концом. А Никифоров с теми словами на всю жизнь остался. Учил на один день, чтоб к завтрему забыть, а они въелись намертво, и ничто их не брало вот уж сколько лет: ночью разбуди, от зубов отскочат…
Никакого портвейна не захочешь. Так-то вроде привык, а все же неприятно. Как будто всюду в башке ровно… И здесь ровно, и там…
А тут вдруг на тебе: торчат. Торчат, хоть что ты с ними делай… Ну и приходилось искать им применение, и находил: бубнил, когда совсем уж нечем было занять язык.
Вот и сейчас, переодевшись и приступив к совершению череды тех мелких действий, с которых начинался рабочий день, он привычно бормотал себе под нос. Смысла не замечал – да и не было давным-давно в тех словах никакого смысла. Иногда (особенно если чем-нибудь шумел в эту минуту: поддоны выставлял или хлопал гремучими дверцами рефрижераторов) Никифоров повышал голос. Цех был еще пуст, но если б появился невольный слушатель, то смог бы кое-что расслышать.
“…первичная обработка состоит из разделки туш и обвалки отделения мышечной ткани от костей после обвалки мясо поступает на жиловку а кости на выварку жира и для получения бульона жиловка заключается в удалении из мышечной ткани кровеносных и лимфатических сосудов жировой нервной и соединительной ткани сухожилий хрящей и мелких косточек оставшихся после обвалки…”
Как ни чисто в цеху, как ни драит Машка вечером кафель пола, металл столов, пластик кожухов, а все равно к утру чем-то пованивает.
Пощелкал выключателями. Вытяжки загудели, гоня на улицу застоявшийся воздух, потянуло свежим.
“…жилованное мясо подвергается посолу посол является одним из средств консервирования колбасного фарша помимо стойкости посол придает мясу вкус клейкость и красную окраску за счет действия селитры или нитрата для ускорения посола жилованное мясо для вареных и полукопченых колбас измельчается на волчке мясорубки эта операция называется шротованием…”
Когда после армии работал на Климовском, первым делом не вытяжки включать кидался, а волчок. Как дашь по рубильнику! – и с первым воем волчка в поддон кило полтора серо-красного фарша – хлесь! Крыс там было немеряно… не успевали они, заслышав шум шагов, из волчка-то выбраться. Это здесь такая фигня – чуть не каждый месяц инспекция… да сам Григорий зверем ходит – почему грязь? почему кровь? – вылижи ему все. А на Климовском на это дело просто смотрели. Хлесь! – а следом говядину. И ничего.
“…измельченное мясо в мешалке смешивается с солью селитрой или нитритом и сахаром и выдерживается в охлаждаемых камерах, натужно, с придыханием говорил Никифоров, выставляя из двух больших рефрижераторов закрытые крышками тяжеленные эмалированные кюветы с фаршем. -…при выработке сосисок или сарделек из горяче-парного мяса его немедленно после жиловки измельчают сначала на волчке с малым диаметром отверстий решетки а потом на куттере где к мясу добавляют соль селитру или нитрит и холодную воду или лед…”
– Нитрит, значит?
Не услышал, как вошел Григорий.
– Чего? Какой нитрит? – хмуро переспросил Никифоров.
– Здорово, говорю, – ушел от ответа хозяин.
Глазами туда-сюда. По сторонам косится. Чего ищет? Вчера утром так же зыркал. Еще и суток не прошло. Все непорядки ищет… Давай, ищи.
– Здорово, коли не шутишь.
– А Зафар где?
– Где-где! – проворчал Никифоров. – Сам знаешь где. В Караганде. Он же у тебя карагандинский…
– Ты что это? – весело повысил голос Григорий. – Перебрал вчера? Не выспался? Что бурчишь?
– Да ничего. Сам его взял, а сам теперь спрашиваешь – где. Я его сторожить должен?
– Ой, Михалыч! – хозяин оскалил ровные зубы. Дескать, шуткуем. -
Тебя вместо штанги поднимать…
– Какой штанги?
– Да такой. Тяжел больно. Ничего не говорил тебе?
– Кто?
А Григорий уже дверью хлоп – и нет его.
Ишь ты – штанги.
Никифоров почувствовал вдруг тяжелое клокотание – как будто обжигающе горячий котел забурлил в груди. Штанги? Ты говоришь – штанги?! Ах, тля! Штанги, значит!..
Ладно.
Сорвал его Григорий с тормозов. Вроде и не сказал ничего – а вот надо же: сорвал.
Руки сами собой делали привычную работу: хорошо промятый фарш лоснился в никелированной емкости шприца, дозатор послушно наполнял размоченную кишку, готовый продукт в виде толстых колбасин ложился на противень для осадки… А котел в груди не остывал – напротив, пуще клокотал, обжигая душу.
Конечно, Зафарка вчера перед уходом сказал, что утром на два часа задержится. Да как сказал? – в стену сказал. Пробарабанил – так и так, мол, зуб болит, завтра на два часа позже выйду.
Собственно говоря, Никифоров с ним не разговаривает. Только если что по делу сказать. Да по делу-то говорить особенно нечего – и так все ясно. Не ракеты запускать.
А Григория не было. Григорий вчера с обеда куда-то смылся. По делам, наверное. У него дел хватает. Забот полон рот. А может, и так, от безделья. Ему что – он хозяин. Хочу – работаю, не хочу – ноги на стол…
Был бы Григорий – Зафарка бы Григорию доложился. Но не было
Григория. Вот он и отбарабанил Никифорову.
Конечно, сам Никифоров мог бы сейчас Григорию сказать: мол, так и так, хозяин, к зубному Зафарка намылился, чуть позже будет… Но ведь язык не поворачивается. Когда речь заходит о Зафарке, в нем все дыбом встает. Он имени этого спокойно слышать не может. Имя – и то какое-то собачье. Что за имя – Зафарка! Да он бы Шарика своего отродясь так не назвал. За что Шарику такое обращение? Не заслужил
Шарик…
И вообще он никому ничего не должен. Ни Зафарку слушать, ни Григорию
Зафаркины корявые речи передавать. Это ихнее дело. У него Григорий не спрашивал – брать Зафарку на работу или не брать. Ну и все. Сам взял – сам и разбирайся…
Котел в груди все бурлил и бурлил, и в конце концов Никифоров не выдержал – щелкнул рубильником шприца и вышел в подсобку. Тут висели халаты, топырился тюк белья из прачечной, валялся на боку мятый полотняный мешок с грязными фартуками и нарукавниками. Кроме того, стоял шаткий стол, пара стульев, шкафчик кое с какой посудишкой и холодильник “Саратов”.
Кряхтя, Никифоров присел, загнул руку, пошарил в темной пыльной дыре за шкафом и достал бутылку.
Налил в стакан граммов сто. Чуток добавил. Бутылку завинтил и убрал на прежнее место.
Потом открыл холодильник и окинул взглядом его морозные недра. На двух верхних полках лежали большие разномастные свертки. Это была колбаса, а колбасы Никифоров никогда, ни при каких условиях не ел – просто в рот не брал. Внизу стояла трехлитровая магазинная банка с маринованными огурцами. Оскальзываясь толстыми пальцами, извлек один. Процедил сквозь зубы содержимое стакана, посопел, неспешно угрыз половину огурца. Присел на стул и стал просветленно дожевывать, негромко чавкая и размышляя.
Башка-то как устроена? Ты спишь – а она шурупит, работаешь – варит, огурцом закусываешь – знай свое молотит. Одно и то же: так и так, достал он меня… достал! Не продохнуть уже… просто душит этот
Зафарка. Ну не самому же из цеха уходить?.. Он тут четыре года… да и возраст. Куда идти? Это кажется – везде руки нужны, а попробуй-ка сунься! Что делать?
Тут-то его и осенило.
Когда в пальцах остался сущий огрызок – на один жевок, он налил еще грамм семьдесят пять, выпил и закусил.
А потом вышел из подсобки и направился к электрическому щитку.
Ведь Никифоров ему прямо сказал: слушай, мол. Мол, так и так: ты меня достал. Нам с тобой не сработаться. Я уж четыре года здесь.
Живу в трех остановках. Тут все мое, понял? А ты кто такой? Приехал вот… зачем? Давай разойдемся подобру-поздорову. Бери расчет – да и айда. Руки всюду нужны.
Зафарка его не понял. Или вид сделал, что не понял. Они все такие.
Зубы скалит – и хоть ты что. Щурится да смеется. Меленько так похохатывает. Мол, чего ты? Зачем так говоришь? Что я нехорошо делал?.. Сам, типа, посмеивается – а глазенками-то черными так и сверлит.
Они далеко друг от друга стояли. Никифоров выключил шприц и махнул
Зафарке рукой – заглуши! Тот тоже щелкнул – волчок замолк. И
Никифоров ему все это сказал.
Ну и вот.
А он не понял.
Никифоров повторил. Так и так, мол. Ты не смейся. Я тебе дело говорю: не сработаться нам. Сваливай подобру-поздорову.
А Зафарка все посмеивается. Напряженно так посмеивается, невесело. И спрашивает: куда?
Да мне-то какое дело? – удивился Никифоров. – Куда хочешь.
А Зафарка свое: зачем так говоришь? Что не нравится? Скажи! Два человека почему договориться не могут? Э-э-э, всегда можно договориться, да? Я к тебе по-доброму, чесслово! Как к брату, чесслово!
А Никифоров: шел бы ты со своей добротой куда подальше. Видали мы таких братьев. Насмотрелись. Не доводи до греха. Вали, пока жив.
А Зафарка, рябой черт, в ответ морщится – типа, огорчается он – и языком цокает: что ты за человек, Никифоров? Ты, типа, горя не видел. Как можешь так говорить? У меня четверо детей! Почему я должен работу бросать? Я голодать должен? Дети мои голодать должны?
Ты вот стоишь тут, жирная свинья, меня прогнать хочешь? А куда ты меня прогнать хочешь? Откуда я ушел, знаешь? Как ребенка с балкона бросают, знаешь? Как старухи за гнилую корку дерутся, знаешь? Как из пушки по твоему дому стреляют, знаешь? Ничего не знаешь, а меня гонишь – и не стыдно тебе?
И вдруг он делает от своего волчка два шага к Никифорову, поднимает руку – пальцы побелевшие в щепоть сведены, – раздувает усищи и говорит слово за словом: если ты, говорит, будешь меня гнать… или, говорит, что-нибудь тут мне подстроишь… смотри, говорит, братьям скажу… они тебя, как ту свинью, разделают!
И еще показал, сволочь такая, – какую именно.
Он повернул ручку, открыл коробку щитка и стал изучать внутренности.
Проводов было до хрена. Но он точно знал, что на волчок идут вот эти.
В прошлый раз так и было. Нулевая клемма оказалась плохо затянутой.
Кто ее открутил? – черт ее знает. Вроде некому. Сама открутилась.
Открутилась – и все. Стоп машина. В щитке трещит, а мотор не включается. Тырк-тырк, а толку – хрен да маленько. Вовка Синяков тогда еще работал… открыл щиток… потыркал… Бурчал еще: мол, надо аккуратненько, а то шибанет. Триста восемьдесят – это не двести двадцать. Если тут шарахнет – так это уже с гарантией. Даже “скорая” не понадобится, сразу катафалк…
Напряженно щурясь, Никифоров смотрел на провода. Сейчас он открутит вот эту клемму. Это нулевая. Земля, что ли. Или как у них там?
В которой тока нет. И все. Закроет щиток и пойдет к своему шприцу. И займется делом. И даже помнить ни о чем таком не станет. Работа есть работа – оттягивает… А через часочек явится Зафарка. С новым зубом. Пока переоденется… пока то да се… потом тыркнет, наконец, выключатель волчка – а ничего и нету. Только в щитке что-то хрюкнуло. Он опять – тырк! И опять ничего. Еще раз – то же самое.
Тогда Зафарка выругается по-своему, на собачьем своем языке, и пойдет к щитку. Раскроет его, тупо поглядит внутрь – и ни хрена не увидит. Откуда ему, чурке, электричество понимать? А волчок-то стоит… и работа стоит, и Григорий по головке не погладит. И так, не сказавшись, на два часа опоздал. А электрика звать – это целая история: пока дозвонишься, пока приедет… Крякнет Зафарка и, поколебавшись, сунет палец куда ни попадя… Разве он понимает, какая нулевая, а какая нет? Тресь! Был Зафарка – и нет Зафарки.
Только дымочек – будто чья-то сизо-голубая душа полетела кверху… А сам Зафарка на пол – кувырк!..
Никифоров сглотнул и нерешительно протянул руку. Кажется, вот эту… вот эту клемму Синяк подкручивал.
Он коснулся желто-красного металла – и увидел розовое небо и большую синюю бабочку, такую яркую, что резало глаза.
– Бабочка! – удивленно сказал Никифоров, покорно раскрывая ладонь.
Он лежал на полу, а струйка дыма плыла в потревоженном воздухе, медленно расслаиваясь на отдельные волокна.
Глава 2
Каждый день я тащусь по забитой всклянь Ленинградке, и глупо даже пытаться вырваться из ее вязкого, медленно текущего на запад вещества.
Вчера Даша сказала, что я думаю только о себе.
Это неправда, нет.
Конечно, человеку свойственно полагать, что самое важное на свете – его собственная персона. Однако мне это убеждение досталось подержанным или просто второго сорта – во всяком случае, не из самых лучших. Разумеется, для меня тоже нет ничего более интересного, чем я сам, – просто в силу того, что себя я знаю лучше, чем кого бы то ни было другого, а чем лучше знаешь предмет, тем больше интереса он у тебя вызывает. Пожалуй, можно даже сказать, что ни к кому иному я не испытываю столь нежной и последовательной любви. И ни для кого больше не нахожу так много оправданий. Но мне по крайней мере легко согласиться с предположением, что окружающие могут смотреть на меня другими глазами.
Правда, люди вообще редко смотрят друг на друга. А моя внешность и вовсе не привлекает внимания. Рост более чем средний (возраст тоже банальный – до сорока трех не хватает нескольких месяцев). Фигура не атлетическая. Правда, и серьезных изъянов не имеет, руки-ноги на месте. Физиономия самая заурядная: узкие губы, глаза не то серые, не то зеленые, скошенный лоб с заметными залысинами… Единственное, что мне самому нравится в собственном лице, – это нос. Не курносый, не горбатый, не картошкой, а нормальный ровный нос. То есть нос, способный, казалось бы, произвести на окружающих самое благоприятное впечатление. Но и на мой нос никто не обращает никакого внимания, равно как и на цвет глаз и волос, на форму головы и тела…
Привлекать внимание – удел высоких черноволосых красавцев с горделивым поставом головы, с золотыми перстнями на безымянных пальцах, в узконосых туфлях с пряжками. А меня воспитали в убеждении, что туфли с пряжками и золотые перстни демонстрируют не исключительность их обладателя, а его вкус. Я не ношу ни перстней, ни пряжек, поэтому на меня никто не смотрит. Оглянешься подчас и подумаешь: господи, да разве я невидимка?!
Почему-то особенно остро ощущаешь это в вагонах метрополитена.
Честно сказать, последние лет десять я редко спускаюсь в его подземелье, а если все-таки оказываюсь под сводами станций и переходов, то лишний раз убеждаюсь, что меня раздражает толпа, равнодушно текущая мимо нищих старух и веселых инвалидов.
Один из выходов Юнитека приводит почти к эскалатору, и когда Клара работала там, ей подчас было удобнее ехать в метро, чем ловить такси или переть через весь город на своей “Канцоне”. Иногда она звонила, чтобы я ее встретил. Я всегда приходил первым. Я расхаживал по перрону, и время от времени меня обдавало безжизненным ветром вылетевшего из туннеля состава. Я крутил головой, тщетно высматривая любимое лицо в изливающейся из вагонов толпе. Только третий или четвертый поезд доставлял Клару. Иногда, еще не успев толком утвердиться на перроне, она уже наводила на меня объектив. Я не удивлялся. Я привык к слепящим вспышкам ее аппарата. Одно время она беспрестанно фотографировала. И все вокруг завешивала фотографиями.
А главным ее сюжетом был я. Честно говоря, мне вовсе не хотелось видеть кругом только собственную физиономию. Но что я мог поделать?
Клара садилась ко мне на колени и, ероша волосы узкой ладонью, бормотала в ухо какую-нибудь сладкую чушь. Она любила повторять, что я значительно старше и что она боится остаться в одиночестве. С первого слова меня охватывала истома. Моей решительности хватало только на то, чтобы согласно мычать, нежно касаясь губами ее прохладной щеки. “Да, – говорила она, – смотри, насколько я моложе!.. Мне не хочется об этом думать, но я боюсь, что ты уйдешь раньше…” Глаза наполнялись слезами, голос влажнел. “А я не хочу оставаться одна, – повторяла она. – Почему я должна оставаться одна?
Совсем одна в этом безумном мире? Нет уж. По крайней мере, если, не дай бог, так случится, у меня будет много-много твоих фотографий. Я смогу видеть, как ты смеешься, как улыбаешься, как зеваешь, жуешь, пьешь вино, как бреешься, спишь, удивляешься, негодуешь, говоришь о любви, как бранишь меня, как лежишь в ванне, читаешь, смотришь в глаза, снимаешь пиджак, садишься в машину… Все-все-все, каждый жест, каждое движение, каждый твой взгляд сохранятся на этих фотографиях, и каждую секунду ты будешь со мной…”
И, когда Клары не стало, оказалось, что весь дом завешен моими, а вот именно ее-то фотографий почти нет…
То есть что значит – “не стало”? Это звучит так, будто она умерла.
Ничего подобного. Она просто исчезла. Язык не поворачивается сказать
(и стыдно, и больно), но так и есть: она меня бросила. Записка, которую я нашел вечером на постельном покрывале, прояснила лишь то, что она не погибла при автокатастрофе или теракте, а просто уехала.
Как было сказано в ней, “на некоторое время”. Больше чем полгода ее нет рядом: ее не стало…
Когда мы встретились, ей было двадцать три. А через два года я не смог ее удержать, она уехала навсегда, и не надо надеяться, что вернется. И, конечно, я сам виноват, и каждый удар сердца напоминает об этом.
Впрочем, я уже смирился. Кой толк винить море за то, что оно крушит корабли, а град – что он губит посевы. Стихия не имеет души – и, следовательно, не может быть виноватой. Вот, например, один человек
(ныне его уже нет в живых) встретил девушку, женился, был счастлив.
По его словам, они представляли собой образцовую пару, распространявшую аромат безусловного счастья, – когда речь заходила о трагических событиях его молодости, господин начинал выражаться несколько вычурно. Спустя примерно год однажды утром она, искоса глядя в зеркало, сказала задумчиво, что, кажется, больше его не любит; и, натурально, ушла. С тех пор он прожил долгую и довольно суматошную жизнь, воевал, сидел в тюрьме, был еще дважды женат, но, похоже, так и не избавился от тягостного недоумения, в которое она его когда-то погрузила. Во всяком случае, когда он рассказывал свою историю, смеяться мне не хотелось…
Да, так вот, существует всего несколько ее фотографий, ни одну из которых нельзя назвать совсем удачной. Вот Клара сидит на парковой скамье. Воротник поднят. Должно быть, она хотела что-то сказать – губы приоткрыты, а выражение лица не то обиженное, не то удивленное.
На другой Клара смеется, запрокинув голову, – солнце просвечивает сквозь пряди, и кажется, что волосы облиты золотом… Только на одной карточке мы изображены вместе. Я помню ту минуту. Рим, четвертый конгресс. Ее окликнули, Клара повернула голову, а фотограф щелкнул. Профиль кажется птичьим – в абрисе много воздуха, много тайной тревоги. Я редко смотрю на этот снимок. Мне не хочется привыкать, жалко терять то грустное, то горестное стеснение сердца, которое пронзает, когда я вижу его сейчас.
Сам я тупо таращусь в объектив. Шевелюра растрепана, галстук съехал набок. На лацкане пиджака заметный прямоугольник бэджа. Надпись читаема: “Sergey A. Barmin, animater. Russia”.
Здание Анимацентра стоит на холме. Пока делаешь широкие полтора оборота по четырехполосной дороге-улитке, привычно его разглядываешь.
Когда я появился здесь впервые, оно, кажется, выглядело нарядней.
Впрочем, в ту пору я в любом случае нашел бы повод им восхититься.
Теперь на мраморе колоннад и портиков заметны темные потеки – городской воздух нечист даже здесь, на окраине.
Тупая пирамида, в которой разместились научные отделы, возвышается на плоском семиугольнике нижних ярусов здания. Возможно, вездесущая пыль и неистребимая копоть лежат и на ней, на всех ее зеркальных гранях, но с дороги не видно.
Верхушка увенчана длинным шпилем. Он один сверкающ и прям. Жидкая голубизна осеннего неба, блеклая белизна облаков – все рядом с ним выглядит нерезким, как на испорченной фотографии.
День сегодня тусклый. Робкий свет небес струится на бурую траву, проплешины голой земли, клокастый кустарник. За оврагом – чуть более яркие, в желтизну, купы деревьев.
На развилке левая дорога уходит к главному порталу. Там выстроились зеленые, с черными полосами по бортам, небольшие автобусы агентства
“Харон”. Площадь почти пуста – на ее пространстве мелкие группы людей кажутся горстками рассыпанного мусора. Зато возле второго подъезда теснится целая толпа – это запись на анимацию.
Я беру правее – к служебной стоянке. Паркуюсь, поглядывая на всклокоченного господина в темно-синем пиджаке, который зачем-то толчется у парапета. Мне не нравится выражение его лица, эта гримаса взволнованного ожидания и отчаянной надежды.
Распахиваю дверцу.
Он уже тут как тут. Облизываясь, будто собака перед побоями, спрашивает сипло:
– Простите, вы случайно не Бармин?
Его умильная улыбка вызывает во мне только раздражение.
– Нет, я не Бармин, – привычно лгу я, по неосторожности позволив взгляду его мучительно надеющихся глаз на мгновение поймать мой собственный. – Бармин, наверное, давно приехал.
– Ах, господи! – говорит он, беспомощно озираясь. – Как же так! А мне сказали…
Не глядя больше на него, я захлопываю дверцу и, насвистывая
“Макандо”, неторопливо шагаю к шестому подъезду.
Что делать? Я уже привык. Мне часто приходится говорить людям неправду. Потому что правда заключается в том, что у меня нет ни времени, ни сил, чтобы помочь всем, кто ко мне обращается. Я был бы рад, но возможности ограничены. Я вынужден отказывать людям, не только в социальном отношении ничем не выдающимся, но даже видным политикам, известным писателям, знаменитым артистам, звездам экрана и футбола. Несмотря на это количество желающих водить со мной знакомство не уменьшается. Их столько, что временами я вынужден прятаться. Столько, что это число переходит границу, до которой еще можно верить в бескорыстные побуждения. Меня домогаются, передо мной заискивают. Меня подкупают, мне продаются и грозят, на меня надеются, а когда я не оправдываю надежд, начинают люто ненавидеть… И все это совершенно бессмысленно, потому что все, что я могу сделать, я делаю и так, а чего не могу – того не смогу ни при каких обстоятельствах. У меня одна жизнь, и, даже если посвятить ее всю без остатка работе, количество осчастливленных и благодарных не сильно увеличится, а число отвергнутых и обиженных уменьшится не намного.
Клара придерживалась иного мнения. Она полагала, что аниматор не имеет права отказывать тем, кто просит его о… чуть не сказал: о помощи. Нет, не о помощи: об услуге. На эту разницу я и напирал обычно. Да, – отвечал я, посмеиваясь. – Ты права: если бы я был врачом, если бы я был реаниматором, а не аниматором, если бы речь шла о продлении человеческой жизни или действительном воскрешении людей, тогда я не спал бы ночей, а все только возжигал огни в колбах
Крафта. Но, увы, это пламя – всего лишь форма удовлетворения тщеславия: клиент желает, чтобы его колба пламенела ярче, чем соседская; аниматор же (конечно, у него есть и другие мотивы деятельности, но это один из главных) хочет доказать, что владеет своим делом лучше других… Поэтому в шесть часов я выключу установку, захлопну дверь анимабокса, покину Анимацентр, мы встретимся на обычном месте и отправимся ужинать в “Альпину”.
Так я отвечал. Точнее – отшучивался. Ну правда, как-то глупо объяснять эти вещи всерьез: кто знает – тот знает, а кто не знает – тому не объяснишь, хоть обговорись. Для аниматора нет разницы между днем и ночью, между отдыхом и работой. Даже если анимабокс заперт, в
Анимацентре остались только охранники и сам он сидит, подвыпивший, в
“Альпине” и слушает мяукающие стоны саксофона, ему ни на секунду не уйти от себя. Где бы он ни был, чем бы ни занимался, его жадное нутро хватает живые куски окружающего, моментально разжевывает, сплевывает труху, а все, что было в этой плоти питательного, до поры до времени прячет в одном из бесчисленных закоулков мозга…
Но Клара относилась к моим занятиям довольно легковесно. Она не испытывала трепета перед образом пламени, возженного аниматором, перед ней не распахивались шторы вечности, ее не поражала мысль о том, что человека уже нет, и аниматора скоро не станет, как не станет его друзей и знакомых, и просто соседей по времени, и еще пролетят года, и даже века, и даже, возможно, тысячелетия, и все пройдет, все на земле изменится – а пламя все так же будет трепетать в колбе, напоминая кому-то дальнему, что оно – отпечаток живой души…
Клара придерживалась мнения, что жизнь продлевается совсем другими средствами.
Я привычно шаркнул подошвами по ребристой железке и ступил на приступок входа.
По сравнению с белокаменными первым и вторым, возле которых вечно толчется взвинченная толпа, шестой подъезд выглядит совсем неприметно – ни мрамора, ни вывесок. Дверь самая невыдающаяся – обшарпанный алюминиевый каркас с двойными стеклами. Одно из них давным-давно расколото – трещина снизу доверху угловатой молнией. А никому и дела нет. Иллюзия всеобщей доступности.
Зато сразу за этой трещиной проходная, как в английском банке, – с автоматом не прорвешься. Две арки металлоискателей. Короткая, но отчего-то всегда такая нудная процедура проверки. Вынь все из карманов под настороженным взглядом… пройди сквозь, отчего-то испытывая какое-то пещерное волнение, – твердо знаешь, что ни бомбы у тебя, ни гранаты, а все равно как-то не по себе… Да еще не дай бог запищит! Теперь все назад. Два мордоворота в черно-синих комбинезонах за сизым пуленепробиваемым стеклом. Рожи знакомые. Один кивает. Легко так кивает, необязательно. Сам понимаешь – безопасность. Не до сантиментов. Другой погружен в чтение газеты.
Радио у них там бормочет. Пахнет кофе. И немного куревом. Красота.
Век бы так сидел.
Лезу в карман за карточкой-пропуском. Карточки нет.
Перехватываю кейс, шарю в другом.
“…В результате взрыва в автобусе на улице Домостроителей погибло четыре, ранено семь человек”, – сообщает задыхающийся от спешки голос диктора, щедро сдобренный каким-то жестяным громыханием. Как бы музыкой. Никогда не мог понять, зачем греметь, если человек говорит слова? Чтобы слушающему было труднее их разобрать? Впрочем, в данном случае все равно не услышишь ничего нового. “Эксперты отмечают, что проявления исламского терроризма становятся все более…”
– Опять автобус взорвали, – говорит мордоворот. – Совсем оборзели!
Другой машет – да, не говори, мол. Вдруг лицо его оживляется:
– Ну ты смотри, блин! Три мяча в первом тайме!
– Что ты хочешь – мясо… Сопейкина просрали, вот теперь сопли жуют…
Карточки нет.
Подперев коленкой, раскрываю кейс.
“Предотвращена попытка взрыва в Концертном зале имени Чайковского.
Террорист-смертник не успел привести в действие взрывное устройство, выполненное в виде так называемого “пояса шахида”. По мнению сотрудников ФАБО…”
Вот она!
“В селении Аслар-Хорт ликвидирована группа качарских боевиков-сепаратистов в составе трех человек. Подозреваемые замешаны в организации нескольких террористических актов. При штурме здания погиб качарский милиционер, ранено четверо военнослужащих федеральных сил, один находится в тяжелом состоянии…”
Ну, слава богу.
Сую карточку в прорезь контроллера. Одобрительно пищит ответчик.
Стальные створки расходятся. Мордовороты расплываются в улыбках:
– Добрый день, Сергей Александрович!
Ответный кивок.
Поглядывая на часы, несусь по длиннющему коридору.
У самых дверей рабочей зоны сталкиваюсь с Тельцовым.
– О-о-о-о-о!
Завкафедрой издает протяжный неодобрительный звук, похожий на гудение трансформатора.
– День добрый!
Это нужно понимать так: “Вот я вас опять и застукал!”
Носорожья комплекция не мешает ему ловко заступить мне дорогу.
– На ловца и зверь бежит, Сергей Александрович! Вы на сеансы?..
У вас ведь в половине одиннадцатого перерывчик? Перед лекцией?
– Ну да, – отвечаю я, пожав плечами. – По расписанию.
– Будьте добры, загляните ко мне минут на десять, договорились?
Понятно. Я заработал новую порцию его нудных нравоучений. И Тельцов хочет их на меня вылить. Насчет того, что не нужно опаздывать. И что искусство анимации требует высокой сосредоточенности… Честняга, трудяга, семьянин. Все знает, всех учит. Жалко, сам ничего не может.
Не дано-с. А как же? Да никак: дар администрирования искупает отсутствие иного…
– Ко мне пожалует один… э-э-э… визитер. Мне бы хотелось, чтобы вы присутствовали при разговоре. Хорошо?
Ах, вот как – визитер!
– Конечно, конечно, – киваю я.
А он еще хмурится и трясет пальцем мне вслед.
– Обязательно, Сергей Александрович! Обязательно!..
Анамнез 2. Валерий Ребров, 61 год
Одно из двух колес вихлялось и требовало замены. Несколько раз крутнул пальцем. Вздохнув, накинул куртку и повернул собачку замка.
– Ты пошел? – сказала жена, а потом вдруг воскликнула, всплеснув руками: – Валера! А бутыли-то? Забыл?
Ребров оглянулся и захлопнул отворенную было дверь.
– Тьфу ты! – сконфужено сказал он. – Задумался…
Она снова скрылась в спальне, а он привычно продернул ремень в ручки на горловинах и приторочил растопыренную гроздь трех пластиковых бутылей к тележке. Пустыми они почти ничего не весили.
– Ты сам обедай, пожалуйста, – невнятно сказала она, проходя к большому зеркалу в прихожей тем странным танцующим шагом, что проявляется, когда полная женщина оправляет на ходу не до конца еще надетое платье. Одернув подол, вынула изо рта заколки и добавила: -








