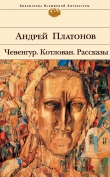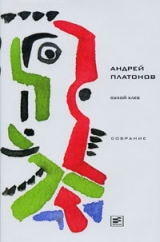
Текст книги "Том 7. Сухой хлеб"
Автор книги: Андрей Платонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Бей меня теперь ты! – сказал пан ребенку. – Бей изо всех сил! Я дам тебе конфетку!
Они находились сейчас на травяной поляне; среди травы росли молчаливые цветы – синие и желтые – яркие от света, будто у них были сияющие, видящие глаза. Пан повалился в траву и попросил Алтеркэ:
– Бей меня кулаком!
Алтеркэ ударил потихоньку.
– Сильнее! – приказал пан.
Алтеркэ дал ему в глаз, чтоб было больнее. В ответ пан тоже толкнул Алтеркэ; тогда мальчик схватил пана за волосы и ткнул ему рукою в шею. Пан ожесточился и привстав, схватил Алтеркэ, прижал его к себе и стал кататься по траве. Задыхаясь, Алтеркэ обнял пана за шею, чтоб он не бил и не мучил его. Однако пан не понял Алтеркэ; он пришел в исступление, чувствуя в своих руках жалкое, но живое и терпеливое тело мальчика, цепко прильнувшее к нему. Пан оторвал от себя Алтеркэ и бросил его в траву. Алтеркэ умолк, притворившись, мертвым, потом, тихо отдышавшись, сам бросился на пана и стал бить его кулаками по ногам. Пан сначала стоял смирно, с наслаждением сберегая свою ярость, пока в сердце его не стало душно от злобы. Тогда он вскрикнул и откинул Алтеркэ ногой от себя. Алтеркэ упал, но вновь поднялся, чтобы кинуться на своего врага. Пан подпустил его к себе и ударил кулаком в лицо. Алтеркэ припал было к земле, но встал опять и молча прыгнул на пана и попал ему в руки. Пан сжал Алтеркэ и, размахнувшись маленьким несдающимся телом, бросил его головою о ствол ближнего дерева.
Алтеркэ потерял память и остался лежать под деревом, как умерший или уснувший.
Ночью он очнулся и пошел по саду, не помня более отца и не понимая про себя, кто он такой.
Алтеркэ вышел на середину мельничного двора и принялся искать на камнях во тьме потерянную конфету. Он искал ее до рассвета, но не нашел, и, когда закричали петухи. он решил, что конфету проглотил петух.
Старая кухарка из людской кухни увела утром Алтеркэ в кухню и дала ему ломоть хлеба. Разглядев мальчика, она умыла его, вытерла ему голову мокрым полотенцем, чтобы разошлись волосы, слипшиеся от крови, и сказала:
– Ты скоро кончишься: у тебя глазки потухли.
Алтеркэ не ответил ей; он сейчас хотел только есть, и больше ему ничего не надо было. Поев, он уснул за столом, и кухарка отнесла его спать в сени, постелив ему подстилку на старом ларе.
С тех пор Алтеркэ стал жить в людской кухне на мельничном дворе. Боясь хозяев-панов, старуха кухарка прогоняла Алтеркэ, но он, не помня теперь об отце, забыв про свое прошлое и не думая ни о чем, возвращался всегда обратно. Его влекла на людскую кухню привычка есть хлеб и спать на старом ларе.
Молодые паны и разные дворовые люди – приказчики, конторщики, весовщики и другие – приучились постоянно играть с безумным Алтеркэ. Они играли с ним всегда одинаково – вынимали из кармана какую-либо бумажку и звали мальчика – «Алтеркэ, Алтеркэ, на тебе конфетку!» Алтеркэ покорно подходил и протягивал руку, и тогда его, чтоб он отвык от сладкого, били по голове или валили на землю. Алтеркэ никогда не плакал от боли, он молча вставал и отходил, пока его не звал еще кто-нибудь тем же обещанием конфетки и Алтеркэ сейчас же подходил к зовущему его человеку и протягивал руку за конфеткой. Некоторые люди из дворовых служащих жалели и даже нередко ласкали Алтеркэ, но он не понимал их жалости и к ласкам их относился равнодушно; пока его не звали, чтобы побить или пожалеть, он не подходил к людям, и уходил от них, как только его оставляли их руки.
Осенью старая кухарка стала стелить Алтеркэ на печке, чтобы он спал в тепле. Кухарка теперь кормила Алтеркэ лучше потому что молодые паны и старый пан все уехали воевать на войну, некому было попрекать за лишний кусок хлеба.
Алтеркэ спал на печке подолгу, не только ночью, но и днем, и ему снились сновидения, и он видел во сне отца и его верстак на чужой кухне, а проснувшись, он забывал свои сновидения. Лишь один раз он, проснувшись, все еще помнил лицо своего отца, потому что старуха кухарка разбудила Алтеркэ среди ночи и сна. Она стояла с лампой в руках среди кухни и будила всех, кто ночевал в помещении.
– Паны наши приехали и с ними еще паны – офицеры и солдаты: война на дворе будет! – говорила она.
Все ночующие люди встали. Алтеркэ посмотрел на них и опять задремал.
Проснулся он от молний, сверкавших за окном, и пулеметной пальбы, которую он не слышал никогда и не понимал, что она такое.
В кухне было пусто, все люди, и старая кухарка, ушли: на дворе начинался рассвет.
Алтеркэ слез с печки и вышел на большой пустой двор. От каменных ворот двора била в сад огнем какая-то трубка или что другое, а из сада, от панского дома, тоже сверкал огонь. Алтеркэ направился на середину двора и там сел на замощенную землю. Стрельба прекратилась. Алтеркэ стал копаться в земле, рассматривая травинки меж камнями. Немного погодя из панского дома снова засверкало пламя и воющие падающие пули стали высекать огонь из камней возле Алтеркэ. От дворовых же ворот огнем больше не стреляли.
Вдруг Алтеркэ услышал знакомый голос молодого пана, который звал его из мучного амбара:
– Алтеркэ, Алтеркэ, на тебе конфетку!
Алтеркэ сейчас же встал и пошел туда заранее протянув руку.
Из амбара раздался выстрел – горячий ветер прошел мимо щеки Алтеркэ, и мальчик сел на землю. Затем большой незнакомый солдат пробежал около Алтеркэ с поднятой рукой; он бросил что-то в амбар, и оттуда вылетели огненные камни и закричал человеческий голос. Солдат тут же схватил Алтеркэ с земли и унес его с собою.
За каменными столбами ворот Алтеркэ увидел другого незнакомого солдата, лежавшего у трубки на колесах. Алтеркэ посмотрел в близкое лицо того солдата, который держал его на руках. Лицо солдата под железной шапкой было в поту, и солдат улыбнулся в ответ мальчику, заметив его взор, а потом сказал ему что-то, неизвестные слова. Алтеркэ увидел на рукаве солдата красную звезду, но он не знал, какие бывают звезды вблизи, и не понял, что это такое.
Солдат лег на землю ко второй трубке на колесах и, тесно прижав Алтеркэ к себе, почти целиком укрыл его своим большим, часто дышащим телом.
Из панского дома начали часто стрелять по воротам, другой солдат тоже палил туда огнем из трубки, а солдат, укрывший Алтеркэ, не стрелял, а только смотрел вперед из-под железной шапки.
Земля загудела на дороге – и большая железная машина пронеслась в ворота, мимо Алтеркэ и лежавших солдат. Из машины палили толстым огнем, а из панского дома перестали стрелять.
Солдат поднялся на ноги и взял к себе на руки дрожащего Алтеркэ.
– Не бойся, больше стрелять не будем, операция кончена, – сказал красноармеец, но Алтеркэ не понял его.
Красноармеец погладил Алтеркэ по черным вьющимся волосам.
– Что ты худой, напуганный такой? Кто тебя мучил здесь? – сказал он. – Мы им отшибем руки вместе с головой.
Алтеркэ чутко разглядывал чужое доброе лицо. И он вспомнил отца, приснившегося ему сегодня в сновидении.
– Отведи меня к отцу в тюрьму, – попросил Алтеркэ.
Красноармеец не знал еврейского языка, но вполне согласился с мальчиком.
Бой на мельничном дворе окончился. К воротам подошли пешие красноармейцы с ружьями. В людской кухне появилась старая кухарка и начала стряпать обед для красноармейцев. Алтеркэ же взял за руку того красноармейца, который вынес его со двора, и велел ему идти искать с ним тюрьму и отца.
Красноармеец с помощью старой кухарки понял мальчика и послушался его.
Железная старуха
Шумели листья на дереве; в них пел ветер, идущий по свету.
Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их кроткие бормочущие слова.
Егор хотел узнать, что означают эти слова ветра, о чем они говорят ему, и он спрашивал, обратив лицо к ветру:
– Ты кто? Что ты мне говоришь?
Ветер умолкал, будто он сам слушал в это время мальчика, а потом снова медленно бормотал, шевеля листья и повторяя прежние слова.
– Ты кто? – спросил еще раз Егор, не видя никого.
Никто ему не ответил более; ветер ушел, и листья уснули. Егор подождал, что будет теперь, и увидел, что уже наступает вечер. Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево, и стало скучнее жить. Нужно было идти домой, ужинать, спать во тьме. Егор же спать не любил, он любил жить без перерыва, чтобы видеть все, что живет без него, и жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на небе одни, без его участия.
Он поднял жука, ползшего по траве домой на ночлег, и посмотрел в его маленькое неподвижное лицо, в черные добрые глаза, глядевшие одновременно и на Егора, и на весь свет.
– Ты кто? – спросил Егор у жука.
Жук не ответил ничего, но Егор понимал, что жук знает что-то, чего не знает сам Егор, но только он притворяется маленьким, он стал нарочно жуком и молчит, а сам не жук, а еще кто-то – неизвестно кто.
– Ты врешь! – сказал Егор и повернул жука животом вверх, чтобы увидеть, кто он такой.
Жук молчал; он со злой силой шевелил жесткими ножками, защищая жизнь от человека и не признавая его. Егора удивила настойчивая смелость жука, он полюбил его и еще более убедился, что это не жук, а кто-то более важный и умный.
– Ты врешь, что ты жук! – произнес Егор шепотом в самое лицо жука, с увлечением рассматривая его. – Ты не притворяйся, я все равно дознаюсь, кто ты такой. Лучше сразу откройся.
Жук замахнулся на Егора сразу всеми ногами и руками. Тогда Егор не стал с ним больше спорить.
– Когда я к тебе попадусь, я тоже ничего не скажу. – И он пустил жука в воздух, чтобы он улетел по своему делу.
Жук сначала полетел, а потом сел на землю и пошел пешим. И Егору стало вдруг скучно без жука. Он понял, что больше его никогда не увидит, и если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все его забудут, один только Егор будет помнить этого неизвестного жука.
Усохший лист упал с дерева. Он когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел на небо и теперь снова возвращался с неба в землю, как домой с долгой дороги. На лист вполз сырой червь, отощавший и бледный.
«Кто же это такой? – озадачился Егор перед червем. – Он без глаз и без головы, о чем он думает?» Егор взял червя и понес его к себе домой.
Уже совсем свечерело; в избах зажглись огни, все люди собрались с полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно.
Дома мать дала Егору поужинать, потом велела ложиться спать и укрыла его на ночь одеялом с головой, чтобы он не боялся спать и не услышал страшных звуков, которые раздаются иногда среди ночи из полей, лесов и оврагов. Егор притаился под одеялом и разжал левую руку, где у него все время находился червь.
– Ты кто? – спросил Егор, приблизив червя к лицу.
Червь дремал, он не шевелился в разжатой руке. От него пахло рекою, свежей землей и травой; он был небольшой, чистый и кроткий, наверно, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик.
– Отчего ты живешь? – говорил Егор. – Хорошо тебе или нет?
Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. Но Егор не хотел спать: он хотел еще жить, играть с кем-нибудь, он хотел, чтобы уже сразу было утро за окном и можно было встать с постели. Но на дворе стояла ночь – только начавшаяся, долгая, всю ее не проспишь; и если заснешь, все равно проснешься до рассвета, в то страшное время, когда все спят, – и люди и травы, а проснувшийся человек бывает один на свете – его никто не видит и не помнит.
Червь лежал в руке Егора.
– Давай я буду тобою, а ты будешь мною, – сказал червю Егор. – Я тогда узнаю, кто ты, а ты станешь как я, ты будешь человеком, тебе лучше будет.
Червь не соглашался; он, наверно, уже спал, не подумав о том, кто такой Егор.
– Мне надоело быть все Егором и Егором, – говорил мальчик один. – Я хочу быть еще чем-нибудь. Проснись, червяк. Давай с тобой разговаривать ты думай про меня, а я буду про тебя…
Мать услышала разговор сына и подошла к нему. Она еще не спала, она ходила по избе и кончала последние дела, с которыми не управилась днем.
– Ты что там не спишь, бормочешь, шутоломный какой, – сказала она и подоткнула одеяло под ноги Егора. – Спи. А то железная старуха ходит в поле в темноте, она ищет тех, кто не спит, и с собой уводит.
– Мама, а она кто? – спросил Егор.
– Она железная, ее не видно, она во тьме живет, она страхом пугает, и у людей сердце отымается…
– А она кто?
– А кто ж ее знает, сынок. Ты спи, – произнесла мать. – Ты ее не бойся, она, может, никто, бедная какая-нибудь старушка.
– А где она живет? – узнавал Егор.
– Она по оврагам ходит, траву ищет, сухие кости гложет, а когда кто помрет – она рада, она хочет одна остаться на свете, и все живет, все живет, все хочет дождаться, когда все помрут и будет одна она ходить, железная старуха. Ну, спи теперь, она по дворам не ходит, я дверь запру…
Мать отошла от сына. Егор спрятал червя под подушку, чтоб он там спал в тепле и ничего не боялся.
– Мама, а кто ты? – спросил он.
Но мать ничего не ответила ему. Она решила, что Егор еще немного поговорит-поговорит и заснет, ему уж, видно, дремлется.
«А кто я? – думал Егор и не знал. – Кто-нибудь я тоже есть. Так не бывает, чтобы я был никто!»
В избе стало тихо. Мать легла, отец уже спал давно. Егор прислушался. На дворе изредка скрипел плетень, его пошатывал клен, росший у плетня. Егор заметил, что и в самую тихую погоду клен качается помаленьку, будто он тянется куда-то, хочет скорее вырасти или стронуться с места и уйти, и плетень постоянно скрипит от него, жалуясь на беспокойство. Скучно, наверно, быть деревом, оно живет на одном месте.
– Мама, – тихо позвал Егор и высунул голову из-под одеяла наружу. Что такое клен?
Но мать уснула, никто ничего не ответил Егору. Он всмотрелся в сумрак. Окно, выходившее в просяное поле, светилось смутным светом ночи, будто за окном была глубина неподвижной воды. Егор привстал на постели, думая о том, что сейчас делается в темном поле, и кто там идет один с котомкой хлеба в дальнюю дорогу. Наверно, кто-нибудь идет по пустой дороге и не боится ничего. Кто он такой?
Издали кто-то протяжно вздохнул, затем застонал и умолк. Егор уставился в окно; прежний свет темной земли озарял стекло, но унылый, стонущий звук повторился опять – ехала ли то телега вдали, или железная старуха шла по оврагу и томилась, что люди живут и рождаются, а она никак не дождется, когда будет одна на свете. «Пойду, до всего дознаюсь, – решил Егор. – Что там ночью, кто старуха?»
Он надел штаны и ушел босой наружу. Клен шевелил ветвями, собираясь тронуться в путь, лопухи терлись о плетень, и корова жевала в сарае. Во дворе никто не спал.
Ясные звезды светились на небе; их было так много, что они казались близкими, – поэтому ночью под звездами было так же не страшно, как днем среди полевых цветов.
Егор миновал просо, прошел дремлющие, шепчущие подсолнечники и по брошенной, забытой дороге направился к оврагу.
Овраг был старый, его не размывала большая вода, и он зарос бурьяном и кустарником. Старики и старухи запасали здесь прутья и в зимнее время в избах плели из них корзины.
Когда Егор прошел заросли бурьяна и кустарника и очутился на дне оврага, то увидел, что здесь было тише и темнее, чем на верху земли, – ни травинка, ни лист не шевелились тут, – и ему стало страшно.
– Звезды, глядите на меня, – прошептал Егор, – а то я боюсь один!
Но из оврага было видно только три звезды, и те слабо мерцали на далекой, уносящейся высоте, точно они удалялись и меркли там во тьме.
Егор потрогал траву, увидел камешек, потом покачал лопух, такой же, как на своем дворе, и оправился от страха: ничего, они ведь все живут здесь и не боятся, и он будет с ними. Вскоре он заметил маленькую пещеру, вырытую в склоне оврага, чтоб выбирать оттуда глину, и залез туда. Ему захотелось теперь подремать немного, – он уморился за день жить и ходить.
– А как пойдет мимо железная старуха, то я ее покличу, – сказал Егор сам себе, сжавшись в земле от ночной прохлады, закрыл глаза.
Стало тихо совсем, и все онемело, все звезды скрыла небесная наволочь, и трава поникла, как умершая.
Унылый звук раздался в этой низине земли, как вздох сожаления всех умерших людей. Егор сейчас же открыл глаза, услышав во сне этот томительный звук. Над ним стояло темное тело человека, большое и смутное от окружающей черной ночи, готовое быть и готовое исчезнуть.
– Ты кто? – спросил Егор. – Ты старуха?
– Старуха, – сказала старуха.
– А ты железная?.. Мне нужна железная.
– Зачем я тебе? – спросила железная старуха.
– Я хочу тебя увидеть – ты кто, ты зачем? – говорил Егор.
– Помирать будешь, тогда скажу, – ответил голос старухи.
– Скажи, я помру, – согласился Егор и взял комок глины в руку, чтобы залепить глаза старухе и осилить ее.
– Иди ко мне, я тебе скажу на ухо, – и старуха в первый раз пошевелилась, и вновь раздался знакомый унылый звук шелестящего железа или хруста высохших костей. – Иди ко мне, я все тебе скажу, и ты тогда помрешь. А то ты маленький, тебе жить еще много, и мне долго ждать твоей смерти. Пожалей меня, я старая.
– А ты кто, ты скажи, – узнавал Егор. – Ты не бойся меня, я тебя не боюсь.
Старуха склонилась к Егору и стала к нему приближаться. Мальчик прижался спиною к земле в своей пещере и открытыми глазами вглядывался в склоняющуюся к нему железную старуху. Когда она согнулась и приблизилась к нему и тьмы между ними осталось мало, Егор закричал:
– Я знаю, я знаю тебя. Мне тебя не надо, я тебя убью! – Он бросил в ее лицо горсть глины и сам обмер и приникнул к земле.
Но обмерши, лежа вниз лицом, Егор еще раз услышал голос железной старухи:
– Ты меня не знаешь, ты меня не разглядел. Но всю твою жизнь я буду ждать твоей смерти и губить тебя, потому что ты меня не боишься.
«Немножко-то боюсь, потом привыкну и перестану», – подумал Егор и забылся.
Он очнулся от знакомого тепла, его несли мягкие большие руки, и он спросил:
– Ты кто? Ты не старуха?
– А ты кто? – спросила его мать.
Егор открыл глаза и вновь зажмурил их – свет солнца освещал всю деревню, клен на ихнем дворе и всю землю. Егор снова открыл глаза и увидел шею матери, у которой покоилась его голова.
– Ты зачем сбежал в овраг? – спросила мать. – Мы спозаранку тебя искали, отец в поле работать уехал весь в сомнении.
Егор рассказал, что он боролся в овраге с железной старухой, но только не успел разглядеть ее лица, потому что бросил в него глиной.
Мать задумалась, потом она опустила Егора на землю и посмотрела на него, как на чужого.
– Иди своими ногами, борец!.. Тебе это приснилось.
– Нет, я правда ее видел, – сказал Егор. – Железные старухи бывают.
– А может, и бывают, – произнесла мать и повела сына домой.
– Мама, а кто она?
– А я не знаю, я слыхала, я сама ее не видала. Люди говорят, что судьба, что ль, или горе наше ходит. Вырастешь, сам узнаешь.
– Судьба, – промолвил Егор, не зная, что она означает. – Вырасту еще чуть-чуть и поймаю железную старуху…
– Поймай, поймай ее, сынок, – сказала мать. – Я тебе сейчас картошек начищу и поджарю их.
– Давай, – согласился Егор. – Я есть захотел, старухи сильные бывают. Я уморился от нее.
Они вошли в сени избы. В сенях по полу вполз знакомый червяк, возвращаясь с постели Егора к себе домой в землю. «Ползи, немой! – осерчал Егор. – Ишь ты. Кто он такой, так и не сказал. После все равно дознаюсь. И до старухи дознаюсь – сам стану железным стариком!»
Егор остановился в сенях и задумался: «Это я нарочно буду железным, чтоб старуху напугать, пускай она околеет. А потом я железным не буду – не хочу, я опять буду мальчиком с матерью».
От хорошего сердца
[текст отсутствует]
Избушка бабушки
[текст отсутствует]
Цветок на земле
Скучно Афоне жить на свете. Отец его на войне, мать с утра до вечера работает в колхозе на молочной ферме, а дедушка Тит спит на печке. Он и днем спит, и ночью спит, а утром, когда просыпается и ест кашу с молоком, он тоже дремлет.
– Дедушка, ты не спи, ты уж выспался, – сказал нынче утром Афоня дедушке.
– Не буду, Афонюшка, я не буду, – ответил дед. – Я лежать буду и на тебя глядеть.
– А зачем ты глаза закрываешь и со мной ничего не говоришь? – спросил тогда Афоня.
– Нынче я не буду глаза смежать, – обещал дедушка Тит. – Нынче я на свет буду смотреть.
– А отчего ты спишь, а я нет?
– Мне годов много, Афонюшка… Мне без трех девяносто будет, глаза уж сами жмурятся.
– А тебе ведь темно спать, – говорил Афоня. – На дворе солнце горит, там трава растет, а ты спишь, ничего не видишь.
– Да я уж все видел, Афонюшка.
– А отчего у тебя глаза белые и слезы в них плачут?
– Они выцвели, Афонюшка, они от света выцвели и слабые стали; мне глядеть ведь долго пришлось.
Афоня осмотрел деда, какой он есть. В бороде деда были хлебные крошки, и там жил еще один комарик. Афоня встал на лавку, выбрал все крошки из бороды у деда, а комарика прогнал оттуда – пусть живет отдельно. Руки дедушки лежали на столе; они были большие, кожа на них стала как кора на дереве, и под кожей видны были толстые черные жилы, эти руки много земли испахали.
Афоня поглядел в глаза деду. Глаза его были открыты, но смотрели равнодушно, не видя ничего, и в каждом глазу светилась большая капля слезы.
– Не спи, дедушка! – попросил Афоня.
Но дедушка уже спал. Мать подсадила его, сонного, на печку, укрыла одеялом и ушла работать. Афоня же остался один в избе, и опять ему скучно стало. Он ходил вокруг деревянного стола, смотрел на мух, которые окружили на полу хлебную крошку, упавшую из бороды деда, и ели ее; потом Афоня подходил к печке, слушал, как дышит там спящий дед, смотрел через окно на пустую улицу и снова ходил вокруг стола, не зная, что делать.
– Мамы нету, папы нет, дедушка спит, – говорил Афоня сам себе.
Потом он посмотрел на часы-ходики, как они идут. Часы шли долго и скучно: тик-так, тик-так, будто они баюкали деда, а сами тоже уморились и хотели уснуть.
– Проснись, дедушка, – просил Афоня. – Ты спишь?
– А? Нету, я не сплю, – ответил дедушка Тит с печки.
– Ты думаешь? – спрашивал Афоня.
– А? Я тут, Афоня, я тут.
– Ты думаешь там?
– А? Нету, я все обдумал, Афонюшка, я смолоду думал.
– Дедушка Тит, а ты все знаешь?
– Все, Афоня, я все знаю.
– А что это, дедушка?
– А чего тебе, Афонюшка?
– А что это все?
– А я уж позабыл, Афоня.
– Проснись, дедушка, скажи мне про все!
– А? – произнес дедушка Тит.
– Дедушка Тит! Дедушка Тит! – звал Афоня. – Ты вспомни!
Но дед уже умолк, он опять уснул в покое на русской печи.
Афоня тогда сам залез на печь к дедушке и начал будить его, чтобы он проснулся. А дед спал и только шептал тихо во сне неслышные слова. Афоня уморился его будить и сам уснул возле деда, прильнув к его доброй знакомой груди, пахнувшей теплой землею.
Очнувшись от сна, Афоня увидел, что дед глядит глазами и не спит.
– Вставай, дедушка, – сказал Афоня. А дед опять закрыл глаза и уснул.
Афоня подумал, что дед тогда не спит, когда он спит; и он захотел никогда не спать, чтобы подкараулить деда, когда он совсем проснется.
И Афоня стал ожидать. Часы-ходики тикали, и колесики их поскрипывали и напевали, баюкая деда.
Афоня тогда слез с печи и остановил маятник у часов. В избе стало тихо. Слышно стало, как отбивает косу косарь за рекой и тонко звенит мошка под потолком.
Дедушка Тит очнулся и спросил:
– Ты чего, Афоня? Что-то шумно так стало? Это ты шумел?
– А ты не спи! – сказал Афоня. – Ты скажи мне про все! А то ты спишь и спишь, а потом умрешь, мама говорит – тебе недолго осталось; кто мне тогда скажет про все?
– Обожди, дай мне квасу испить, – произнес дед и слез с печи.
– Ты опомнился? – спросил Афоня.
– Опомнился, – ответил дед. – Пойдем сейчас белый свет пытать.
Старый Тит испил квасу, взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу.
Там солнце высоко стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже.
Дед повел Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и осторожно потрогал тот цветок.
– Это я сам знаю! – протяжно сказал Афоня. – А мне нужно, что самое главное бывает, ты скажи мне про все! А этот цвет растет, он не все!
Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.
– Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь – песок мертвый лежит, он каменная крошка, и более нет ничего, а камень не живет и не дышит, он мертвый прах. Понял теперь?
– Нет, дедушка Тит, – сказал Афоня. – Тут понятного нету.
– Ну, не понял, так чего же тебе надо, раз ты непонятливый? А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из мертвого праха. Стало быть, он мертвую сыпучую землю обращает в живое тело, и пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом свете, вот тебе и есть, откуда все берется. Цветок этот – самый святой труженик, он из смерти работает жизнь.
– А трава и рожь тоже главное делают? – спросил Афоня.
– Одинаково, – сказал дедушка Тит.
– А мы с тобой?
– И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем. А этот вот желтый цвет на лекарство идет, его и в аптеке берут. Ты бы нарвал их да снес. Отец-то твой ведь на войне; вдруг поранят его, или он от болезни ослабнет, вот его и полечат лекарством.
Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь делать из смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка голубые, красные, желтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и дышащие чистым духом в белый свет.
– Теперь я сам знаю про все! – сказал Афоня. – Иди домой, дедушка, ты опять, должно, спать захотел: у тебя глаза белые… Ты спи, а когда умрешь, ты не бойся, я узнаю у цветов, как они из праха живут, и ты опять будешь жить из своего праха. Ты, дедушка, не бойся!
Дед Тит ничего не сказал. Он невидимо улыбнулся своему доброму внуку и пошел опять в избу на печку.
А маленький Афоня остался один в поле. Он собрал желтых цветов, сколько мог их удержать в охапке, и отнес в аптеку, на лекарства, чтобы отец его не болел на войне от ран. В аптеке Афоне дали за цветы железный гребешок. Он принес его деду и подарил ему: пусть теперь дедушка чешет себе бороду тем гребешком.
– Спасибо тебе, Афонюшка, – сказал дед. – А цветы тебе ничего не сказывали, из чего они в мертвом песке живут?
– Не сказывали, – ответил Афоня. – Ты вон сколько живешь, и то не знаешь. А говорил, что знаешь про все. Ты не знаешь.
– Правда твоя, – согласился дед.
– Они молча живут, надо у них допытаться, – сказал Афоня. – Чего все цветы молчат, а сами знают?
Дед кротко улыбнулся, погладил головку внука и посмотрел на него, как на цветок, растущий на земле. А потом дедушка спрятал гребешок за пазуху и опять заснул.