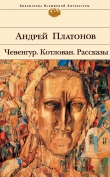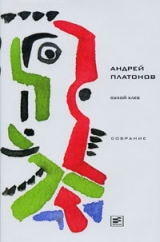
Текст книги "Том 7. Сухой хлеб"
Автор книги: Андрей Платонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Великий человек
Поля опустели, стало скучно и хорошо в деревне; земля уморилась за лето рожать, а люди уморились работать. Земля лежала худая, она засыпала на отдых до будущей весны; солнце смеркалось над деревней, и поля уходили в сумерки осени, в темноту зимы. Но люди отдыхают скоро; они выспались, наелись и ушли из деревни в дальние города: один взял топор и пилу и пошел плотничать на постройки, другой отправился с пустыми руками, но он там найдет себе занятие – может быть, землю будет копать, может быть, станет подручным слесаря: делов теперь много на свете, что-нибудь и ему достанется. Иные же, более молодые и норовистые, отправились учиться: кто хотел быть летчиком, кто моряком, кто писателем, кто артистом, кто думал о музыкальной части. И все они ушли, и каждый из них найдет, конечно, себе забаву и судьбу, которую пожелает.
И когда все эти люди ушли, то в деревне Минушкино, или в колхозе имени 8 Марта, что одно и то же, осталось в сиротстве двенадцать дворов, девятнадцать женщин, считая со старухами, и сорок человек малолетних детей, считая со стариками, которых было семь душ. Кроме них в Минушкине порешили зимовать еще два человека: бригадир конного двора, колхозный конюх Василий Ефремович Анцыполов и подросток Григорий Хромов, семнадцати лет, что жил с матерью-вдовой, сын давно умершего крестьянина, знавшего плотничье дело.
Как только все главные работящие крестьяне оставили деревню и колхоз осиротел без них до нового тепла, так Анцыполов, Василий Ефремович, обленился и вовсе перестал работать, потому что он почувствовал теперь себя самым главным, самым сознательным и единственным мужиком во всей деревне, почти что начальником, а все остальные люди в деревне были либо малолетние, либо малодушные, и он их не считал за настоящее сельское население.
Однако, хотя Василий Ефремович чувствовал себя гордо и важно, ему было скучно существовать одному, непрерывно сознавая свое положение выше всех. Даже выпить вина ему не с кем стало теперь, и он пил его в конюшне, в компании лошадей. Для этого Василий Ефремович выводил всех четырех лошадей из стойл на середину сарая и ставил их всех лицами к себе, а сам садился на охапку сена и начинал угощаться в окружении лошадей. Лошади умно и зорко смотрели на человека, размышляя о нем, а может быть, недоумевая, почему они должны его слушаться и бояться. Василий же Ефремович наливал себе стакан вина и, обращаясь к кобыле Зорьке, строго наблюдавшей за ним, произносил:
– Зорька! За твое здоровье, против поноса, каким ты болела в бабье лето, – аминь, ура!
Затем Василий Ефремович выпивал по очереди, с провозглашением заздравных речей, за мерина Сончика, за кобылу Голубку, за второго мерина Отсталого и под конец за самого себя.
– Да здравствую я! – кричал Василий Ефремович, и лошади вздрагивали от этого звука, отходили прочь от человека и ржали издали на него.
Но Василий Ефремович еще несколько раз приветствовал сам себя и наконец покрывал свои громкие речи могучим «ура» в честь самого себя и заодно всего человечества, которое он начинал немного признавать, подобрев от вина. На закуску Василий Ефремович денег не тратил и заедал вино какими-либо крошками или остатками пищи, застрявшими у него в бороде после вчерашнего ужина, или брал одно-два овсяных зерна из кормушек лошадей, и этого ему было достаточно. Сколько раз бывший председатель колхоза Самсонов приказывал ему: «Василий Ефремович, организуй ты свою бороду, что ты целую тайгу носишь на милом лице!» Но Василий Ефремович не подчинился председателю: «А что мне с пустошью на лице по миру ходить! – говорил он в ответ. – Какое такое добро заводится или родится на пустоши! Это пустой человек живет весь оскобленный – у него силы жизни нету, а я человек густой, из меня, как из чернозема, гуща наружу прет!»
Отведав вина в компании лошадей, Василий Ефремович начинал бродить из избы в избу, по всем знакомым, и говорил людям, что он пришел к ним прощаться, так как нынче же он уходит из деревни навеки во всю вселенную.
– А чего ж, ступай, твоя воля, – говорили ему крестьянские старики. – Нам ты в колхозе не нужен, может, там, во вселенной, будешь как раз!
Василий Ефремович выходил из очередной избы и шумел встречному человеку:
– Я во вселенную пошел!
– И где она? – спрашивал его встречный прохожий старик, поспешая, сколь возможно, в кооператив за постным маслом.
– Там! – говорил Василий Ефремович, указывая на весь серый свет вселенной.
Старик глядел на этот свет и думал или вспоминал что-нибудь про другие места, про всю землю, где он бывал когда-то: «Когда это было? – думал старик: – Забыл, видно; ну и пусть, что забыл, – помирать пора!»
А вкруг была тишина осени, тишина земли, отработавшейся за лето, покой мира, рождающего и кормящего всех людей. Листва на мелком лесе, растущем у околицы деревни, уже вся опала, и она теперь не застила чистого сумрачного пространства, безмолвного, но почти поющего и призывающего уйти и не вернуться.
– Вперед – во всю вселенную! – восклицал Василий Ефремович и шел домой, чтобы собраться в вечный путь.
Дома его ждала жена. Сначала она слушала Василия Ефремовича и собирала ему все пожитки во вселенную, а затем разувала, раздевала его и укладывала спать спозаранку. Василий Ефремович засыпал, давая себе небольшую отсрочку, чтобы затем, в скорости же, направиться во вселенную, но, проснувшись, он думал и говорил вслух:
– Я подлец, и это правильно и, главное, точно: я подлец! – и уходил снова к лошадям – пить вино и беседовать с ними.
Однако Василий Ефремович был, как видно, умен! И по уму своему он решил однажды не идти домой, а прямо направиться во вселенную с конного двора. Он попрощался с лошадьми, поцеловал их, сказал им печальные, окончательные речи и пошел в пространство, в тихое русское поле, где все цветы и растения уже отжили свой летний солнечный век.
– А мой век еще цел, он остался полностью: ого-го! – со счастьем освобождения размышлял Василий Ефремович, уходя в смутный, рано вечереющий свет поздней осени.
Пройдя немного времени вперед, Василий Ефремович утомился и лег для отдыха у плетня усадьбы колхозницы Паршиной; за этим плетнем уже начиналось пустое место всего мира, открытое до самого неба и увлекшее вдаль. Туда и решил направиться Василий Ефремович; теперь ему уже до всего было близко, и он подумал, что можно не спешить. «Отдохну и тронусь!» – сделал Василий Ефремович свое мысленное заключение и уснул.
Проходя вечером мимо спящего пожилого человека, который мог остыть за ночь и скончаться в одиночестве, Григорий Хромов побудил Василия Ефремовича, но тот не пожелал идти ко двору, наоборот – велел Хромову идти и заниматься полезным делом, поскольку тут его дело бесполезное. Тогда Хромов натужился и поднял Василия Ефремовича к себе на руки, как мог. Василий Ефремович на вес был нетяжелый; он лишь казался тяжелым от большой бороды и шумного характера.
– Пойдем, – сказал Хромов, – а то ты, знаешь что, простудишься и умрешь, ночи нынче длинные, и будешь потом на том свете, как старухи обещают.
– На том свете! – обрадовался Василий Ефремович незнакомому месту. – А это еще лучше – неси меня туда!
Но Григорий приволок его домой, к жене, и та уже сама велела жить Василию Ефремовичу здесь, а не во вселенной и не на том свете.
На другое утро Василий Ефремович заинтересовался Григорием Хромовым – он всем интересовался, что не относилось к его обязанностям конюха, – и отыскал молодого колхозника, когда Хромов менял обветшалые венцы в срубе колхозного колодца.
– Ты это что же! – сказал конюх. – Ты что же никуда не ушел до весны, как прочие умные?
Григорий перестал тесать дерево и подумал. Осенний чистый день стоял над мирными избами колхоза, над умолкшим, остывшим перелеском и над родным полем, отдавшим всю свою силу людям и теперь дремлющим в покое. Снега еще не было и холода не пришли; с утра до вечера небо было сумеречным, но этого кроткого света было достаточно для жизни и работы.
В кузнечном сарае горел огонь в горне, там работал старик кузнец с подручной девушкой, справляя весь железный инвентарь, изношенный за лето, к будущему севу. Невестка кузнеца, не ожидая зимнего пути, без спеха повезла на телеге навоз на колхозный огород. Мерин Отсталый поглядел в сторону Василия Ефремовича и повез телегу с навозом дальше. Счетовод Груня шла с большой счетной книгой в общественный амбар, считая в уме, что кому положено получить, что кто переполучил, а что кто недополучил, и какие фонды уже засыпаны, а какие неготовы или неправильно назначены.
– Я привык жить в колхозе и по матери боюсь соскучиться, – произнес Хромов в ответ Василию Ефремовичу и застеснялся чего-то.
Конюх осудил подростка:
– Соскучиться боишься! Так скука же либо тоска и прочее – это упадовничество! Ты против закона, значит: ага, твоя фигура нам понятна!
– Нет, дядя Вася, у меня мать хворая… Боюсь – я уйду, а она помрет одна без меня…
– Врешь! Кругом колхоз, свои люди, не дали б ей помереть!.. А так что же получается: нам великие люди нужны, а ты мелким хочешь прожить, чтоб и могилы твоей никто не нашел! Как тебя назвать – в стороне от схватки, что ль?
Хромов опять начал тесать бревнышко для колодезного венца.
– Я, дядя Вася, великим человеком не буду, я не умею…
– Врешь! – отвергнул эти слова конюх. – Ты сколько классов кончил?
– Семилетку в Шаталовке, – сказал Хромов. – Все семь классов кончил прошедшей весной.
– Ну вот! Тебе самый раз теперь учиться выше, чтоб познать все темные тайны и совершить подвиг во вселенной!.. Сколько наших ребят вон уехали, – теперь, гляди, пройдет год, полтора, два, и они будут каждый на великом деле, на глазах всего человечества – кто летчик, кто артист, кто по науке, кто по прочей высшей части!.. А ты кто будешь? Замрешь здесь, как черенок в плетне! Кто про тебя сказку расскажет, либо песню над гробом споет?
– Никто, – сказал Хромов. – Мне не надо сказки…
– Не надо? А это опять твое упадовничество в тебе говорит… Ты вспомни наших ребят: возьми хоть Гараську, хоть Мишку, да того же и Пашку можно! Сколь они старше тебя? Да чуть-чуть, а, глянь, в каких высших училищах учатся: вот-вот в величайшие люди выйдут! Да оно им вполне прилично и к лицу очутиться у власти на вышке: у них у каждого грудь раза в два поболе твоей развернулась – на таких грудях сколько медалей с заслугами можно увесить. Красиво будет!
Григорий Хромов менял обветшалые венцы в срубе колхозного колодца. Он молчал и работал топором.
Василий Ефремович соскучился быть с ним и отошел от него.
– Не хочешь, значит, использовать всех прав нашего государства и конституции, ну погибай, как мошкара в чужой ухе! – сказал на прощанье сердитый конюх.
Хромов поглядел ему вослед:
– А ты сам-то чего, дядя Вася, не подашься от нас никуда?
Василий Ефремович остановился.
– Так у меня же фантазия есть, дурак человек! Где меня нету, там я легко представляю, что там я есть! Я все могу, только не хочу пока что… Пусть все выяснится и утрамбуется на свете, тогда я и нагряну лично. А ты-то что?
– Я в колхозе состою, – ответил Хромов. – Я за себя и за мать работаю.
– Только что! – усмехнулся конюх.
– И я для всех работаю, – робко добавил Хромов.
– Старайся! – насмеялся Василий Ефремович. – Какая твоя работа! Ты от этой работы только сам с матерью кормишься… А для народа ты никто, народ тебя сроду не почувствует, был ты или нет…
Хромову стало грустно; он оглядел свою деревню: в ней жил его народ, но неужели Хромов не нужен здесь никому – живет он или умер, а тот, кто играет на музыке где-то вдалеке или управляет машинами, тот народу нужнее и дороже его?
Григорий не знал, как правильно надо думать об этом, и он начал достраивать колодезный сруб.
К вечеру он закончил работу, собрал инструмент и поспешил к матери. Мать Григория хоть и была слабой от возраста и давней болезни, но днем никогда не прикладывалась к постели для отдыха и с утра до ночи работала – то по колхозному делу, то по домашней нужде. Когда сын жалел свою мать и просил ее прилечь отдохнуть, она нипочем не хотела и отказывалась:
– Что ты, Гриша! А ночь куда девать… Кто ж нас должен хлебом кормить, и в одежу одевать, и керосином светить! На каждую душу ишь сколь добра всякого нужно, чтоб она жила, а добро-то ведь сработать надобно… Если б днем ложиться, да ночью спать, да поутру чесаться, да не редкий кто, а каждый бы так – весь народ с недостатков ослабел бы и помер…
– А ведь ты больная, мама. Тебе можно отдыхать больше…
– Я больная, да терпеливая и к жизни привычная. И что ж, что больная! Все равно ведь и обедаю, и ужинаю, и одежу на себе трачу, и мало ль чего… Чем мне в мыслях жить, когда я бы только от людей брала, а им ничего не давала?..
И сын не мог ей ничего ответить.
В нынешнюю осень Хромова-мать ходила председателем колхоза, как знающая старая крестьянка. Она было хотела отказаться от такой чести и обязанности, но общество не уважило ее просьбу.
– Ты, мать Мавра Гавриловна, хоть и хворая женщина, – сказали ей старики, – и тебе бы пора облегчение позволить, да кто ж тебя удержит, когда ты сама себе покоя не хочешь дать! Ты, гляди, на всякую честную работу с охотой идешь, откуда и мужик норовит в бок уйти. Нужен навоз – ты к навозу любезна, нужно картошку перебрать – ты самой пылью дышишь и кашляешь потом по всей ночи с мокротой. Аль мы не знаем тебя! Была ты на черном деле хороша, ступай ныне на белое, на чистое. Душа в тебе есть, голова хоть и бабья, да не дурная, колхоз наш не слишком хлопотлив да велик, а можно сказать – мал, хоть лодыря в нем есть много – порядочно. Чего тебе! Живи полной властью…
И с недавней поры Мавра Гавриловна стала жить полной заботой о всем колхозе. Раньше, когда Мавра Гавриловна не ходила еще в председателях, она только вздыхала, когда видела непорядки в общем деревенском хозяйстве, но превозмочь их не могла. Теперь она вздыхать перестала, потому что не о чем было горевать, когда власть была в ее руках и можно стало превозмочь всякий ущерб или недостаток и всякое беспутное злодейство в хозяйстве. Если даже и нельзя сразу все сделать по-доброму, то легче знать, что вина за это находится в тебе, потому что сама, значит, не умеешь совладать с другим нерадивым человеком, сама, значит, негодная, чем видеть эту вину в неподвластных лодырях и праздных гуляках; страшно только то зло, до которого руками нельзя добраться, а когда можно, то чувствуешь себя заранее хорошо, если зло даже и существует пока. Поэтому Мавра Гавриловна почувствовала теперь облегчение, и болезнь ее от улучшения настроения ослабела или забылась.
Она по-прежнему вела домашнее хозяйство в избе и стряпала обед к приходу сына с работы. Делов у нее не стало больше от должности председателя, потому что она с малолетства привыкла к заботе, а что эта забота теперь большая стала, то иная маленькая единоличная нужда либо нехватка сушила кости, бывало, злее всякой большой общественной заботы.
Нынче тоже, как вернулся Григорий с колодезной работы, так мать собрала ему сейчас же на стол, а сама не стала есть, она пообещала покушать после.
– Ефремыч-то опять гуляет? – спросила мать у сына.
– Опять, – сказал сын.
– До весны стерпим его, – решила мать. – На амбарное накат будем менять, некому тяжести поднять – Ефремыча тогда пошлю… А у тетки Аксюши-то третья дочка, Фроська, животом лежит мучается, слыхал иль нет?
– Нет, – ответил Григорий. – Я тетку Аксюшу не видел.
– Ведь это что ж творится! – удивилась мать. – Две девочки летось померли, теперь третья вслед им хворает… Уж не вода ли у нас дурная?
– Вода, – решил сын. – Не вода, а люди… Каждый своим ведром в колхозном колодце воду достает, а дальние проезжают – те конным ведром черпают, а в нашем колхозе дети оттого помирают… Зараза в воду попадает!
Мавра Гавриловна замерла вся от горя.
– Вот кручина-то! Как же нам быть-то, да разве отучишь, упросишь кого, чтоб со своим ведром не ходил по воду, – всякий теперь отрежет, что его ведро и луженое, и чиненое, и чище всех, а наше грязное…
– Не отучишь! – согласился Григорий.
Весь вечер он сидел, по своему обычаю, с книжкой возле лампы и читал, но сам думал о колодце. В учебнике по физике он рассмотрел рисунок деревянного ворота и сообразил, как его надо сделать.
На другой день с утра Григорий начал делать ворот для колодца и к вечеру установил его над срубом, а затем взял цепь и один конец ее укрепил в круглом теле ворота, а другой приклепал к дужке общественной бадьи. Верхнюю дневную поверхность сруба он накрыл деревянной крышкой на петлях.
Когда Григорий уже убирал стружки и мусор от сруба, к нему подошел Василий Ефремович и осмотрел новое деревянное устройство.
– Это ты что ж, товарищ Хромов, всурьез или нарочно тут строишь?
– Немного лучше будет, дядя Вася, – сказал Хромов. – Вода чище станет, а то у детей животы болеют и они помирают.
– Эк тебе забота: дети помирают! – выразился Василий Ефремович. – А то детей у нас дюже мало! Одни помрут, вторые на смену явятся – ишь ты, чем государство наше испугал… Нас ничем не напугаешь – девки у нас красные, парни геройские: они тебе сколько хочешь народа вперед, впрок нарожают! Да и зачем тому родиться, кто помирает скоро: пускай помирает, его чистой водой от смерти не сбережешь, а и выживет, так все одно он квелый, маломощный будет, – нам таких граждан не нужно! Нам такие нужны, чтоб навозную жижку пили – и серчали, как звери, от лишнего здоровья… А это что – вся твоя тут цивилизация – это безвозмездное дело!
Григорий нахмурился и поглядел на Василия Ефремовича.
– Тебе хорошо говорить, ты век свой прожил, а людям неохота помирать в детстве и матерям их неохота хоронить.
– Это-то хоть так, – поразмыслил конюх. – Я о пользе дела тебе говорил: кто нам нужен, а кто нет.
– А я не о пользе? – сумрачно произнес Григорий Хромов. – Я о жизни, чтоб люди не помирали зря…
– Ну хлопочи, хлопочи, – согласился Василий Ефремович, – мне какое дело, мое дело в дальней стороне… А твое дело тоже не здесь – твое дело славу заслужить и высший почет, чтоб вся вселенная картуз сняла перед тобой, – вот какое твое дело! А ты тут древесину тешешь, чтоб твоя мамаша, председательница, спасибо тебе сказала. Телок ты дурной: вырос давно, а мать все тебе начальство! Рванись вперед во всю прелесть жизни!..
Конюх зарычал от исступленного воображения всей прелести жизни и пошел куда-то за околицу, а Григорий озадачился от его речи.
Вечером Григорий долго читал книгу о дальних перелетах и об автомобилях, которые ехали по Москве, убранные живыми розами. Он склонил голову на стол и задремал. И ему представилось, что он видит автомобиль с плошками роз, поставленными на подножки, видит людей в этом автомобиле, но не может никак разглядеть и узнать их в лицо, а когда узнал, то закричал от радости и заплакал: в машине сидели как герои Гараська и Мишка из ихней деревни.
«Мама, – сказал он матери, – я видел теперь всю славу и силу, они в Кремль, в гости поехали, я тоже хочу», – но мать ответила ему тихо: «Не шуми, когда соскучатся по тебе, тогда и позовут, а сейчас – нечего».
Григорий очнулся. Лицо его было покрыто слезами и сердце дрожало от предчувствия счастья, но в избе было спокойно и неизменно, как было всегда с самого детства: горела лампа на деревянном, выскобленном столе, поскрипывал старый железный флюгер – петух на дымовой трубе над крышей, обеспокоенный полночным ненастным ветром, и мать спала на печи, она не обещала и не говорила сыну ничего. И Григорию стало вдруг стыдно своего желания счастья и славы, приснившегося ему во сне, и жалко самого себя, не заслужившего ни славы, ни чести.
Наутро пал первый снег. Григорий запряг в роспуски Сон-чика и Зорьку и поехал в лесничество, чтобы начать вывозку полагавшегося деревне Минушкино леса, заготовленного еще до полой воды. Добрые лошади теряли в теле по невнимательному уходу за ними Василия Ефремовича, но бежали скоро и покорно, давно втянувшись в крестьянский труд.
За околицей шли дети и подростки, играя меж собой в снежки. Они шли с книгами, тетрадями и пеналами, неся их в сумках через плечо или под мышкой, и поспешали в школу-семилетку, что была в деревне Шаталовке, в четырех километрах отсюда. Шаталовскую школу окончил весной и сам Григорий Хромов. Все учащиеся дети каждый день ходили из Минушкина в Шаталовку, а потом оттуда обратно домой. В теплое время это было терпимо, но зимой и в непогоду минушкинские дети студились и уставали, а родители беспокоились о них. Человек пять детей по слабости здоровья и вовсе не ходили в школу. Но что было делать? Минушкино – деревня малая и учеников в ней немного; район обещал начать строить школу, но не в самые ближние годы, а в прочее будущее время, когда население в Минушкинс размножится и подоспеет и со средствами в районе будет свободнее.
Григорий усадил всех детей на роспуски и подвез их до Шаталовки, а потом повернул в лесничество.
На обратном пути Григорий раздумался; лошади шли шагом в тишине зимнего поля, роспуски смирно поскрипывали под тяжестью двух больших хлыстов; близ дороги рос кустарник: маленькие сосны и ели стояли запушенные поверху снегом, как милые дети в стариковских шапках, дети, которые смеются, нахмурившись, и смотрят на всех сквозь улыбку полуоткрытыми глазами, полными спокойного ума.
Григорий сидел на длинных хлыстах, пружинящих от движения роспусков, и шевелил ногами по снегу, обрушенному передними полозами роспусков.
– На амбаре накат еще постоит, – решил Григорий вслух, потому что все равно никого не было в зимнем спящем поле. – Накат не рухнет. Я школу буду строить с библиотекой – сложу за зиму большую избу, пусть хотя бы четырехлетка у нас будет и библиотека – книг на тысячу. А то вырастет у нас из детей бессмысленный народ, а пожилые подуреют без чтения иль жить соскучатся: Василий Ефремович вон совсем одурел… В лесничестве нам полагается еще хлыстов шестьдесят получить, попросим – прибавят: управимся… Ишь ты, ишь ты, Зорька! Что ты делаешь, вредная какая! – и Григорий шлепнул вожжой по крупному туловищу Зорьки.
Мерин Сончик, как более работящая и тягущая лошадь, без понукания перешел на мелкую упористую рысь, но Зорьке это пе понравилось, и она, идя в пристяжке, норовила укусить Сончика в морду, чтобы он опять пошел шагом и не заставлял Зорьку бежать: она уже утомилась.
Вскоре открылось Минушкино, оно лежало в отлогой впадин земли; небольшое семейство изб прильнуло к сохраняющей их земле; из нее, из ее веществ и растений они созваны и тут живут. Посреди деревни на улице белела свежая древесина колодезного сруба и ворота, и одна женщина вращала ворот за рукоятку, подымая бадью с водой, что обрадовало Григория. «Пусть пьют чистое», – подумал он.
Дома он сказал матери о своем желании построить за зиму большую избу под школу и библиотеку и попросил у нее разрешения на работу.
Мавра Гавриловна подумала:
– Сложить избу ты сложишь, руки у тебя усердные – по рукам ты весь в отца, – сердце у тебя тоже чистое и нужда у нас в той избе первая. Наш колхоз без школы как без души живет, да и пожилому народу надо занятие дать для ума, пусть будет библиотека для чтения… Ну избу ты сложишь, а дальше что, голова ты беззаботная?
– А чего дальше? – не понял Григорий. – Дальше наука начнется и чтение.
– Наука! – сказала мать-председательница с раздражением. – А учительница нужна, а инвентарь, а прочее что! Денег-то сколько от трудодней надо вычесть: хорошо ли будет-то?
– Нет, то плохо будет, – опечалился было Григорий. – А я тогда в город плотничать уйду и буду все деньги присылать на учительницу и на керосин в школу…
Мать удивилась на своего сына и обрадовалась ему, но сказала иное:
– Да что ты, Гриша! И там люди недаром живут – хватит ли тебе самому-то прокормиться! А я-то кто же тебе? Я захвораю и помру тут без тебя – иль уж учительница в школе дороже матери тебе стала? Приедет, гляди-ко, козявка беспородная, а сын на нее в городе работай!.. Нет уж, моя тут власть – не твоя!
Но дума о будущей тесовой школе-библиотеке, построенной его руками, уже согревала сердце Григория и делала жизнь его влекущей и милой; без этой думы ему стало бы теперь так грустно зимовать в деревне, что он бы ушел отсюда или заплакал.
– Мама, я пристройку там сделаю…
– Это к чему же еще деньги-то лишние тратить?
– Там столярная мастерская будет. Я начну делать табуретки, столы и скамейки и продавать их в район. И ребят, какие станут в училище учиться, научу работать. Нас много будет работать, и денег много будет – мы карты всего мира купим, книги самые главные купим и учительнице будем жалованье платить…
– Ишь ты, ишь ты, разошелся! – заговорила мать. – Жалованье он будет платить! Уймись-ка!
Григория обидело это равнодушие и насмешка матери, и он закричал на нее:
– Сама уймись!.. Люди летать учатся, люди все книги знают, а я ничего и мне нельзя!
Он не знал, что нужно еще сказать – так горе стеснило его мысль, и он вышел вон из избы, не зная куда уйти. А мать умолкла и осталась одна.
Григорий направился за околицу. Кончался первый зимний день, серый вечер приблизился к деревне с лесной, полночной стороны, и в избах зажглись огни навстречу тьме. Григорий измерил шагами поляну у околицы и решил, что это место будет подходящим для постройки. Затем он пошел ко двору, чтобы взять лопату и расчистить снег на поляне.
В их избе мать тоже уже зажгла свет, у соседей за столом сидели дети с бабкой и ужинали, а старик кузнец, наработавшись за день, лег, наверно, спать, не зажигая огня, – в его избе было темно. Все они жили здесь, добывали хлеб из земли и не мучились, что не умеют летать, – они зато умели пахать и радовались, что другие люди живут героями, возвышая их участь.
Григорий пожалел, что закричал на мать: она ведь тоже всю жизнь не имела того, о чем он жалел, но жила без озлобления. Он поглядел в окно родной избы: мать постелила уже полотенце на край стола, где всегда обедал и ужинал Григорий, а сама сидела у другого конца стола задумавшись. О чем думают матери? Умирая, они оставляют своих детей на земле одних. Как же они должны желать того, чтобы весь свет переменился к лучшему, чтобы дети их продолжали жить, оставшись сиротами, без страха, без гонения, без измождающего горя, а так же бы, как при матери…
Через несколько дней Григорий понял, как непосилен был труд, начатый им. Одному было несподручно – и хлысты возить из леса, и пилить их, и готовить, и класть в венцы. А затем нужно еще из кряжей поделать доски, связать рамы, съездить в район за гвоздями и стеклом и о прочем позаботиться. Но Григорий знал, что помочь ему некому, и с терпением выносил свой неподъемный труд. «Переживу, – думал он, – жалеть еще буду, что скоро построил; тогда запруду начну сыпать, пруд нам нужен: рыба – хорошая пища». Особенно неподъемно было укладывать в одни руки стенные бревна; однако, помучившись, Григорий устроил приспособление из веревки и деревянного блока, и ему стало чуть-чуть легче.
Конюх Василий Ефремович исчез из колхоза, – думали, что невозвратно, но недели через две он возвратился, столь же неприкаянный, что и прежде. За это время Григорию пришлось в добавление к своей работе ухаживать также и за лошадьми, потому что их некому было поручить, – поэтому Григорий больше всех обрадовался возвращению Василия Ефремовича.
Конюх первым делом явился к Григорию на постройку.
– Новый мир, что ль, строишь опять? – заинтересовался Василий Ефремович.
– Нет, избу для школы, – сказал Григорий.
– Зря, – высказался Василий Ефремович. – В этой школе никакой карьере все равно не научишься…
Григорий промолчал; ему некогда было, он в это время хотел испытать, как он будет разделывать бревна на доски в одиночку; доски ему нужны были на подмости. Он влез на высокие козла, на которых лежало бревно, и заправил в бревно поперечную пилу: пилить надо было отвесно, вверх и вниз, но пилу заедало в древесном распиле, она играла и не шла в работу. Григорий спрыгнул на землю и пошел в овраг, а Василий Ефремович стоял в стороне и смотрел, что дальше будет. Григорий принес из оврага самородный камень пуда в два весом, затем обвязал его веревками и подвесил к нижней рукоятке пилы. Работа далее пошла правильно, но тяжело. Ведя пилу вверх, Григорий не только совершал распил, но и подымал камень, подвешенный снизу к пиле, вниз же пила шла под нажатием рук Григория и вывешивалась тяжестью камня, не позволявшего пиле играть и заедаться. Григорий работал в одной рубашке и без шапки, но ему было тепло в работе и пар шел от его рта и лица.
– Это сурьезно, – произнес Василий Ефремович в размышлении. – Он и без наших масс управляется…
Он снял с себя полушубок, бросил его на бревна и подошел под козлы, где ходила пила. Уловив момент, Василий Ефремович приостановил пилу, снял тяжкий камень с нее и свергнул его на землю.
– Ты что там? – спросил его сверху Григорий.
– Обожди! – приказал Василий Ефремович. – Дай я возьмусь с тобой.
Григорий обождал работать и промолвил:
– К чему тебе браться, дядя Василий? Я один приноровлюсь и стерплю…
– Как так к чему! – осерчал Василий Ефремович. – А я кто такой – скотина, значит, по-твоему?
– Нет, – ответил Григорий, – какая ты скотина – скотина такая не бывает… Я про школу тебе говорю – зачем тебе браться за пилу: школа тебе не нужна и весь новый мир тоже ни к чему.
– Верно, – согласился дядя Василий. – Ни к чему. А я не из-за того, я не ради школы и не из прочего: я ради тебя – ты для меня теперь вроде осьмушки всей вселенной представился, потому что от тебя мне внутри хорошо стало! Но только непонятно, пользы я не вижу…
– Держи пилу крепче! – крикнул Григорий сверху. И они вдвоем начали пилить бревно вдоль, во всю длину, дыша в два сердца в лад работе.