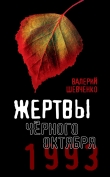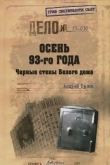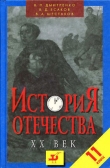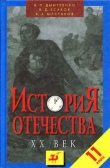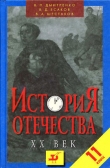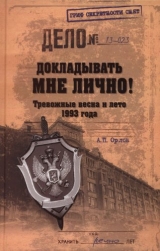
Текст книги "Докладывать мне лично! Тревожные весна и лето 1993 года"
Автор книги: Андрей Орлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
13 марта 1993 года, суббота, день
Москва. Улица Крылатские Холмы.
Квартира Орловых
Услышав звонок телефона, Оля почему-то сразу решила, что это – Андрей. Несмотря на то что домашние хлопоты почта не давали ей время отвлечься на посторонние мысли, она подспудно ждала чего-то, чувствуя легкую тревогу. Может быть, это передалось ей от мужа, который сегодня утром перед уходом на работу был необычно задумчивым и озабоченным.
Последнее время Оля все чаще видела мужа каким-то раздраженным, неуравновешенным. Чуткая к перемене его настроения, она догадывалась, что происходящие с ним перемены связаны, скорее всего, с переходом на новую работу. Она не очень разбиралась в том, чем будет теперь заниматься ее муж, но подсознательно чувствовала скрытую угрозу, которая исходила от «коридоров власти».
Все, что происходило там, наверху, Оля воспринимала как нечто непредсказуемо-опасное, способное нарушить привычный ритм жизни. Еще свежи были в памяти события августа 1991 года, когда Андрей несколько суток пропадал на работе. В центре Москвы лязгали гусеницы танков и боевых машин пехоты, обезумевшие толпы крошили вес направо и налево, в подземном туннеле на Калининском проспекте пролилась первая кровь. Тогда она впервые почувствовала серьезную тревогу за мужа, неожиданно поняв, что все чаще звучащие в толпе призывы, растиражированные телевидением и радио, имеют прямое отношение к их семье. Сотрудник органов безопасности не мог оказаться в стороне от того, что происходило тогда в стране. А прошло всего полтора года.
Теперь же все было гораздо хуже. Накал страстей сплошным потоком прорывался на экраны телевизоров, пестрил газетными полосами, митинговой истерией. А Андрей теперь был не за надежными стенами Лубянки, а где-то среди путающих своими интригами кремлевских коридоров. И хотя он ничего не рассказывал о том, что там происходило, и тем более о предстоящей работе на Старой площади, по-женски она чувствовала неумолимое приближение опасности.
Еще совсем недавно, когда они с Андреем проходили но Лубянке, он показал ей окна своего кабинета в высоком сером здании. Окна находились на втором этаже точно над гербом СССР. Тогда Оля еще подумала: «Странно, СССР уже нет, а герб еще есть». Так было со всем, что окружало тогда их жизнь, полную тревог и неожиданностей.
Оля взяла трубку.
– Алле.
– Это я, – узнала она голос мужа.
– Что-нибудь случилось?
– Нет. Вот звоню из своего нового кабинета.
– Ну и как?
– Оля, может, нам купить домой зеленую лампу?
– Что-о? – Странность вопроса заставила Олю удивиться. – Какую еще лампу?
– Обычную, со стеклянным зеленым абажуром. – Андрей немного помолчал и, чувствуя замешательство жены, извиняющимся тоном произнес: – Прости, я пошутил.
После разговора с Андреем у Оли осталось ощущение какой-то недосказанности, но она уже давно привыкла не задавать липших вопросов, зная, что муж сам расскажет о том, что его беспокоит. Если посчитает нужным.
Они жили вместе уже четырнадцатый год. Достаточно для того, чтобы не только понимать друг; фуга, но и улавливать малейшие колебания настроения. Воспитание обоих детей – дочки Нины и сына Сергея – еще больше сближали супругов, сохраняя при этом, однако, некоторые расхождения в подходах. Андрею казалось, что Оля, нервно потворствуя детским капризам и не желая проявлять необходимой строгости, перекладывает на его плечи это неблагодарное дело. Она же считала, что он слишком придирчив к детским шалостям, что зачастую бывает неправ, наказывая то одного, го другого. Отчасти Оля относила такое его поведение на счет нервного напряжения, которое Андрей испытывал на работе. Действительно, он приходил всегда поздно, иногда какой-то наэлектризованный, взвинченный, готовый вспылить но каждому, даже самому незначительному, поводу. Несмотря на то что она смутно представляла работу Андрея, который не посвящал ее в подробности своей службы, что было естественно, Оля чувствовала, как тяжело он переживает происходящее с ним, с органами безопасности, со страной.
ИНФОРМАЦИЯ: «Мы с женой постоянно обсуждали то, что происходит в стране, как ведут себя в новых условиях люди, вместе сетовали на резкое падение нравов и разгул преступности. Но я не считал возможным посвящать ее в проблемы, которыми занимался но службе. Так было, когда я работал в КГБ, а затем в Министерстве безопасности, так стало и в Администрации Президента. Помню, когда однажды Оля посетовала, что я ничего пе рассказываю ей о своей новой работе, я ответил: „Меньше знаешь – лучше спишь“. Хотя, по-моему, она догадывалась, что на Старой площади я столкнулся с очень сложными проблемами» (Из воспоминаний A.П. Орлова).
Несмотря на бытовые трудности и напряженную обстановку, на фоне того, что происходило вокруг, семья Орловых преодолевала все жизненные преграды довольно уверенною. Настоящее чувство и согласие в главном, в том, что определяет совместимость людей и устойчивость семейных уз, позволяли Андрею и Оле достаточно уверенно смотреть в будущее, что, впрочем, встречалось не так уж часто. Новые порядки и уклад жизни, крушение привычных идеалов и полная подмена моральных принципов циничным расчетом и пресловутой целесообразностью – все это рушило доселе казавшиеся устойчивыми родственные, семейные и дружеские связи. Друзья, оказавшись но разные стороны идеологических баррикад, становились врагами, мужчины и женщины, еще вчера клявшиеся в верности друг другу, не выдерживали испытания вдруг неизвестно откуда хлынувшим богатством или вцепившейся в горло нищетой. Манящие радости заграничной жизни подальше от презираемого в новом обществе «совка», открывшиеся возможности получить доступ к богатству и роскоши, подтолкнули к самым решительным поступкам тех, кто еще десяток лет назад не мог даже представить себе, что можно жить иначе. Погоня за призрачным счастьем и иллюзиями, отказ от всею, что было дорого и близко в прошлом, сломали не одну семью. Андрея и Олю особенно взволновала история, которая развивалась буквально у них на глазах с одной супружеской парой, казавшейся даже очень счастливой.
Он, назовем его Алексеем, был подчиненным Андрея. Служил в органах восемь лет, был грамотным и подающим большие надежды работником. Высокий, широкоплечий, с правильными чертами лица, доброжелательной улыбкой и шевелюрой русых волос. Работа у него получалась неплохо, всяческие задания он выполнял довольно быстро, привнося в них свое собственное понимание и видение. Как и Андрей, с которым Алексей работал в институте и Российском КГБ, а затем в управлении Штаба Министерства безопасности, Алексей пережил в конце 1991 года кошмар развала, ухода из органов многих далеко не самых худших сотрудников, мучительное вползание структур безопасности в новую для них реальность.
Поскольку Андрей был, но существу, своего рода «крестным» Алексея, так как именно он подбирал и изучал его кандидатуру для работы в органах, и почти все эти годы являлся его начальником в разных структурах, Орлов был в курсе семейной жизни своего подчиненного. Жена Алексея, назовем се Инной, была под стать мужу высокой и красивой женщиной с приятным слегка низким голосом и пышными каштановыми волосами. У них рос шустрый мальчуган, в котором родители души не чаяли. Алексей мог подолгу рассказывать о своем сыне, о том, какой он умный и способный, в какие игры они с ним играют и как поедут все вместе отдыхать на Черное море.
Когда Алексей и Инна только поженились, она работала в Ленинской библиотеке на скромной должности библиографа. Но через некоторое время, когда в стране стали как грибы расти совместные предприятия, Алексей устроил Инну, не без помощи сослуживцев, в одну очень перспективную фирму, которая занималась продвижением на изголодавшийся российский рынок американских товаров и технологий. Это в корне меняло уровень жизни их семьи, поскольку теперь Инна получала приличную зарплату в долларах, превышающую зарплату мужа в несколько раз. Алексей был горд, что жена работает в престижной компании, успешно осваивает новое для себя амплуа референта и пользуется авторитетом у босса – американского бизнесмена, возглавляющего московский филиал фирмы.
Однако с некоторых пор Орлов обратил внимание на то, что Алексей стал непривычно задумчивым, временами даже подавленным. От его доброжелательной улыбки не осталось и следа. Он замкнулся в себе, стал неразговорчивым, а иногда даже раздражительным. Пару раз Андрей сделал замечание своему подчиненному, когда тот бестактно отреагировал на указание выйти и поработать в выходной день.
– Алексей, ты же офицер! Какие могут быть разговоры! Надо выполнить задачу, даже если это будет в ущерб личному времени! Служба есть служба! – строго сказал Андрей.
Алексей тогда раздраженно ответил:
– Что дает эта служба? Она вообще кому-нибудь нужна?
Через несколько дней Орлов вызвал Алексея на откровенный
разговор, и тот поделился с начальником неожиданно возникшими у него проблемами. С некоторых пор жена стала все чаще задерживаться на работе – то переговоры, то презентация, то корпоратив. К их дому на проспекте Мира се подвозил на машине шеф, седовласый поджарый американец, всегда одетый в модный костюм темного цвета. Он галантно открывал дверь автомобиля, выпуская Инну из салона, доводил до самых дверей и напоследок целовал руку. Алексей каждый раз в смятении наблюдал за этой сценой, стоя у окна.
Все заботы о ребенке лежали на женщине, которую Инна наняла, как только появились деньги. Она укладывала мальчика в постель и дожидалась прихода Алексея с работы. После ее ухода все заботы уже лежали на молодом папаше, который, впрочем, ими совершенно не тяготился. Когда Инна иногда далеко за полночь наконец появлялась в доме, от нее пахло дорогими французскими духами и ароматными сигаретами. Нередко она была чуть навеселе, шутила, дурачилась, обнимала Алексея, пытаясь развеять его плохое настроение. Но тот мрачнел все больше и больше, чувствуя свое бессилие что-либо изменить.
Однажды Алексей сорвался и высказал жене, которая как всегда приехала навеселе, все, что накопилось у него в душе за последнее время. В конце длинной тирады он неожиданно даже для себя самого предложил Инне бросить работу, которая все больше удаляет се от мужа, ребенка и дома. На это Инна сухо, а Алексею показалось презрительно, ответила:
– И что, мы будем жить опять на твои жалкие гроши?! Ты хочешь, чтобы я стала нищенкой и просила милостыню в подземном переходе?
После того ночного разговора в жизни Алексея все полетело в тартарары. Жена продолжала задерживаться до ночи на работе, затем неожиданно уехала в командировку во Францию, даже предварительно не переговорив с Алексеем. Сын постоянно спрашивал: «Где мама?» Алексей же не знал, что ответить и как поступать дальше. Развязка наступила сама собой. В один из вечеров жена позвонила ему и как-то мимоходом сказала: «Я сегодня не приду. И вообще, Леша, я пока поживу отдельно». А через несколько дней, возвратившись с работы, Алексей застал в доме полный разгром.
Вес вещи были буквально вывалены из шкафа, исчезла одежда жены и сына, пропала также часть детских игрушек, а на столе лежала записка: «Леша, я полюбила другого человека и буду жить у него. Сын со мной. Инна».
Алексей предпринял несколько попыток встретиться с Инной или хотя бы поговорить с ней но телефону, но безуспешно. Спустя некоторое время он узнал, что Инна вместе с сыном и «боссом», тем самым американцем, который подвозил ее на своем автомобиле домой, уехала в «Штаты». Такая вот история, которую поведал Андрею его подчиненный. Забегая вперед, можно было бы рассказать о том, как трудно происходил развод Алексея с Инной, какие испытания ему еще пришлось выдержать, переживая разлуку с сыном и крах надежд на будущее. Предательство любимой женщины, распад семьи и невозможность общения с ребенком выбили почву из-под ног молодого офицера, обесценили многое из того, что было ему дорого, девальвировали нравственные ценности и моральные приоритеты. Завершающим аккордом в этой драматический истории стал рапорт Алексея об увольнении со службы и начало новой жизни в бескрайнем и циничном море набирающего силу российского бизнеса. Но это уже сюжет для другой книги.
ИНФОРМАЦИЯ: «Я тяжело переживал уход из органов Алексея, нагому, что он был способным сотрудником, быстро осваивавшим порученные ему участки работы, контактным и располагающим к себе человеком. Я „давал ему путевку“ на службу в КГБ СССР и первые годы буквально вел его но служебной лестнице. Очень жаль, что тогда из системы ушло немало перспективных сотрудников. Не выдержав ударов судьбы, обрушившихся на них, они ринулись в пучину экономического хаоса в расчете на то, что найдут свое счастье за пределами службы. Некоторые из них, действительно, сумели быстро адаптироваться к новой для себя обстановке и добиться заметного карьерного роста в бизнесе. Другие – „сгинули“ на поле ожесточенных схваток криминальных группировок и олигархических кланов, третьи – сумели встроиться в ряды „нуворишей“. Впрочем, как поется в одной хорошей песне: „Каждый выбирает для себя – женщину, религию, дорогу…“» (Из воспоминаний Л.П. Орлова).
В жизни Андрея и Ольга было вес по-другому. Они жили трудно, поднимая детей в сложные годы безвременья, тотального дефицита и неустроенности. Работа у Андрея отнимала почти все время, оставляя на общение с женой и детьми поздние вечера, да еще немногочисленные выходные, которые зачастую прерывались срочными вызовами на службу. Но таков уж удел офицера, в том числе офицера службы безопасности! Главное – чтобы рядом с ним оказалась понимающая и заботливая женщина. И чтобы, когда он приходит с работы, его встречала улыбка и добрый взгляд. И, конечно, хорошо еще – горячий и вкусный ужин. Тогда ему все нипочем – самые отвратительные неприятности и даже чрезвычайные происшествия. А их в биографии Андрея Орлова было предостаточно.
Всею несколько слов с женой по телефону, а Орлов как будто получил дополнительный прилив энергии – все опасения и тревожные ожидания уступили место уверенности и лихорадочному нетерпению, какое бывает у спортсмена на стартовой позиции перед большим и изнурительным забегом. Собственно, это сравнение больше всего подходило к состоянию Андрея, который приступил к полной крутых поворотов и неожиданных опасностей работе в Администрации Президента.
16 марта 1993 года, вторник, утро
Москва. Лубянка. Министерство безопасности.
Кабинет начальника отдела УБКК
Полковник Вахромцев листал документы и никак не мог отделаться от мысли о том, что вес написанное в них – полный бред. Он, уже довольно опытный контрразведчик, немало лет посвятивший борьбе с организованной преступностью, впервые сталкивался со столь наглыми действиями. Конечно, он осознавал, что после девяносто первого года в стране сложились исключительно благоприятные условия для проникновения криминала во власть. Примеров тому было немало. Но то, что не только бандиты и уголовники, но и настоящие фашиствующие молодчики могут создать себе прочные позиции во властных структурах, казалось ему явным преувеличением.
На стол к начальнику отдела УБКК – Управления по борьбе с контрабандой и коррупцией – ложилось немало докладных записок, агентурных сообщений, сводок оперативно-технического контроля и наружного наблюдения, которые прямо или косвенно свидетельствовали о том, что в стране поднимает голову неофашистское движение. Это были важные обстоятельства, характеризующие оперативную обстановку, но в принципе противодействие экстремистским проявлениям находилось в ведении другого подразделения Министерства безопасности – Управления по борьбе с терроризмом, или сокращенно УБТ. Вахромцева же эти вопросы интересовали лишь постольку, поскольку могли быть связаны с высшими эшелонами власти.
Хлеб у полковника Вахромцева был явно не сладкий. Получать информацию о коррупции в святая святых власти, добывать сведения о возможных преступных намерениях должностных лиц, сидящих «за стеной» или за стенами комплекса зданий на Старой площади, приобретать источники информации в окружении сильных мира сего – было делом не только трудным, но и чрезвычайно опасным. В воздухе еще висел туман ненависти к органам госбезопасности, поднявшийся в дни августовского путча. Некоторые из тех, кто требовал распустить КГБ, привлечь к ответственности всех чекистов, запретить им впредь занимать какие-либо должности в государственных структурах и тем самым искоренить «гнусные семена чекизма», обладали большим влиянием. Они сидели в громадных кабинетах, выступали в роли советников, занимали ключевые позиции в средствах массовой информации и различных негосударственных организациях, прибрали к рукам крупные государственные объекты, превратив их в мощные бастионы личной собственности, способные финансировать любую грязную пропагандистскую акцию.
Даже самые мягкие попытки органов безопасности остановить вползание преступности во власть встречали такое ожесточенное сопротивление нового чиновничьего аппарата, верхний срез которого в значительной степени состоял из нуворишей, что создавало реальную угрозу для сотрудников Министерства безопасности, которых туг же обвиняли в попытках воссоздать репрессивный механизм тридцатых годов, «задушить молодую демократию», «посеять в обществе вражду и ненависть». У многих от таких обвинений пропадала охота проявлять хоть какую-то активность в этом направлении. У многих, но не у всех. Во всяком случае, не у полковника Вахромцева, который отличался напористым характером, обладал исключительной силой воли и притупленным чувством самосохранения. Придя уже давно в органы госбезопасности и со временем став сотрудником подразделения по борьбе с организованной преступностью, он буквально, если не сказать прямолинейно, понимал стоящие перед ним задачи и никогда не пытался найти для себя способ избежать возникающих трудностей или, тем более, отыскать оправдание для бездеятельности. За это Вахромцева уважали подчиненные и недолюбливали начальники, считающие его недальновидным, а иногда и просто безрассудным человеком.
Перед глазами полковника Вахромцева лежало информационное сообщение, только что положенное ему на стол одним из сотрудников отдела, побывавшим на встрече со своим доверенным лицом и аккуратно изложившим содержание беседы в привычной для каждого оперработника форме. Написанное размашистым почерком на формализованном бланке, оно содержало информацию человека, работающего на Старой площади в одном из обслуживающих подразделений администрации и сообщавшего некоторые ставшие известными ему факты.
В основном это были данные о всякого рода нарушениях режима, различных недостатках в деятельности обеспечивающих служб. Человек этот не был вхож в высокие кабинеты, был не очень грамотным и пользовался в основном результатами своих собственных наблюдений да тем, что слышал от сослуживцев, не пренебрегая слухами и домыслами. Таких сообщений Вахромцев за свою долгую карьеру онера прочитал тысячи и, может быть, пробежав тазами эту очередную «шкурку», как именовали в чекистской среде подобные документы, он дал бы указание подшить бумагу в дело, написав дежурную резолюцию, если бы не одно место в тексте, наткнувшись на которое, он был немало озадачен.
«… Когда я спросил К., на какие деньги он хочет сделать ремонт, то К. сказал мне, что подвернулась халтура. Тоща я спросил, что за халтура. К. мне ответил, что ему дали выполнить один левый заказ – отпечатать полтысячи бланков удостоверений и тысячу спецталонов на машину. Я спросил его, кто заказчик этих бланков, а К. сказал, что это тот парень, который работал в охране в прошлом году. Потом мы поговорили еще о всяких мелочах и я снова спросил его про того парня. К. но секрету сказал мне, что этот парень, зовут его Григорий, работает в одном охранном агентстве и когда-то якобы служил в милиции. Больше ничего К. про него не знает. Он знает только то, что офис, где работает К., находится на Новой Басманной…»
Тут же к сообщению источника была приколота справка оперработника, в которой говорилось, что среди всех учреждений, предприятий и фирм, расположенных на Новой Басманной, есть только одно охранное агентство, которое называется «Страт». Его генеральным директором является Григорий Александрович Рыбин, 1966 года рождения, русский, бывший сотрудник органов внутренних дел, несколько лет назад уволенный со службы за полную профнепригодность и моральную нечистоплотность.
«Похоже, что это именно он», – подумал Вахромцев. Разумеется, ему было известно, что в Москве действовали уже сотни охранных структур, которые были буквально нашпигованы бывшими сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб. Многие офицеры МВД и КГБ, разочаровавшиеся в службе, деморализованные постоянными нападками со всех сторон, уставшие от невнятных реорганизаций и потерявшие веру в свое профессиональное будущее, в начале девяностых писали рапорты и уходили «на вольные хлеба», надеясь найти себя в новой жизни, оказаться востребованными в охватившей страну рыночной стихии. Большинство из них были вполне порядочными людьми и далеко не самыми худшими работниками. Просто они не смогли адаптироваться к новым условиям и посчитали для себя лучшим выходом из создавшейся ситуации – искать приложения сил в гражданской жизни. Частью из них руководили чисто материальные мотивы – жить на зарплату офицера было очень трудно, а соблазнов вокруг возникло множество. Повсюду создавались коммерческие структуры, всякие гам ООО и АОЗТ [35]35
ООО (сокр.) – общество с ограниченной ответственностью; АОЗТ (сокр.) —~ акционерное общество закрытого тина.
[Закрыть], вовсю действовали совместные предприятия, как грибы росли обслуживающие их структуры – охранные, юридические, аналитические.
ИНФОРМАЦИЯ: «Несмотря ни на что у меня ни разу не возникали мысли уйти со службы, бросить все и погнаться за набирающим ход поездом рыночной экономики. Может быть, я мог стать неплохим бизнесменом, но внутри у меня все сопротивлялось даже самой мысли построить карьеру за пределами государственной службы. Наверное, возникшая еще в юности потребность служить интересам государства определила дальнейший жизненный курс. Другое дело, что в те годы безвременья мне часто приходилось задумываться о том, чем я буду заниматься, если вдруг окажусь на улице. Тем более, что периодически появлялись основания для таких раздумий» (Из воспоминаний A.П Орлова).
Безусловно, среди сотен и тысяч бывших работников органов госбезопасности и внутренних дел находились и такие, которые уходили со службы не но своему желанию, а увольнялись но негативным статьям – за нарушение дисциплины, пьянство, неспособность решать профессиональные задачи. Некоторые, будучи уличенными в использовании служебного положения в личных целях, когда, например, они начинали помогать тем или иным коммерческим фирмам, выдавая служебную информацию или прикрывая противоправные действия коммерсантов, изгонялись из органов по компрометирующим основаниям. Потом некоторые из них говорили, что подверглись преследованию за свои демократические взгляды и суждения. Поди проверь, как оно было на самом деле!
К началу девяносто третьего года каждая уважающая себя фирма обзаводилась своей собственной службой безопасности или прибегала к помощи охранных предприятий, которые должны были защитить ее от накатов конкурентов, добывать коммерческие секреты, улаживать дела с криминалом и правоохранительными органами. Как грибы после дождя росли охранные структуры, которые обзаводились собственными специальными техническими средствами и автотранспортом; создавали конфиденциальные компьютерные банки данных, нашпигованные компроматом; выполняя волю заказчиков, внедряли своих людей в конкурирующие фирмы и работали по окружению охраняемых объектов.
Появление колоссального числа полу профессиональных структур, работающих на одном поле с правоохранительными органами и спецслужбами, становилось предметом особого беспокойства последних. Ведь частные охранные фирмы обладали несоизмеримо большими материальными ресурсами, чем государственные структуры. Они могли позволить себе ездить на иномарках, в то время как чекисты и милиционеры должны были довольствоваться «жигулями», «москвичами» и в лучшем случае «вошами». Они могли закупить за рубежом новейшие технические средства визуального контроля, которые были не но карману государственным органам, находившимся на голодном бюджетном пайке. Они могли совершенно свободно разъезжать по стране, выполняя заказы своих патронов, тратя на авиабилеты и роскошные гостиничные номера громадные деньги, в то время как их оставшиеся на государственной службе коллеги считали последние копейки, предпочитая передвижение в плацкартном вагоне и размещение в дешевых номерах гостиниц с облезлыми стенами, шатающимися стульями и тараканами в ванных комнатах.
В конце справки, которую рассматривал Вахромцев, имелась маленькая приписка от руки, сделанная оперработником, о том, что упомянутый в документе генеральный директор охранного агентства проходит по делу оперативной разработки, которое ведет
Управление по борьбе с терроризмом. Дело это касалось одной из самых крупных националистических, полуфашистских организаций, деятельность которой вызывала уже серьезные беспокойства у контрразведчиков.
«Вот так номер! – подумал Вахромцев. – Выходит, здесь мы имеем дело не просто с криминалом, который хочет заполучить для себя хорошие „ксивы“. Таких случаев немало. Но эта ситуация, похоже, куда опаснее. Если организованная группа неофашистов предпринимает такие энергичные шаги по вопросам обеспечения собственной безопасности и для этого готовит солидные документы прикрытия, то речь может идти о подготовке какой-то серьезной и масштабной акции или развертывании активной деятельности. Но как они могли разместить заказ на изготовление бланков удостоверений и спецталонов в администрации?»
Вахромцев поднял трубку телефона оперативной связи, набрал какой-то номер и сказал, обращаясь к своему подчиненному:
– Саша, я все посмотрел. Срочно сходи в УБТ [36]36
УБТ – Управление по борьбе с терроризмом в Министерстве безопасности.
[Закрыть], найди разработчика и познакомься с делом. Если нужно, я позвоню. Да… подготовь запрос на Рыбина и свяжись с Главным управлением охраны. Понял? Давай, быстро!
* * *
Через два часа полковник Вахромцев уже листал пухлое дело, содержащее материалы о деятельности неофашистской организации, членом которой являлся Григорий Рыбин, заказавший изготовление удостоверений и спецталонов в типографии Главною социально-производственного управления.
Как следовало из материалов дела, летом 1990 года в одном из подмосковных поселков собралась группа людей, решившая создать националистическое движение «Русская национальная акция», или сокращенно РНА. Подискутировав немного на тему, чем должны заниматься настоящие русские националисты и «патриоты» в период усиления «жидо-масонского господства» в стране, они решили объявить свое сборище учредительной конференцией и зарегистрировать организацию, как этого требует закон. Среди участников тайного сборища было немало зеленых юнцов, которых прельщала ложная романтика боевых отрядов, напоминающих гитлеровских штурмовиков, громивших магазины еврейских торговцев и марширующих по улицам городов среди оцепеневших от страха граждан. Но было на «конференции» и немало мужчин в зрелом возрасте – в основном бывших военных, спортсменов и сотрудников закрытых научно-исследовательских институтов, влачащих жалкое существование из-за развала советской оборонки. В их числе оказалось и несколько рядовых работников правоохранительных органов, которых уже не вдохновляла борьба с преступным миром и стояние в многочасовых оцеплениях во время охвативших всю страну митингов.
Организация была построена на жестких принципах субординации, почти как военная структура. Она имела свою штаб-квартиру, во главе которой стоял человек, бывший некогда комендантом студенческою общежития, а затем инструктором по рукопашному бою. В члены РНА принимались все желающие, но после длительною собеседования и тщательного отбора с учетом состояния здоровья. Хилые и больные, лица еврейской и цыганской национальности, а также выходцы с Кавказа и из Средней Азии в организацию не допускались.
В короткие сроки членам организации удалось прибрать к рукам брошенный военный городок в Подмосковье, оставшийся после расформирования одной воинской части, отремонтировать казарму и несколько хозяйственных построек, переоборудовать их для нужд организации. Целыми днями на плацу маршировали, отрабатывая строевые приемы, юнцы, облаченные в темно-коричневые куртки. Командирами отделений стали бывшие офицеры, часть из которых прошла «Афган» и некоторые «горячие точки».
После августовских событий 1991 года, когда в стране началась вакханалия разрушения, а правоохранительные органы и госбезопасность впали в состояние оцепенения, «Русская национальная акция» развернулась во всю мощь. Новые коричневорубашечники не стеснялись уже выходить на улицы, маршировать под изумленными взглядами горожан, отдавать друг другу приветствие, вскидывая руку вперед и вверх, как это делали некогда немецкие нацисты. Происходило то, чего не мог представить себе никто – в стране, победившей фашизм и понесшей от него самые ужасные потери, стали поднимать голову последователи Гитлера, причем нисколько не стесняясь и не скрывая этого. Власть, а ее фактически не было, никак не реагировала на появление коричневорубашечников, которые стали действовать все более активно и дерзко.
Очень скоро на подмосковных базах РНА стали звучать хлопки выстрелов – в рядах неонацистов появилось оружие, разумеется, сначала чисто спортивное. Но это давало возможность приступить к отработке приемов стрельбы и фактически начать формирование боевых отрядов по типу гитлеровских штурмовиков.
Вахромцев долго листал дело, прежде чем наткнулся на материалы, в которых упоминался интересующий его Григорий Рыбин. Наконец среди многочисленных справок и сводок он обратил внимание на ксерокопию милицейского протокола, в котором описывался случай, произошедший в конце девяносто второго года в одном из районов на юге Москвы. Группа боевиков, среди них был и Рыбин, ворвалась в частную квартиру, служившую притоном для наркоманов и проституток. Они учинили там полный погром, избивая «отбросы общества» и круша все подряд, что оказывалось на их пути. Они буквально «повязали» всех присутствующих, а там было не менее пятнадцати человек, «конфисковали» у них наркотики, деньги, ценности и даже оружие, но радиостанции, работавшей на милицейской волне, вызвали наряд милиции и вместе с прибывшими стражами порядка доставили задержанных в отделение. В протоколе указывалось, что все конфискованные предметы были сданы в милицию, но на полях, по-видимому, рукой оперработника была сделана надпись: «По информации доверенного лица часть вещей (деньги и холодное оружие) сдана не была».