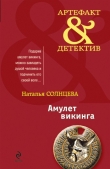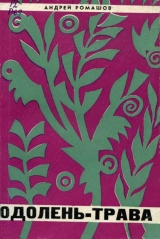
Текст книги "Одолень-трава"
Автор книги: Андрей Ромашов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Глава четвертая
Пока живет человек, живет с ним и прошлое, нет прошлому смерти – затаится оно до времени, часа своего ждет.
Вспомнил Никифор, как зиму коротали с Пискуном: печку топили жарко, ели досыта, а радости в избушке не было. Пискун спал мало, жаловался на нездоровье: в голове, дескать, туман и смятение, а на сердце кошки скребут, пока дрова, говорит, колю или лютым матом ругаюсь – еще ничего, а к ночи совсем худо. Скажи, человек лесной, спрашивал он Никифора – выпить душа просит или в грехах кается? Никифор советовал – повинись перед приставом и отца Андрея уговори, чтобы освятил он оскверненный источник серебряным крестом.
Пискун отмалчивался, вздыхал шумно, как лошадь, и пил вересовый квас.
На службу Никифор уходил рано, до солнышка. Новый лесничий был строг и неразговорчив. Свалят мужики дерево, не поймаешь – плати. Захиреют истоптанные сеянцы – прощайся со службой. Еще хуже с лесорубными артелями. Лес для артели, что ворог – круши, руби, деньги зарабатывай. Осень стояла теплая в том году, хоть и сырая. А на покров ударили холода. Неодетый и необутый лес съежился, будто усох. Никифор жалел его, бесснежье ругал. Да что толку! Людские приметы не обойдешь, не объедешь. Не зря народ говорит, что поздний гриб – к позднему снегу…
Неуютно жилось Никифору: в лесу бесснежье, дома Пискун медведем ревет, душа – говорит, квас не приемлет. Пожалел он сторожа, ушел в село до свету, восток еще не синел, купил штоф в кабаке, перед избой Сафрона Пантелеевича постоял, поглядел на новые ворота, дегтем измазанные, и в переулок свернул, а там через лог и напрямушку. К вечеру уж дома был. Пискуна обрадовал. Ожил мужик, штоф опорожнив, заулыбался. Мне, говорит, почет надо оказывать и уважение, я, дескать, особа духовного звания, в семинарии был, в философском классе две недели сидел, суть изучил, глубину постиг. Никифора назвал «языщником», но не в укоризну, а ради правды-истины. Дескать, и Фома Аквинат, муж великий, учил, что всему есть причина, един бог без причины, ибо не было начала ему.
Никифор не все понимал, но не спорил, беседу поддерживал и, уловив момент, пока Пискун груздями закусывал, спросил про «языщников» – что за люди они такие, и какое у них несогласие со всем христианским народом? Пискун объяснил: единого бога-творца они не признают, а силы господни почитают, перед живым огнем скачут и еллинским бесам славу поют. А когда спать пошли, обнял он Никифора, заплакал, запричитал по-бабьи: «Нету нам счастья, Захарыч, неужто не от матери мы родились, как все люди!»
Дня три прошло. Сели ужинать, Пискун к нему с разговором: слетай, просит, завтра с утра в село, забежи к Сафрону, узнай – жива ли Александра? Не о ней Пискун беспокоился – о сивухе. А Никифору больно! Что с Александрой? Дома мается или выгнал ее Сафрон Пантелеевич? Когда на душе неуютно, и еда не радует, и служба на ум нейдет. Шел вчера от сеянцев, стук и голоса слышал, а с тропы не свернул. О приятном думал. Будто живет Александра в избушке у него, сидит у окошка с пресницей и поет: «Прилетели две пташки, две сизые милашки, прыгали, ворковали, чисты зернышки клевали». Подпевал он Александре, радовался! Благо, что лес кругом, осудить некому… «Чисты зернышки клевали, красно лето вспоминали!»
Живет человек, службу правит и не знает, что караулит душу его радостная тоска, гонит он ее от себя, блажью дикой называет, а сердце ему говорит: врешь, против этой блажи нету никакой силы ни в лесу густом, ни в селе людном.
Наелся Пискун, положил тяжелые руки на стол, вроде задумался. Решил Никифор поговорить с ним, душевно поговорить, как с родным. Сторож большую жизнь прожил, всякое повидал, трезвый молчал, на жизнь хмурился, а пьяный в драку лез, защищал малых да сирых – они, дескать, тоже дети человеческие. Такой не посмеется над чужим горем, сам в миру изгой, а не житель.
Выслушал его Пискун, брякнул кулаком по столу и сказал: «Дерзай, простая душа! Покажи миру кукиш!»
Задуманное Никифор не откладывал, в первое же воскресенье оделся почище и к Сафрону Пантелеевичу отправился. Шел бойко, перестук дятельный слушал, о разговоре предстоящем не думал. На месте виднее будет, Сафрону думы его не господа, не указчики.
Так оно и вышло. Переступил порог, с хозяевами не успел как следует поздороваться, а Сафрон Пантелеевич с вопросом – на позор мой пришел поглядеть, али по службе? Сразу на такое не ответишь. Смешался Никифор, не знает – шапку на крюк вешать, в горницу проходить или подобру-поздорову на улицу убираться? А хозяин шумит на него: в гости пришел – не пяться, напою, накормлю и сатину на рубаху отрежу. У иного барина, дескать, одни штаны да кокарда, а у меня, говорит, слава-те богу, в губернском банке свой счет имеется, мельница на Безымянке и две лавки в селе мелкого товару.
Топчется Сафрон Пантелеевич, суетится – сам на себя не похож, на жену Авдотью кричит, чтобы несла она разные кушанья, сладкое вино и рюмки с золотым ободком. Никифор за стол сел, но сказал твердо: «По делу зашел, и не по простому. Не суетись, Сафрон Пантелеевич, выслушай! Сватать я пришел Александру, не откажи в милости, отдай дочь за меня. Живу не красно, зажиток мой известен тебе, но сыт и одет, как видишь».
Не ожидал Сафрон Пантелеевич прямоты такой или покуражиться захотел, начал по обычаю своему «кружева плести», дескать, Александру и дочерью назвать язык не поворачивается, одна ей дорога – в Чердынский монастырь, поклоны земные класть, грех свой замаливать. И в писании, дескать, сказано, что блюсти должна чистоту девичью, под мужика или барина до поры не ложиться, ждать на то божьего разрешения, то исть церковного брака, чтобы все было честь по чести, с кольцами обручальными и под фатой. В горницу Авдотья вкатилась, рюмки расставила, уперлась брюхом в столешницу и запричитала: «Срам-то какой, господи! Срам-то. Што люди скажут…»
Никифор на людей сердился редко, а тут не сдержался, закричал: «Жалости у вас нет к дочери, с кем беда не случается: на земле живем, по ухабам ходим». Успокоившись, опять стал упрашивать, чтобы отдали Александру ему в замужество, а пройдут годы, говорил он им, забудутся, дескать, обиды все, у вас дочь будет замужняя, у меня жена для сердца приятная.
Сафрон Пантелеевич помягчал вроде, налил вино в рюмки и сказал: «Иди в деревню Просверяки, там Матрену Семеновну спросишь, старуху, у ней живет Александра».
Не запомнил Никифор, выпили они тогда с Сафроном Пантелеевичем или так расстались. Домой не пошел, ночевал в конторе, утром дождался писаря и побежал в Просверяки. Рассвет догнал его на полях, верстах в четырех от Богоявленского. Торопился Никифор, радостью себя подстегивал, а видел – чернеют пролысины на озимых, вымерзает хлеб. На межах овсюг шелестит, ему морозы не страшны. Морочно стало, дорога лесом пошла, вертелась, как щука в траве, среди густых темных елок, перед горой – выпрямилась. Показались избы на угоре, запахло дымом. Просверяки – деревня небольшая, жмется к мысу, Побоишным он называется, на нем, Захарий рассказывал, остяки христианский народ стрелами поубивали. Давно это было, при Грозном еще царе. Никифор в Просверяках бывал мальчишкой, тогда деревня казалась ему нарядной. Зеленая вся, вдоль улицы тополя, как солдаты.
Зашел он в самую бедную избу. Справные хозяева, думал, чужую девушку в дом не возьмут, ведь не работница. Зашел и ошибся. Оказалось, Матрена Семеновна на другом конце деревни живет, в пятистенной избе, и двор у ней крытый. Встретила она его приветливо, чаем угостила, похвалила Захария, что умен был, побрякушками людей тешил: помню, зашла на пасху к Большаковым, Захарий в креслах сидит, хозяина уговаривает, чтобы жил как живется, чужие грехи не считал, своими не мучился, скоро-де волнение всенародное будет, которое всех определит. Пьяный купец, помню, башкой лысой трясет и смысла от жизни требует. Смыслом, говорит Захарий ему, не обзавелся, но скворец ученый имеется, матерные слова выговаривает чисто. Повеселел, вижу, купец, обрадовался, деньги сует Захарию…
Никифор слушал хозяйку, а сам думал, с чего разговор начать, как подступиться, ведь не чай пить пришел в Просверяки, не сказки слушать, а невесту сватать.
Дверь в горницу была завешана полосатой материей. Он туда не глядел, как живет Александра – не расспрашивал. Пока за столом сидит и на хорошее надеется, а что потом будет – неизвестно. Может, посмеется над ним Александра или со спасибом скажет, как у барышень водится, и пойдет он один-одинешенек по холодным полям. За раздумьями не заметил, как она из горницы вышла, возле печки встала, в двух шагах от него.
Хозяйка чаю ей налила и спросила: узнает ли гостя? Как не узнать, ответила девушка, летом виделись часто.
Никифор поздоровался с ней и стал рассказывать, как упрашивал его Сафрон Пантелеевич в Просверяки сбегать, про родную дочь справиться. Ты, говорит, быстро обернешься молодой да скорый, а мне тяжело, ногами страдаю…
Глаза у Александры сухие, сердитые – не верит она рассказу, но стоит и слушает, руки о теплую печку греет. Холщовое платье на ней. Живот небольшой, а телом уже огрузла и на лице бурые пятна. Жалко ему стало девушку, разве такая она летом была, на Безымянке. Начал он разговор о замужестве – дескать, есть человек один, который чувства имеет к ней, а все другое прочее во внимание не берет. Она ничего не сказала, повернулась круто и ушла в горницу. Покачалась и затихла полосатая занавеска.
Никифор поблагодарил хозяйку за хлеб-соль и пересел поближе к дверям. Уходить сразу неловко, и сидеть стыдно, да еще напротив горницы. Не тонко разговор он начал, обиделась девушка. Какой он жених для нее! Зажитка нет никакого, и рыло неподходящее, думал, польстится Александра на законное замужество, чтобы грех свой прикрыть, а она не польстилась.
Снял он зипун с гвоздя и поклонился хозяйке – прощайте, сказал, Матрена Семеновна, что если и не так было, не обессудьте. Зипун в избе надел, а шапку на крыльцо в руках вынес. Шел по безлюдной улице, думал, что к ночи опять мороз крепкий ударит, зазвенит небо.
За деревней его Матрена Семеновна догнала и сказала, что иные люди неразумные на огонь летят, потом кулаки кусают, смолчать-де хотела, но, молодца жалеючи, проговорюсь – нету за Александрой приданого никакого, хорошо знаю.
В лес зашли, под озябшие елки. Деньги или имущество какое, думал Никифор, в хозяйстве никогда не лишние, но Александра денег дороже.
Матрена Семеновна рядом семенила, искоса на него поглядывала. А он молчал, боялся, что не поверит ему старуха, еще дураком обзовет за сердечные чувства.
Перед крутым логом Матрена Семеновна остановилась и сказала, что запровожалась совсем, поля уж скоро, самое продувное место.
Матрена Семеновна домой в деревню ушла, не попрощавшись с ним, а он по шадровитой дороге стал в лог спускаться.
В полях ветер гулял, воронье кружилось над уметами. Не любил Никифор большие поля, холодно и тоскливо на них зимой.
Восемь верст его ветер хлестал, а перед селом стих, будто и не было.
Избу Сафрона Пантелеевича Никифор обошел, даже на окна не поглядел, торопился в лес зайти, под знакомые елки. Пока осинником брел, сумрачно было, а на Безымянку вышел – луна поднялась, одинокая береза засветилась над белым омутом. Летом под этой березой он уху варил, а они разговаривали, пустые разговоры вели и радовались, как дети малые. Раз только забеспокоилась Александра, обняла, не таясь, Юлия Васильевича и заплакала – ничегошеньки, говорит, вы, господин лесничий, не знаете про нашу крестьянскую жизнь, страшна она…
Домой тогда Никифор пришел уж под утро. Пискун с печки слез, поохал, жизнь поругал непутевую, пожаловался на нездоровье и стал расспрашивать: чем путевое хождение к Сафрону закончилось и какие словеса плел сей агарянин?
Глава пятая
Хотя и держало прошлое Никифора за обе руки, но жить приходилось настоящим. Встал он рано, затопил печку, принес два дружка воды, опалил на шестке выпотрошенных тетерок. Проснулся Юлий Васильевич, по-стариковски закашлял. Никифор развязал его и опять принялся кухарничать – отодвинул разгоревшиеся дрова, поставил к веселому огню птичий суп.
Помаленьку светало. Озябшие елки стучались в синие окна, просились в избу. Вспомнил Никифор, как сердился на них Пискун, порывался лапы отрубить елкам, дескать, страх они стуком своим наводят и мысли в голове путают, морока одна от них.
Никифор, как мог, защищал елки, уговаривал церковного сторожа, что не они виноваты, а ветер.
Пискун ругался – тебе хорошо, языщнику, по лесу шастать, а мне на печке боязно одному. И верно: после неудачного сватовства совсем забросил он сторожа, жил все время в расстройстве, уходил из дому до свету, возвращался в потемках, за день верст сорок исхаживал, все ждал, может, лес знак какой подаст ему.
Стуча валенками, подошел Юлий Васильевич, встал у печки и протянул руку к сухому теплу. Горе, видно, одного рака красит, подумал Никифор, глядя на худого измятого офицера.
– На службу не собираетесь, уважаемый? – спросил его Юлий Васильевич.
Он ответил ему, что не собирается, дома дел накопилось, в избе надо прибрать – крещение скоро, зимний праздник.
– Вот как! А циркуляр сто девяносто седьмой, требующий от чинов лесной стражи неукоснительного выполнения обязанностей?
– Какие циркуляры, Юлий Васильевич? В такое-то время. Отменила их революция.
– Значит, богоявленские мужики, уважаемый, могут безнаказанно лес воровать?
– Немного, Юлий Васильевич, в Богоявленском селе мужиков осталось. Кто с германской войны не пришел, кто воюет. А старики, побогаче которые, офицеров белых катают на сытых лошадях.
– Стихийные бедствия, уважаемый, лесного сторожа от службы не освобождают. Он должен «быть при посте», как изволил выражаться Иван Емельянович Большаков, купец второй гильдии.
Никифор понял, что шутки шутит господин лесничий, время тянет, ждет, когда потеплеет в избе, чтобы по-барски умыться. Только бы Семен не проснулся, а то беда – сам разволнуется, Юлия Васильевича обругает.
Светло стало в избе. Новый день начинался. Какой-то он будет? Раньше недобрые дни больше от погоды зависели. В сушь – пожары донимали, в ненастные дни поясница болела. А теперь беда на погоду не смотрит.
Застучал Юлий Васильевич у рукомойника, Семен проснулся, попросил пить. Никифор побежал к сыну, попоил его, стал погоду нахваливать, дескать, снег добрый на улице, зверю и птице на великую радость.
Пока он про птичью да звериную жизнь толковал, Юлий Васильевич умылся и уполз, спасибо, на нары.
– Пойду я суп досмотрю, – сказал Никифор сыну.
– А мне, тять, ротный командир ночью приснился: верхом на коне сидит. С шашкой. Как полагается! А на голове бабий платок. Вот и думай, к чему такой сон?
– Живут люди, Сеня, не по охоте своей, а куда их жизнь-судьба забросит. Иной человек в крестьянстве родился, а жизнь-судьба на пароходы его погнала, бурлачить. Тоскует такой человек, о родных местах думает, а ночью сны видит смешанные. Лошадь с трубой ему кажется, на плотах маки цветут красные.
– Верно, тять! Мне всю жизнь море синее снится. Не успею глаза закрыть, волны набегом бегут и через меня перекатываются. Беляков расчихвостим, власть трудового народа установится, я на флот махну. Любо-дорого! И ты ко мне на корабель переедешь.
У каждого свое море, думал Никифор, кому синее море снится, кому зеленое, но Семену не перечил, от корабля не отказывался. Пусть радуется парень, радость – она травам помощница.
– Контра-то спит, тять? Али планы строит, как сбежать отселя?
– Кашлял он, Сеня.
– И чего ты с беляком етим связался! Поставил бы к стенке. И точка! Вылечусь вот, первым делом твоего господина лесничего в архангелы произведу.
– Не болтай неразумное! – закричал на него Никифор. – Пустомеля! Разве можно такое говорить при живом человеке?
Ругал он Семена, а сам на нары поглядывал – не дай бог, Юлий Васильевич в разговор их ввяжется, сгоряча еще правду скажет и на раз переломит парня.
– Ты чего, тять, головой вертишь? Неужто офицера боишься?
– Суп я нюхаю, Сеня. Мясным тянет из печки. Сплыл, поди, птичий суп. А ты не горячись зря, ведь не в окопах. Люди мы здесь подневольные, жизнь-судьба нас в одно место сгрудила.
– Ладно тебе про жизнь-судьбу кисели разводить. Везде идет мировая революция… А мясным верно, тять, пахнет.
– Пахнет, Сеня! Пахнет! – обрадовался Никифор. – Побегу суп добывать.
Дрова в печке сгорели, лежали на поду за чугунком живые еще золотистые угли. Достал Никифор суп, пахнуло на него наваром густым – и растаяли, как сизый парок, недавние беспокойства. Не у каждого сейчас хлеб и суп на столе, думал он, загребая легкие угли на загнетку.
Семен торопил его, кричал с кровати:
– Тащи булиён свой! Есть я хочу, как волк!
– Не обижай волка, Сеня. И волк свою выть знает, – отшучивался Никифор.
Он помог Семену сесть, поставил на одеяло ему чашку с супом, положил ломоть хлеба. Парень ел, Никифор сидел в ногах у него, радовался и приговаривал: «Убирайся, хворь липучая, от булиёна посоленного и наваристого, от хлеба чистого и сытного за моря, за горы, за зеленые долы». Семен посмеивался над ним, но молчал – ложкой орудовал. Отдавая чашку ему, шепнул:
– Накорми беляка-то!
– Вот и хорошо, Сеня. Злость, она кровь портит, слепнет от нее человек…
Семен перебил его, сказал, что с пролетарской позиции не сойдет, только настоящие большевики над врагом не измываются, а уничтожают его, как вредный класс. Пусть хоть так, подумал Никифор, класс – не человек, ему не больно, и пошел к печке, наливать суп в железную чашку. Юлий Васильевич услышал разговор, привстал, подвинул к нарам чурбак. Никифор поставил на чурбак суп и солонку, принес два ломтя хлеба. Пока Юлий Васильевич ел, он закрыл трубу, налил для себя супу в Семенову чашку и сел с чашкой за стол. Хлебал жиденький птичий суп, думал – командует прошлое человеком, как генерал, не уйти от него и не уехать. Разве знал господин лесничий, что придется ему в этой избушке не за столом булиён кушать, а на нарах, как арестанту какому.
– Благодарю, Никифор Захарович. Поел с удовольствием… – Юлий Васильевич поставил на стол пустую чашку, повертел в руках березовую солонку и спросил: – Ваша работа, уважаемый?
Никифор ответил, что работа его, но мастерил давно, молодым, когда уху варил харюзовую на Безымянке для счастливой Александры.
– Странная была девушка.
– Была, Юлий Васильевич…
– Плюнь ты на него, тять! – закричал Семен. – Ишь разговорился.
– У нас было прошлое, юноша. Будет ли оно у вас, у ваших товарищей?
– Верно, офицер. Прошлое ваше, а будущее наше, за него и воюем. Как в песне говорится: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был никем тот станет всем».
– Как это можно стать «всем»?
– Ну и дурак же ты, ваше благородие!
Никифор доел суп, но остался сидеть за столом – опять война в избе началась, недолго и до беды. Юлий Васильевич пока лежа говорил, господ ругал и фамилию царскую, которые глупым беззаконием народ озлобили. В новую Россию он тоже не верил – пролетарии, дескать, и мировая революция – слова без плоти, чужие они русской душе. Семен за мировую революцию обиделся, контрой обозвал Юлия Васильевича – сознательные, сказал, бойцы за эти слова геройской смертью как один умирали.
– Я лесовод, юноша, и для меня нет одинаковых елей, сосен, берез. Природа не терпит однообразия. Поверьте, не терпит. Одинаковое не может сосуществовать…
– Валяй! Мы одного разговорчивого с паровоза спихнули.
– Спихнуть не трудно. А что потом? Когда всех спихнете?
– Ишь, заботится. Народную власть установим, без помещиков и капиталистов.
– Но, помилуйте! – Юлий Васильевич сбросил полушубок, сел, потоптал пол тяжелыми катанками и начал говорить. Говорил он громко, неприятные слова обеими руками от себя отталкивал – всеобщее равенство, дескать, сказка, обман необразованного народа, любой дом, дескать, на фундамент опирается.
– Ты фундамéнтом меня не пугай, господин офицер, – сказал ему Семен. – Тряхнули мы фундамéнта одного в Екатеринбурге.
– Любое государство, юноша! – Юлий Васильевич с нар встал, по старой привычке руку вперед выбросил. – Любое, юноша мой, опирается на верных ему людей, на беспрекословных исполнителей воли его. Называются они чиновниками. Хотя не в звании дело.
– Не маши руками, господин офицер. И ври умеючи. С неба чиновники не упадут.
– Упадут, молодой человек. Обязательно упадут! Но самое главное не в этом. Нет… Погибнут лучшие люди в гражданской войне.
Когда Юлий Васильевич помянул справедливость, Никифор вздохнул с облегчением, успокоился и стал собирать посуду со стола. На справедливости господин лесничий и раньше спотыкался, бывало, горячится, руками машет, а как до справедливости дойдет – начинает оглядываться, трубку искать в карманах. Ну, значит, курить захотел, отговорился. Так и сейчас случилось. Семен тоже умолк, решил, видно, что белый офицер пролетарскую правду не осилил.
Никифор унес к печке посуду, прибрался там наскоро, помыл руки и сказал Семену, что пора рану перевязывать.
– Потерпи уж, Сеня!
– Делай. Знахарь ведь ты у меня. Пособи только на правый бок повернуться.
Снял Никифор повязку с бедра, наклонился над раной и негромко выругался.
– Ты чего, тять, ругаешься?
– Опоздали мы с перевязкой, Сеня. Присохла тряпица, отдирать придется.
– Выдюжу, не бойсь.
Не застонал Семен, выдюжил. Новую тряпицу Никифор долго в травяном настое мочил, чтобы скоро не сохла.
– Опять колдуешь! – рассердился Семен. – Делай разом, как в Красной Армии.
– А ты о другом думай. Будто капитаном стал и надо тебе пароходом управлять в море-океане. Никаких вешек нет, одно лысое море.
– Нога, тять, огнем горит!
– На боль, значит, жалуется. Сейчас мы ей помощь дадим.
При дневном свете рана не такой уж страшной казалась. По краям розоветь начала. Скоро сушить придется, пеплом березовым посыпать. Закончив перевязку, Никифор вытер рукавом вспотевшее лицо и сел к столу отдыхать. Глядел на притихшего парня, думал – не дай бог никому близкого человека лечить, себе бы боль взял, да не дается в руки…
– Что же было потом, Никифор Захарович?
– Свадьба была, Юлий Васильевич. Сначала Александра и слушать не захотела, ни с чем ушел я из Просверяков. Месяца через три с Сафроном в селе сошлись, по случайному делу. Скосил он рыло, спрашивает – разондравилась, Захарыч, невеста? Говорю, что жених скорее неподходящий. Сафрон в ругань – ноги, руки, кричит, переломаю, все волосы выдеру, мать такую ее…
– Ты про Сафрона, тять? Сволочь он, зверь рыжий.
– Спать тебе надо, Сеня. Силу копить. У нас свой разговор. Терлись мы в молодости друг подле друга, сейчас синяки считаем.
На этом разговор и кончился. Юлий Васильевич глаза закрыл, будто спать собрался.
Никифор тихонько оделся и ушел дрова колоть.
В ограде сумрачно было, пришлось ворота раскрывать, приглашать день под крышу. Работал он без зипуна, голоруком. Топор не вяз, поленья разлетались со звоном – Никольские морозы из чурок сок выжали. Может, и к лучшему, что не успел он Юлию Васильевичу про Александру все рассказать. Как ни старайся: все едино – или Александру неправдой обидишь, или себя оговоришь. Прошлая жизнь, как вода в пригоршне: зачерпнешь – ладони полные, ко рту поднес – пить нечего…