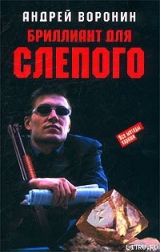
Текст книги "Бриллиант для Слепого"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА 8
Федор Филиппович Потапчук появился у Глеба в двенадцать минут одиннадцатого. Уже и кофе остыл, и Глеб устал ждать. По лицу Потапчука, хотя тот всячески пытался это скрыть, Глеб понял, генералу сегодня досталось. Потапчук выглядел измученным и невероятно уставшим, даже руки подрагивали.
– Чай? Кофе? – спросил Глеб. Затем махнул рукой. – Вы с машиной, Федор Филиппович?
– Да, – сказал Потапчук, тяжело опускаясь в кресло и ставя портфель.
– Вам надо выпить, вид у вас ни к черту.
– Сам знаю, – сказал генерал, – я же тебе говорил сегодня днем, старый я уже для этой работы. С раннего утра на ногах, представляешь, даже не пообедал! -
– Беречь себя надо, – произнес Глеб.
Он открыл холодильник и вынул блюдо с бутербродами, поставил его перед генералом, затем рядом с блюдом поставил две рюмки и бутылку финской водки.
– Чтобы вы до дома доехали, Федор Филиппович, а затем уснули, думаю вам надо выпить и закусить.
– Да, – сказал Потапчук и принялся тереть воспаленные глаза. – Спасибо тебе, Глеб, за помощь.
– Что вы имеете в виду, генерал?
– За Князева спасибо.
– Но по вашему лицу вижу...
– Что ты видишь по моему лицу? – генерал взял бутерброд и начал жевать.
– Бриллианта у Князева нет.
– Нет. А ты откуда знаешь?
– Догадываюсь. Не вижу радости на вашем лице. Значит, Князева взяли, а бриллианта нет.
– У тебя есть какие-нибудь предположения? – судорожно глотая холодный кусочек мяса и пытливо взглянув на Глеба, произнес генерал.
– Собственно, никаких. Сумасшедший он. Поведение сумасшедшего логически просчитать невозможно.
– Это понятно.
– Я вам, по-моему, об этом говорил.
– С сумасшедшими, сам понимаешь, работать чрезвычайно сложно.
– Если он сумасшедший, – Глеб наполнил рюмки водкой, – то тогда с ним должны работать врачи, а не ваши сотрудники, Федор Филиппович.
– Это еще почему?
– Да потому, что он больной и врачи в болезнях лучше разбираются, чем майоры, полковники и даже генералы.
– Эка, загнул! – генерал поднял рюмку, Глеб поднял свою, – А коньячком почему не угостил?
– Лучше водка, – сказал Сиверов, чокаясь с Потапчуком. Они выпили. Генерал закусил.
– Чайку крепкого можно?
– Можно, Федор Филиппович, – сказал Глеб и принялся заваривать чай.
Потапчук сидел молча, погруженный в свои мысли. Глеб с разговорами к нему не лез, понимая, что если генерал захочет что-то сказать, то скажет сам. И Потапчук, в конце концов, не выдержал:
– Меня вчера директор вызывал.
Глеб повернул голову, ожидая продолжения. Но генерал медлил, словно размышлял, стоит ли жаловаться или, может быть, обиду спрятать в себе. Затем снова заговорил.
– Устроил мне нагоняй. Причем разговаривал со мной так, словно я первый год замужем и не понимаю, что к чему в этой жизни.
– Давайте еще по рюмке? – не задавая вопросов, предложил Сиверов. Наполнил рюмки, взял сигарету, закурил.
– Знаешь, Глеб, я устал, причем устал, как пес. Я уже едва дышу, а все еще продолжаю бежать за дичью. А годы, они ведь свое берут. Усталость смертельная, только силой воли и заставляю себя бежать. Но жажды догнать уже нет. И это печально. Это говорит о том, что пора мне на покой. Устал я, измотан, издерган, в общем, свое уже два раза отбегал.
– Директор предложил вам уйти на пенсию?
– Нет, – сказал генерал, – не предложил, и это меня удивляет. Но «нагрузил» по полной программе: и здесь упущение, и здесь недоработка, и это не успел, и это не вовремя... С него, я понимаю, тоже требуют, он тоже человек не свободный. А еще бриллиант, черт бы его побрал... Бизнесмены начали в коалиции сбиваться, на премьер-министра давят, на президента умудрились выйти. Жалуются на нас, что мы их не охраняем. А у них охраны больше, чем у меня сотрудников.
– И охрана хорошая, – вставил Глеб.
– Хорошая... Да только убивают их одного за другим, каждый месяц кого-нибудь хоронят. Не в Москве, так в Питере, не в Питере, так в Красноярске или Хабаровске, Владивостоке. По всей России крупных бизнесменов молотят, щелкают, как орехи.
– Никто не заставлял, сами такой путь выбрали. – Они, в принципе, хорошее дело делают: людям рабочие места обеспечивают, налоги платят, вносят свой вклад в строительство государства. Баневского вспомни, – Потапчук хотел сказать, «земля ему пухом», но не сказал, поднял рюмку, и они с Глебом, не чокаясь, выпили. Получилось, что они выпили за упокой души бизнесмена. Глеб улыбнулся.
– За Баневским тоже люди стояли, и они, по всей видимости, на директора влияют. Да и журналисты угомониться не могут, все еще пишут, говорят, сюжеты стряпают. Вот давеча целую программу по телевизору выдали про убийство бизнесмена. И знаешь, что самое интересное? Говорят, что мы так никого и не нашли, что ни одно из громких убийств по сей день не раскрыто. Словно мы сидим и ждем, когда заказчики с убийцами сами придут, сами на себя напишут, а нам останется лишь наручники на запястьях защелкнуть и в Лефортово их спровадить.
– Что, Федор Филиппович, совсем тяжко? – спросил Глеб, вытаскивая из пачки сигарету и неторопливо прикуривая.
– Тяжко, Глеб, поверь мне, старику.
– Хватит вам про старость сказки рассказывать! Вы любому молодому фору в пять очков дадите.
– Врешь ты все, Глеб. По глазам вижу, тоже чувствуешь, что я старым стал и никчемным. Чутье потерял, тебя по пустякам дергаю. И Князева, если бы ни ты, еще неделю или месяц искал бы.
– Он не прятался, просто не попадался на глаза. Прятаться ему ни к чему, он уверен, что он царь российский, а мы все – рабы его.
Генерал грустно улыбнулся. Он был похож на пенсионера, который сидит в парке на лавочке и ждет, когда придут партнеры по домино или шашкам. И тогда он сможет два-три часа не думать о собственном здоровье, о таблетках, детях, внуках, а будет наслаждаться игрой и неторопливой беседой с такими же, как он сам. Глеб спросил, глядя прямо в глаза Потапчуку:
– Вы что, Фёдор Филиппович, на самом деле о пенсии подумываете или просто меня стращаете?
– Нет, Глеб, не стращаю. Подумываю и всерьез. Но дела, черт бы их побрал, не пускают. Сам себе говорю: вот этого найдем, это дело закрою, и можно будет уйти на заслуженный отдых. Глеб рассмеялся:
– За город уехать, капусту, помидоры выращивать, плодовые деревья сажать, кустарники. Собачку, наверное, заведете, книжки читать станете?
– Ага, – признался Потапчук, – как точно ты все нарисовал.
И они, глядя друг на друга, рассмеялись так задорно, так весело и искренне, словно не было никаких убийств, словно им сейчас лет по тридцать и впереди огромная жизнь, беззаботная, светлая. А здоровья у них – на сто лет хватит.
У Потапчука даже слезы выступили. Он принялся вытирать покрасневшие глаза носовым платком.
– Рассмешил ты меня, Глеб, повеселил.
– Так я же вам, Федор Филиппович, не все рассказал.
– Что забыл?
– Еще вы рецепты разные осваивать будете.
– Медицинские рецепты?
– Вин, наливок, закаток всевозможных, огурчиков, помидорчиков, салатиков, ассорти, соляночек, аджичку будете делать. Можем с вами даже маленький ликеро-водочный заводик на участке смайстрячим.
– Ага, Глеб, смайстрячим, – подхватил веселую интонацию генерал и взял в руки бутылку с водкой. – Давай еще по одной, и я поеду, посплю хотя бы часика четыре.
– А лучше шесть, Федор Филиппович.
Генерал сам налил водку. На этот раз они чокнулись, и Глеб, глядя в глаза Потапчуку, сказал:
– За ваше здоровье, Федор Филиппович.
– Нет, Глеб, давай за тебя.
– Ну, если так, тогда за нас. Они чокнулись, выпили.
Немного помолчав, Глеб вынул и показал Потапчуку фотографии Розы. Он уже выяснил, что она является дорогой проституткой и встречается, кроме Гусовского, еще со многими влиятельными людьми.
На генерала это особого впечатления не произвело, его больше интересовала сейчас судьба бриллианта Романовых.
– Ничего удивительного, Глеб, они и дома друг другу продают, и заводы. Так что женщина для них такой же товар, как и все остальное.
– Не скажите, Федор Филиппович, Гусовский ее ценит. Генерал с любопытством рассматривал фотографии.
– Согласись, красивая женщина?
– Красивая, – согласился Глеб, – но не в моем вкусе.
– Ой, ладно тебе! Ирине привет от меня передавай.
– Хорошо, передам. Правда, видимся мы с ней в последнее время крайне редко.
– Понимаю. Я своих тоже только спящими вижу, – опять с грустной улыбкой сказал генерал.
– Гусовский в Питер собирается завтра или послезавтра, так что я, наверное, тоже туда рвану.
– Не лезь, пожалуйста, никуда, – попросил Потапчук.
– Ясное дело. Буду наблюдать. Есть у меня предчувствие, что очень скоро все на свои места встанет.
– Что ты имеешь в виду, Глеб?
– Найдем мы и того, кто Баневского заказал, и того, кто заказ выполнил. Поверьте мне, Федор Филиппович, найдем. И вы тогда доложите начальству, что дело сделано, а они вам новое подбросят еще позаковыристее. И будет вам не до помидоров с огурчиками, а будете вы бежать, высунув язык, и тяжело дышать. Жизнь у вас такая, судьба. На роду было, наверное, написано «охотничьим псом» родиться.
– Наверное, – сказал генерал, вставая. – Спасибо тебе, Глеб, развлек. Отдохнул я с тобой. А насчет Князева ты, наверное, прав. Подключу специалистов-психиатров, пусть им займутся.
– Правильно, – кивнул коротко Глеб.
Он проводил генерала до двери. Потапчук неторопливо спустился по лестнице. Машина с шофером ждала его в соседнем дворе. Глядя ему вслед, Глеб думал, что кому на роду написано быть «охотничьим псом», тот будет им до последних мгновений жизни. А Потапчук был именно таким – «породистым охотничьим псом» с прекрасным чутьем. Таких – на тысячу один.
***
Старый, разменявший восьмой десяток, ювелир Соломон Ильич Хайтин, вечно брюзжащий и всем недовольный, был удивлен телефонным звонком старого знакомого Тихона. Они не встречались уже достаточно давно и, как думал Хайтин, навсегда потеряли друг друга. Ювелир считал, что карманник Тихон мотает где-нибудь на далекой зоне за Уральским хребтом очередной срок. Павлов, набирая номер ювелира, нервничал, он не был уверен, что ювелир не уехал на постоянное место жительство в Израиль или Австрию, или, того хуже, не лежит на кладбище под мраморной плитой, на которой высечена шестиконечная звезда Давида.
Звонок Тихона Павлова вернул Соломона Ильича к жизни. Тот встрепенулся, ожил, словно молодость вспомнил, словно этот звонок был чудодейственной инъекцией, которая придала ему сил и уверенности. Он ждал прихода неожиданно объявившегося Тихона и по этому случаю облачился в старомодный темно-синий костюм, белую рубашку и даже бабочку надел, будто собрался в филармонию на концерт симфонической музыки. Он побрился, причесался и помолодел лет на десять-пятнадцать.
Павлов пришел к нему один. Соломон Ильич, увидев Тихона, развел руки в стороны, закивал седой головой и стал похож на курицу, клюющую зерно. Его влажные, чуть выпученные глаза слезились, а толстые губы растянулись в улыбке.
– Здравствуй, Тихон, – с нескрываемым уважением и почтением, почти нежно поприветствовал гостя Соломон Ильич.
– Здорово, – сказал Тихон, обнимая Соломона и похлопывая его по плечам, усыпанным перхотью.
– А ты все такой же, время тебя не берет.
– Признаюсь тебе, Соломон, думал, что тебя давным-давно нет в России.
– А где же мне быть, как не в России? Я здесь родился, рос, я здесь в тюрьме сидел и уезжать уже никуда не собираюсь. Поздно, дорогой Тихон. Пусть молодые счастье по свету ищут. К тому же, если мы, евреи, соберемся в одном месте, как нам вести коммерцию? Соломон предложил гостю пройти в квартиру, и Тихон вошел в комнату.
– Что привело такого уважаемого человека к старому Соломону?
– Ладно, Соломон, хорош дурака валять! Накрывай на стол, будем разговоры разговаривать.
– Ну, если базар не гнилой, Соломон послушает, – ответил ювелир, разглядывая Тихона, словно тот был каким-то невероятным чудом, призраком, материализовавшимся в телесный облик.
– Что ты на меня так смотришь, Соломон? Жив, жив я, и не на зоне у колючки прогуливаюсь, и не в карцере сижу, не на нарах парюсь, а гуляю, дышу свежим воздухом.
– Оно понятно, – сказал Соломон, приглашая гостя к столу.
Стол был накрыт посреди большой комнаты. Графин с водкой, две рюмки, мясо, рыба, овощи, красная и черная икра – в общем, на столе было все, что мог себе позволить Соломон Ильич, встречая дорогого гостя – человека, к которому он питал самые теплые чувства.
Вор и скупщик краденого, отошедший от дел, уселись, глядя друг на друга. Соломон степенно наполнил рюмки.
– Как это ты любил говорить... давай по первой, но не по последней?
– Да, когда-то я так говорил, – улыбнулся Тихон.
– А ты все такой же орел, все от ментов бегаешь, все промышляешь?
– Артист должен заниматься своим делом, ты же это, Соломон, знаешь не хуже меня. Если я не выхожу на улицу один день, это замечаю только я сам, если два дня, то замечают пацаны. А если три дня...
– Не надо о грустном, Тихон. Если три дня артист не выходит на сцену, то его...
– Вообще, ты прав. Не будем о грустном. Расскажи лучше, как живешь, потому что я живу не интересно. Работы нет, перебиваюсь какой-то дрянью: то сережку починю, то перстенек поправлю, то цепочку спаяю. Изредка Гусовский обо мне вспоминает, на консультации приглашает по старой памяти, – не удержался Хайтин, козырнув знакомством с могущественным олигархом, одним из самых богатых людей России, – в общем, не живу, а прозябаю. А ведь раньше... Вспомни, как раньше жил старый Соломон! Да я в унитаз бриллианты спускал, когда менты в дверь ломились.
– Да, бывало, наверное, в твоей жизни и такое.
– Что поделаешь, Тихон, бывало. Вот сейчас бы ты мне те камешки притарабанил, я бы счастлив был.
– Хочешь сказать, уехал бы отсюда к своим братьям?
– Ой, братьям Соломон не нужен, они и так живут хорошо и в моих советах не нуждаются. Иногда подбрасывают немного денег, но, к сожалению, только иногда. А ведь это именно Соломон научил их гранить камни, лить оправы.
– Да, Соломон, время остановить невозможно, а уж вернуть назад, тем более.
– А ты все такой же. Наверное, никого не боишься, живешь в свое удовольствие?
– Стараюсь, – сказал Тихон.
Они выпили по третьей рюмке, немного поели. Соломон сверкнул глазами из-под кустистых седых бровей, хмыкнул, крякнул, пошевелил толстой нижней губой, такой большой, что при желании он мог коснуться ею кончика носа, и почти шепотом произнес, глядя на руки Тихона:
– Ты же не просто так пришел, Тихон. Я же тебя знаю сто лет. У тебя к старому Соломону дело есть.
Тихон немного подумал, словно размышлял, стоит говорить или нет, а затем накрыл своей ладонью с длинными крепкими пальцами руку Соломона Ильича.
– Ты прав. Просто так я к тебе, может, и зашел бы, но сегодня не тот день. Я к тебе, Соломон, за советом.
– О! – воскликнул Соломон Ильич, сложив губы так, словно собирался поцеловать в щеку молоденькую девушку. – О-о-о! – восклицания старого ювелира были похожи на гудки парохода, отваливающего от пристани. – Соломон, конечно же, даст совет, если сможет, а если не сможет, то не даст. Соломон тоже не пророк и не все знает, хотя давно живет на свете.
– Хватит красивых слов. Значит, ты говоришь, свое дело не забыл?
– Разве можно забыть то, чем занимался с малолетства, конечно же, нельзя. Так ты, значит, ко мне по работе? Может, перстень хочешь сделать или подарок женщине?
– Ни то, ни другое, Соломон, я к тебе за советом, – твердо повторил Тихон, – левая рука его была сжата в кулак. Он подвинул ее к Соломону, убрав рюмку с налитой водкой в сторону. – Посмотри вот сюда, скажи, что ты видишь, – рука перевернулась на скатерть, пальцы разжались.
На темно-синем носовом платке лежал сверкающий камень. Свет от люстры дробился в его гранях, и камень от этого казался живым, трепетным, теплым. Голова Соломона дернулась, он вскочил из-за стола так быстро, что стул едва не грохнулся на пол.
– О, что мы видим! Айн момент, – кривоногий Соломон Ильич суетливо двинулся в соседнюю комнату, щелкнул ключом, открывая дверь, и вернулся с окуляром.
Когда окуляр был вставлен в глаз, а в люстре вспыхнули еще два рожка, Тихон спросил, глядя на Соломона, склонившегося над камнем:
– Ну и что ты видишь? Губы старого ювелира шевелились, как две огромные пиявки фиолетового цвета.
– Что видит Соломон? – словно сам себе задал вопрос ювелир. – Соломон видит бриллиант, – произнес ювелир таким голосом, как старый врач произносит слово «труп», короткое и страшное.
– Значит, это все-таки бриллиант? – тронув за плечо ювелира, переспросил вор.
– Это не просто бриллиант, это великий бриллиант! Такой большой бриллиант старый Соломон никогда в руках не держал. Никогда...
Тихон видел, как слезится глаз, не закрытый окуляром. По выражению лица Соломона он понял, что старый ювелир потрясен до глубины души, на какое-то мгновение ему даже стало жаль старого приятеля. Так человек может лишиться чувств, сердце остановится.
– Ты успокойся, Соломон Ильич, говори дальше.
– А что может говорить Соломон, когда у него язык к небу присох? Слов нет у Соломона. Если бы я был поэтом, я заговорил бы виршами.
– Ладно тебе. Мне вирши не нужны, нужны слова. Точные.
– Ой, – прошептал Соломон Ильич, – какие тут могут быть слова! – он вертел камень в пальцах. – Он безупречен, чист и прозрачен. Он прозрачнее слезы ангела, он чище ее.
– Ну вот, Соломон, ты же говорил, что не будешь виршами изъясняться и разводить долгий базар. Говори коротко.
– Коротко... Тебе хорошо, Тихон, ты в этом ничего не понимаешь, а Соломон понимает, потому Соломону страшно. Очень страшно старому Соломону держать в руках эту цацку, эту слезу.
– Не слеза это, Соломон, не валяй дурака! Не гони муть. Сколько стоит?
– Это? – Соломон, наконец, оторвал свой взгляд от камня, окуляр выпал. – Это нисколько не стоит, Тихон, потому что цены не имеет.
– Вообще?
– Это оптический обман.
– Что ты гонишь, Соломон! Зачем я к тебе пришел? Ты лучший специалист по камням, какого я только знаю.
– Ты пришел услышать, так слушай, – Соломон Ильич накрыл камень ладонью, словно раковиной. Накрыл, прижал к скатерти. Пальцы шевелились, будто под ладонью находилось живое существо, прижатое к столу. – Мне так тяжело говорить, ты себе не представляешь. Мне никогда не было так тяжело и никогда не было так радостно.
«Черт с тобой, – подумал Тихон, выслушивая бред Соломона, – пусть потреплется. Время у меня есть».
Он знал Соломона уже лет сорок. Вместе сидели на зоне, и тогда Тихон пару раз помог Соломону избежать самого страшного – он дважды защитил ювелира от бандитской заточки. И Соломон помнил это, он был благодарен Тихону, может быть, больше, чем своим родителям, подарившим ему жизнь. Ведь родители дарят жизнь один раз, а Тихон подарил Соломону жизнь дважды.
– Этого не может быть, потому что не может быть никогда! Этот камень находится на выставке в Кремле, это Соломон знает, как православный знает «Отче наш», а еврей – первые строки Торы. Но если он здесь, – Соломон приподнял ладони, – значит, это правда, и значит, это быть может. И если камень здесь, значит, камень украли, поэтому Соломон может дотронуться до него пальцем и даже поднести к глазам. Ты его украл!
– Сколько? – уже в который раз задал односложный вопрос Тихон, и его тонкие губы скривились в улыбке.
– Может, миллион, может, два, а может, десять. Скажи мне, Тихон, удиви старого Соломона, может быть, у тебя паспорт есть?
– Конечно, ксива у меня есть, справку об освобождении я давно ментам вернул.
– Нет, не твоя ксива, Тихон, а его паспорт, – и Соломон Ильич ткнул крючковатым указательным пальцем в камень. Тот от прикосновения перевернулся на другую грань, ослепительно вспыхнув, словно солнце, пробившееся сквозь тучи.
– У меня есть только камень.
– Вот это-то и плохо. Хотя, кто знает, может, хорошо. Ты не сможешь его продать, никто не купит. Ни у кого нет таких денег, да и нет сейчас таких храбрецов. Этот камень знают везде, во всем мире. Его никто не рискнет купить, это слишком известная и слишком дорогая штучка.
– А если его распилить? – абсолютно спокойно поинтересовался Тихон.
Услыхав слово «распилить», Соломон Ильич сжался, его лицо стало похожим на печеное яблоко. Он весь задрожал, затрясся, как студень на тарелке.
– Что? Что ты такое говоришь, Тихон? У тебя совсем нет ума. Кто тебе его пилить станет? Такое преступление никто не совершит, это хуже, чем мать родную зарезать! Ты что, Тихон, успокойся!
– Даже ты, Соломон, не распилишь?
– Что? Соломон Ильич Хайтин станет пилить камень? Да отпили ты мне руки, отпили мне ноги и голову, я не прикоснусь к нему! Дело швах.
– Швах, говоришь?
– Да, дело тяжелое, очень тяжелое. Соломон ведь никогда не спрашивает, где, что, кто взял. Соломон – не милиция, Соломона это не интересует. Но у тебя, Тихон, старый Соломон все же спросит: где ты его взял?
Тихон оторвал руку от стола и поднял ладонь, словно пытаясь защититься от вопросов ювелира.
– Соломон все понял, молчит, вопросов не задает.
– Ты уже спросил, – сказал Тихон, – мне пофартило, и он стал моим.
– Если это кто-нибудь знает, конечно, кроме старого Соломона, то ты, Тихон – покойник. А если никто не знает, то Соломон Ильич забудет. Я ведь не видел камня и в руках его никогда не держал. Я забуду навсегда. Только в сердце Соломона, в старом больном сердце останется шрам, такой глубокий и такой большой, что он всегда будет болеть.
– С ним никуда не сунешься?
– Да, – сказал Соломон, поглаживая подушечками пальцев скользкие грани бриллианта. – Забери его, Тихон, – дрожащей рукой ювелир пододвинул камень к Тихону.
Тот посмотрел на него. В глазах Тихона не было ни изумления, ни восхищения, ни восторга, он смотрел на бесценный бриллиант как на рюмку с водкой, завернул его в носовой платок и положил в карман. Эта будничность потрясла Соломона Ильича до глубины души.
– Тихон, ты мне напоминаешь ребенка, не сведущего и глупого. Прости Соломона за такие слова.
– Давай-ка лучше выпьем, Соломон Ильич, и забудем об этом.
– Я уже забыл, – выдавил из себя ювелир. Тихон наполнил рюмки.
– Это слишком опасная цацка.
– Давай выпьем за то, чтобы рюмка была для каждого из нас не последней.
Они чокнулись, хрусталь зазвенел. Выпили. Соломон сидел, подперев седую голову кулаком и взирал на Тихона с нескрываемым восхищением. Но в этом восхищении был странный холодок – так смотрит врач на пациента, ознакомившись с неутешительными результатами анализов, а затем просмотрев рентгеновские снимки и, убедившись в точности поставленного диагноза: пациент – не жилец, месяц, от силы два – и его душа отделится от тела, а сердце перестанет стучать.
Тихон понял этот взгляд, встал из-за стола, подошел к Соломону, положил руку на плечо и, сжав пальцы, сказал:
– Не волнуйся, Соломон, пережили голод, переживем и изобилие,
– Ой, нет, ты, Тихон, поставил меня в такую ситуацию, что я даже совета дать не могу.
– Ты мне уже дал совет, Соломон, я его услышал и теперь буду спокоен.
– Ты не будешь спокоен, пока он у тебя. Вот, смотри, дорогой, – Соломон поднялся, исчез в соседней комнате и вернулся оттуда с книгой в блестящей суперобложке. – Смотри сюда, – он медленно стал переворачивать страницы, на которых были изображены самые крупные, известные во всем мире бриллианты. – Вот он. Здесь все – количество граней, караты, год огранки, коллекции...
Прочитав небольшую статью, Соломон посмотрел на Тихона, стоявшего у него за спиной.
– Надеюсь, теперь тебе все ясно? На каждый камень есть паспорт. Этот очень известный, и от роду ему уже двести лет. Ты представляешь, двести лет, без малого! Тихон лишь пожал плечами.
– На посошок? – спросил ювелир, взглянув на недопитую водку в хрустальном графине.
– Давай.
Они выпили по рюмке. Соломон Ильич проводил Тихона до двери, долго жал руку. Так жмут руку, зная, что, возможно, видятся в последний раз.
– Знаешь, Тихон, что я тебе хочу сказать?
– Нет, уже не знаю, – ответил Павлов.
– Я хочу пожелать тебе удачи. Пусть твоя звезда ведет тебя и спасает, потому что ты влез туда, куда влезать не надо было.
– Ты так говоришь, Соломон, словно меня в трансформаторную будку засунули.
– Хуже, Тихон, намного хуже! Дверь захлопнулась.
Тихон сбежал вниз, сел в машину, стоящую во дворе. На заднем сиденье дремал Никита.
– Просыпайся.
– Ну? – спросил тот, обращаясь к Тихону.
– Потом расскажу. Трогай, родимый.
Автомобиль помчался по вечернему городу, залитому светом рекламы и фонарей. Фагот молчал. В тонированных стеклах машины плыли цепочки огней, вспыхивали рубиновые габариты витрин магазинов. За стеклом шла жизнь.
Тихон подумал, что вот так, вдруг, он стал сторонним наблюдателем, а не участником загадочной жизни.
«Может, мне ничего ему не говорить, не втягивать в эту историю? Соломон знает, что говорит, попусту трепать языком не станет. Слишком долго он живет на свете и слишком много видел. Ничего, кто предупрежден, тот уже защищен».
– Сверни здесь, – бросил он водителю. Тот покорно, нарушив правила, свернул направо. – Выходим, – сказал Тихон, протягивая водителю деньги.
– Если понадоблюсь, всегда рад помочь. Тихон и Фагот вышли из машины и двинулись по многолюдной улице.
***
Потрясенный Соломон Ильич Хайтин, как ни старался, не мог себя заставить поверить в реальность увиденного. Все сходилось: количество граней, обработка, размер камня и его чистота. Он держал камень в руках, рассматривал с разных сторон под разными углами. Это был тот самый камень, знаменитый бриллиант, но поверить в это Хайтин не мог. Он бурчал, бормотал, двигался по квартире, как во сне, натыкаясь на предметы. Он даже не стал убирать со стола, настолько был взволнован и ошарашен происшедшим. Он думал, а думать Соломон Ильич умел. Как-никак за семьдесят два года, пятьдесят из которых он занимался ювелирным делом, попался лишь один раз – таким он был умным. Да и попался-то не по своей вине. Вспоминать годы, проведенные в лагере, Хайтин не любил. Это были самые противные, самые неприятные воспоминания, куда более ужасные, чем воспоминания о больницах.
Он взял каталог, спрятал в шкаф. Затем вытащил опять. Долго читал, рассматривал фотографии. Но что такое фотография по сравнению с великолепием живого камня? Никакое изображение, даже выполненное самым талантливым фотографом или художником, не может передать и тысячной доли настоящей красоты.
Соломон Ильич с ожесточением захлопнул каталог и решил, что больше, дабы не травить душу, он к проклятой книжке не прикоснется, пусть себе пылится в шкафу. До второго пришествия Христа он в нее больше заглядывать не станет. Надо сказать, иудей Хайтин не верил и в первое пришествие.
«Ай, да Тихон! Ай, да сукин сын! Как же это ты, приятель, гениально лопухнулся? Да если бы ты даже ограбил Центробанк, и то было бы проще, чем с этим камнем».
Соломону Ильичу невероятно хотелось помочь своему приятелю найти выход из совершенно безвыходной ситуации. Он пыхтел, как паровоз под парами.
«Польские ломбарды... Туда можно отвезти и сдать любой бриллиант, получить квитанцию. Там сидят люди смышленые, они оценят камень, естественно, уменьшив его стоимость в несколько раз. Но даже в этом случае сумма будет огромная. А потом можно отдать квитанцию человеку, который имея ее на руках, может спокойненько приехать в какую-нибудь Лодзь, Краков, Варшаву и по квитанции, заплатив денежки, забрать камень, вот так, как Тихон, завернуть в носовой платок, сунуть в карман и уйти. Но кто ж из владельцев ломбарда решится принять драгоценность на хранение? Хотя ломбард – вещь надежная, такая же надежная, как ячейка в банке первой категории. Но до ломбарда надо еще добраться. Хотя это тоже не проблема: из России вывозят и не такие вещи. Что там какой-то камень величиной с куриное яйцо? Вывозят автомобили, меха, бриллианты килограммами, как ограненные на каком-нибудь Смоленском или Воронежском заводе, так и необработанные. Килограммами...» Соломон Ильич прерывисто вздохнул.
«У меня, конечно, есть два брата, они оба в Израиле, два моих младших брата – Семен и Фима. Они бы, конечно, все могли устроить. Как-никак людей знают, деньги могли бы найти. Но обращаться к ним опасно, пусть себе живут, зачем их втягивать в эту кутерьму?»
А то, что кутерьма начнется, в этом старый ювелир не сомневался, как не сомневался в своем имени и фамилии.
«О, это будет большой шмон, такой большой, что Москва вздрогнет. К этому шмону надо готовиться. Хотя что тебе готовиться, Соломон, у тебя ничего нет. В твоих столах и ящиках нет уже ни одной краденой вещи, ну разве что часики. Так поди, докажи, что эти часики краденые. Соломон тоже человек, он тоже ходит по улице, и вполне могло статься, что Соломон сел на скамеечку в сквере покормить голубей и увидел часики, которые лежали у его ног и тихонько тикали. Дурак, – выругал сам себя ювелир, – ты думаешь совсем не о том. Вот что надо было бы спросить у Тихона: знает ли еще хоть одна живая душа об этом камне, о том, что он у Тихона? Один Тихон провернул дело или ему помогли? Если помогли, то дело швах, а если в одиночку, то шансы уцелеть у Тихона есть. Хотя вряд ли можно обмануть МУР и ФСБ? Нет, их не проведешь, если они начинают копать всерьез. Уже не один человек о камне знает. О нем известно мне, Соломону Хайтину, а значит, уже два человека в курсе, – и Хайтин загнул два пальца на левой руке. – А то, что известно двоим, – уже не тайна, – и ювелиру на несколько мгновений стало не по себе. Его охватил страх. – Вот тебе и на! Соломон, ты же знаешь Тихона сто лет, ты всегда помогал ему, а он помогал тебе. Тихон будет молчать, и Соломон станет молчать, словно он ничего не видел». Но приди к нему в квартиру кто-нибудь другой с подобным ювелирным изделием... Ювелир подошел к окну.
«Да, хорошо, что это был Тихон, а не кто-нибудь другой, потому что... другой, показав камень и получив консультацию, тут же лишил бы свидетеля жизни. Зачем свидетель, когда дело тянет на миллион долларов? Не нужны свидетели. Но с Тихоном у меня другие отношения, мы с ним по жизни кореша. До гробовой доски я буду помнить то, что он сделал для меня. И не будь Тихон во мне уверен, он никогда бы не пришел. Значит, я могу быть спокоен. Но кипеж все равно начнется. Он, наверное, уже начался, только я об этом не знаю. Самое сложное – найти покупателя. Странно, но у меня такое впечатление, что Тихон Павлов сам не понял, что совершил невозможное. Он пришел ко мне с таким видом, будто похитил заурядную стекляшку. Но он хитер, мог и притворяться».








