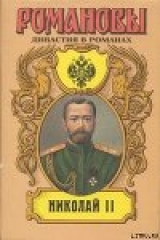
Текст книги "Николай II (Том II)"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 61 страниц)
– Как жаль, что Государь в такой момент уехал из столицы! – прервал деда Пётр и почему-то признался: – Знаете, grande-peré, я ведь привёз ему письмо графа Келлера с предупреждением относительно заговорщиков… Что же теперь делать?.. Не мчаться же в Могилёв!.. Всё равно не догонишь!..
– Не расстраивайся, дружочек, – попытался успокоить внука Ознобишин, – утро вечера мудренее… Поезжай-ка ты завтра утром к личному секретарю Императрицы графу Ростовцеву да испроси через Якова Николаича аудиенции у Государыни… Она умная и решительная женщина да тебе, судя по всему, доверяет… Передай ей письмо и проси, чтобы она сообщила о нём Государю… Бог даст, Александра Фёдоровна успеет…
На том они и порешили.
82Утром 23-го полковник граф Лисовецкий входил в канцелярию Императрицы в Зимнем дворце со стороны Дворцовой набережной. Начальник канцелярии, он же личный секретарь царицы, оказался на месте. Изящный придворный кавалер, лет на пять всего старше полковника, гофмаршал граф Ростовцев радушно принял Петра. Он помнил о том, что Александра Фёдоровна выхаживала от ран молодого полковника, а до этого Пётр как-то случайно был Ей представлен в Костроме, где началась его дружба с царскими Дочерьми.
Истинный царедворец, он любезно принялся расспрашивать кавалериста о делах на фронте. Пётр коротко отвечал на вопросы. Гофмаршал внимательно слушал, и было видно, что ему на самом деле интересны ответы полковника. Но когда Пётр заикнулся об аудиенции, Яков Николаевич отрицательно покачал головой. Потом немного подумал и объяснил:
– Милый граф, только вчера вечером, сразу после отъезда Государя на Ставку, тяжело заболели, по-видимому, корью Цесаревич Алексей Николаевич и великая княжна Ольга Николаевна… Поймите состояние матери… Под угрозой инфекции и остальные великие княжны… Я буду сегодня, в два часа, на докладе у Её Величества и, конечно, изложу вашу просьбу… Вы ведь остановились у своего grande-peré Oznobishinn?.. Я вам протелефонирую туда, что решит Её Величество…
Пётр вернулся домой, позавтракал с дедом и дождался звонка из Александровского дворца. Ростовцев сообщил ему, что Императрица очень сожалеет, но не может сейчас принять его по известным ему обстоятельствам с детьми. Но как только дети начнут выздоравливать, они все будут рады его видеть…
Полковник с горечью выслушал это сообщение. Рядом стоял Фёдор Фёдорович и внимательно наблюдал за реакцией внука. По расстроенному выражению его лица он понял, что аудиенции в ближайшие дни не будет. Ознобишин перекрестился, тяжело, как и внук, вздохнул и сказал:
– Пойди пройдись по Невскому, развейся немного, а потом подумаем, что теперь делать…
Через час Пётр был на Невском проспекте. Здесь он увидел, что собрались огромные толпы людей в рабочей одежде. Они останавливали трамваи и старались учинять беспорядки. Затем толпа, среди которой было много студентов, разбила зеркальные витрины булочной Филиппова и разбежалась. Полковник до семи часов вечера бродил по Невскому, наблюдая бесчинства групп хулиганов, пока не убедился, что полиция восстановила порядок. Только тогда он поспешил в Яхт-клуб на Морской, куда Ознобишин пригласил его пообедать.
Все в клубе говорили только о сегодняшних беспорядках и предрекали на завтра новые. Рассказывали, что в девять утра на фабриках в Выборгской части города начались рабочие забастовки в знак протеста против нехватки чёрного хлеба в булочных лавках района. После полудня стачки перекинулись и в другие части столицы. Говорили, что эти забастовки – дело рук германских агентов…
24-го в газетах было помещено в газетах официальное сообщение «Хлеб есть!» и приказ открыть все булочные. Однако беспорядки не только не утихли, но продолжали разрастаться. При разгоне толпы пострадало несколько полицейских…
Ознобишин и его внук с утра отправились в Яхт-клуб. Сюда всё время кто-то приходил с новостями, и столовая, гостиные, даже библиотека были полны членами клуба и их гостями. Жужжание стояло во всех помещениях, словно в ульях. В середине дня сообщили, что из-за слабости полиции (всего около десяти тысяч чинов на огромный, двухсполовиноймиллионный город) обязанность усмирить беспорядки переходит от градоначальника к военным властям. Все дружно ругали болтуна и позёра Протопопова, который как министр внутренних дел не обеспечил порядка в столице, а когда узнали, что дело перешло в руки начальника войск Петроградского округа генерала Хабалова, многие, не знавшие истинной подоплёки событий, подготовленных Гучковым и компанией, пришли в ужас: более беспросветно тупого и нерешительного генерала в российской армии ещё никогда не было…
К вечеру из толп демонстрантов стали раздаваться револьверные выстрелы по полиции. Но команды стрелять по бунтовщикам всё не поступало…
Ночью мало кто покинул тёплые и уютные помещения Яхт-клуба. Сюда продолжали приходить осведомлённые люди и приносили новости, которых не имели даже телеграфные агентства.
С заседания Совета министров пришёл министр финансов Барк и рассказал за своим столиком, вокруг которого собралась толпа престарелых членов и более молодых гостей, что Кабинет был занят целый день своим конфликтом с Думой, а часть министров призывала пойти на соглашение с думским «Блоком»…
Затем генерал из штаба военного округа принёс сообщение о том, что его начальник Хабалов получил из Ставки телеграмму от Верховного Главнокомандующего. Государь требовал: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны против Германии и Австрии».
…Ночевать Ознобишин с внуком поехали на Фурштадтскую.
Ранним утром 25-го оба были уже на ногах. Фёдор Фёдорович отправился на свою «наблюдательную вышку» – в Яхт-клуб, а Пётр – пешком в центр города, чтобы прийти в середине дня к деду на Большую Морскую улицу и сообщить то, что видел.
…Когда полковник вышел с Фурштадтской на Литейный проспект, то увидел толпы народа, среди которого суетились какие-то подозрительные типы, раздавая листовки. Издалека слышались ружейные и револьверные выстрелы. Кто стрелял, в кого – было неясно. На углу Литейного и Сергиевской, за каким-то подобием баррикады, стояли пушки без всякого присмотра. Сновали вооружённые группы солдат, иные из них кричали, распоряжались, командовали чем-то, но их никто не слушал.
Пётр отправился по Литейному на Невский. Везде была одинаковая картина, и полковник пожалел, что не взял свой большой американский автоматический пистолет Кольта, с которым не расставался на фронте.
По Невскому в обе стороны двигались толпы с красными флагами. Налево была видна Знаменская площадь, до краёв заполненная людьми. На ней непрерывно шёл митинг, и группы людей, идущих по Невскому в сторону Зимнего дворца, с упоением передавали друг другу подробности того, как на Знаменской площади был застрелен пристав Крылов, пытавшийся отобрать красный флаг у демонстранта. Солдаты-одиночки и малыми кучками виднелись повсюду. Они были расхристаны, некоторые продавали свои винтовки.
Сжав зубы, с отвращением к дикой толпе, которую кто-то выплеснул из заводов и казарм в центр столицы и незримо руководил её колыханиями, шёл молодой полковник к Яхт-клубу. Когда он добрался до тихого двухэтажного особняка, то почувствовал, что атмосфера в нём заметно изменилась. Старики больше не витийствовали и не шумели, а только впитывали в себя свежие новости. Большая часть аристократической молодёжи, опьянённая бунтом, наоборот, осмелела и почти громко, нарушая традиции клуба, требовала передачи всей власти Родзянке и Львову…
Продолжали подходить очевидцы. Они рассказывали, как генерал Хабалов пришёл с телеграммой Государя к военному министру Беляеву, прозванному за совершенно лысый череп и предполагаемое отсутствие извилин на мозге «Мёртвой головой», советоваться, отдавать ли ему приказ стрелять в бунтовщиков.
«Мёртвая голова» ответила ему, что в данную минуту «единственное, что беспокоит его, – так это тяжёлое впечатление, которое произведёт на наших союзников вид трупов на Невском». И «Мёртвая голова» Беляев, и болван с генеральскими погонами Хабалов не пожелали вспоминать о том, как в апреле 16-го года, то есть за десять месяцев до февральского бунта в Петрограде, Англия в море крови подавила восстание ирландцев в Дублине[151]151
Имеется в виду ирландское восстание в Дублине против англичан в апреле 1916 г. Было жестоко подавлено: руководители расстреляны, многие участники высланы.
[Закрыть], руководимое Роджером Казементом. Столица Ирландии была полуразрушена артиллерией Британской Короны, погибли тысячи мужчин, женщин и детей. Без оглядки на «общественное мнение» в мире, где шла всеобщая жестокая бойня, англичане дополнительно ко всем жертвам гражданского населения Ирландии казнили сотни мятежников. Но более чем удовлетворённый ответом военного министра России, игнорировавшего приказ Императора, начальник войск округа помчался к себе в штаб, чтобы сдерживать там негодующих офицеров, верных присяге и готовых отдать солдатам приказ «Пли!» И солдаты, готовые выполнить его, ещё были в Петрограде…
У царя не было только генералов…
…В середине дня в Яхт-клуб поступило известие, что в столице остались ещё верные и храбрые офицеры. Рассказывали, что подпоручик лейб-гвардии Финляндского полка Иосс одним метким выстрелом усмирил весь Васильевский остров. Он уложил наповал вожака бунтовщиков на казённом трубочном заводе. Демонстрации и беспорядки во всей Василеостровской части города сразу прекратились. Но через час по помещениям клуба прошелестело сообщение, которое принёс гость из Таврического дворца. «Прогрессивный блок» и Председатель Думы явно поддерживали мятеж, желая, видно, чтобы он превратился в революцию.
Собрание депутатов-членов «Блока» единогласно вынесло резолюцию: «Правительство, обагрившее свои руки в крови народной, не смеет больше являться в Государственную думу, и с этим правительством Государственная дума порывает навсегда». Вслед за этим Родзянко направляет в Ставку Государю паническую телеграмму и оглашает её тут же для сведения «общественности».
Листок с текстом этого послания Председателя Думы Императору пошёл гулять по рукам обедающих в Яхт-клубе. Когда он попал на столик, за которым сидели Ознобишин, его внук и адмирал Крылов, то сенатор, прочитав, горько сказал:
– Родзянко хоть и выдавал себя всё время за монархиста, на самом деле жаждет стать президентом Российской республики…
– Да-а… – задумчиво поддержал его адмирал, – банальный бунт во время войны, для подавления второго достаточно одной кавалерийской дивизии, «общественность» и Дума желают превратить в революцию… Они хотят использовать удобный для них момент, перевести прицел с городовых на царя и по трупам на мостовых Петрограда прыгнуть во власть – во что бы то ни стало… Какова же будет цена этой новой власти?..
83В Могилёве было холодно, ясно и ветрено. Встречающие царский поезд Алексеев, небольшая группа генералов Ставки и полурота сводного Георгиевского батальона, выстроенная для почётного караула, никуда не могли скрыться от порывов пронизывающего холодного ветра. Лица военных покраснели за несколько минут ожидания. Ровно в три часа синий литерный состав стал у Царской платформы. Государь вышел, и группа генералов двинулась к нему. Первым приветствовал Верховного Главнокомандующего после своего долгого отсутствия начальник его штаба генерал Алексеев.
Алексеев был не по обыкновению подобострастен. Николай сначала не понял, отчего это. Но когда по приезде в штаб он стал принимать доклад Михаила Васильевича, то не уловил в нём ничего срочного или важного, из-за чего ему пришлось бросить столицу и на всех парах мчаться на Ставку. «Может быть, – решил он, – добрый косоглазый друг хочет загладить полную бессодержательность своего доклада и то, что он, приехав сам за два дня до этого, ещё не вошёл в курс дела…»
Государь не подозревал, что началась первая активная фаза генеральского заговора, результатом которой планировалось «извлечь» Верховного Главнокомандующего из Царского Села и загнать затем в ловушку, из которой не было бы иного выхода, как отречение от престола. В Петрограде и Могилёве всё развивалось по чётко намеченному плану.
В столице, сразу же после отъезда царя, начались «голодные» волнения, но настораживать Государя было ещё рано. Поэтому, когда Николай ушёл после доклада к себе в бывший губернаторский дом, Алексеев, разом успокоившись, задумчиво бросил в пространство, вроде бы и не адресуясь к своим ближайшим сотрудникам, генералам Клембовскому и Лукомскому:
– А теперь, хорошо бы отрезать Николая Александровича от реальной информации из Петрограда…
Утром, на докладе, лицо Николая показалось Михаилу Васильевичу сумрачным. Алексеев было всполошился, подумав, что Государь что-то узнал о начале «демонстрации» бунта в столице, но позже оказалось, что это от Александры Фёдоровны мужу пришло написанное ею вчера письмо, где царица сообщала, что старшая дочь и Наследник Цесаревич заболели корью…
25-го, в субботу, за окном продолжало мести, как и вчера. Николай встал поздно, засидевшись накануне над чтением «Записок о галльской войне» Гая Юлия Цезаря. Он очень любил исторические сочинения, книги о полководцах и великих мужах прошлого. Из русской истории он особенно ценил своего предка Алексея Михайловича, «тишайшего» царя, при жизни которого Россия богатела, прирастала землями, не втягивалась в войны и начинала понемногу что-то хорошее в свою жизнь привлекать из Европы…
Доклад начальника штаба продолжался полтора часа, а потом, перед прогулкой, Государь поехал в монастырь, где молился перед иконой Пречистой Девы за здоровье детей, за Аликс, за страну. В полутьме храма, освещённого только мерцанием лампад и свечей, он представил себе затемнённые тяжёлыми шторами комнаты больных детей, почувствовал запахи лекарств и гнетущую обстановку домашнего госпиталя, в котором трудится сейчас не покладая рук бедная Аликс.
Атмосфера склоки великих князей, затеянная родственниками в Петрограде, хотя и не проникла пока в Ставку, также продолжала угнетать его.
Хотя сегодняшнее письмо Аликс с двумя строчками о бедняках, которые брали на Невском булочные приступом, и о казаках, вызванных для их усмирения, особой тревоги не вызвало, всё это, вместе взятое, наложило такую тяжесть на сердце Императора, что в шесть часов он снова идёт в церковь ко всенощной и молится почти что до обеда. Николай взывает к Господу, просит Его смилостивиться над страной, успокоить страсти, кипящие в стольном граде Петровом…
В это время в Штаб Ставки приходит первая телеграмма от Хабалова. Начальник войск округа информирует Алексеева о происходящем в Петрограде. Одновременно криптографы штаба расшифровывают ещё одну депешу, на этот раз – от министра внутренних дел Протопопова дворцовому коменданту. Верховный шеф полиции уклончиво, явно вопреки правде, сообщает генералу Воейкову: «Прекращению дальнейших беспорядков принимаются энергичные меры военным начальством. Москве спокойно».
«Свой человек» Лукомского в шифровальном отделении приносит копию телеграммы Протопопова сначала генерал-квартирмейстеру. Лукомский кладёт её для цензуры на стол Алексееву. Начальник штаба Ставки удовлетворённо улыбается в усы и распоряжается:
– Такую хорошую телеграмму вручить Воейкову поздно вечером, чтобы он порадовал ею Государя завтра утром!..
Беспокойство всё же точит Николая. Перед тем как после обеда идти в синема, он диктует Кире Нарышкину, для передачи телеграфом Хабалову, приказ прекратить беспорядки.
Разгул бунтовщиков в столице 26-го чуть стихает. Воскресным утром демонстранты и хулиганы ещё не вышли на свой хорошо оплаченный промысел на проспекты города. Население тоже ещё спит или молится в церквах. Воспользовавшись временным затишьем, генералы Хабалов и Беляев посылают Верховному Главнокомандующему радостную весть: «Сегодня в Петрограде всё спокойно!»
К 10 часам Николай идёт к обедне в собор. Службу творит сам протопресвитер армии и флота Шавельский. Церковь переполнена генералами, офицерами, командами солдат, прихожанами из местного населения. Генералы, кто стоит поближе к царю, сразу за свитскими, внимательно ищут на его лице и в движениях признаки беспокойства, нервности или гнева на бунтовщиков в столице. Многие из них слышали о бурных событиях в Петрограде, и им кажется, что царь должен знать гораздо больше их, имея в своём распоряжении и просто полицию, и дворцовую полицию, и охранное отделение. Они и представить себе не могут, насколько тщательно ограждают заговорщики Верховного Главнокомандующего от правдивой информации. Недалеко от Государя, словно Иуда на Тайной вечере, возглашает славу Господу Богу генерал-адъютант Алексеев. Острая боль в сердце пронзает вдруг Николая, но он и виду не подаёт, что ему плохо. Только испарина покрывает лоб, немеют губы, шепчущие молитвы. Но дым от кадильниц, мерцающий свет свечей, тени и блики, играющие по стенам, скрывают мгновенный, словно сигнал, укол неведомой ему ещё сердечной болезни.
Спокойно проходит после церковной службы завтрак у Царя в губернаторском доме, на котором главные представители союзных армий в Ставке сидят лицом к лицу с ним на расстоянии двух саженей. И тоже ничего не видят, кроме хорошо воспитанного человека, который спокойно, очень любезно общается со своими соседями по столу…
Сразу после завтрака Николай, по обыкновению, уезжает на загородную прогулку. Вместе с Воейковым, флигель-адъютантом герцогом Лейхтенбергским, начальником Конвоя графом Граббе и профессором Фёдоровым он по Бобруйскому шоссе достигает излюбленного места – леса вокруг часовни в память 1812 года. Государь почти ни с кем не разговаривал, не поднимал никаких вопросов о происходивших событиях, а задумчиво гулял по лесной дороге.
После прогулки он возвращается в хорошо проветренный кабинет в губернаторском доме, садится за свой стол, на котором уже приготовлены свежие бумаги, пришедшие из Петрограда. Поверх всего лежит телеграмма от Протопопова. Министр внутренних дел сообщает, что арестовано 136 партийных деятелей, а также «руководящий революционный коллектив из пяти лиц». Министр явно имел в виду Русское бюро ЦК и Петербургский комитет социал-демократов большевиков. Но в убаюкивающем тоне доклада шефа всех полиций империи царь сразу чувствует не ложку – целую бочку дёгтя: «Войска действовали ревностно, исключение составляет самостоятельный выход 4-й роты Павловского полка…»
«Это что же за «самостоятельный выход» роты павловцев?! Неужели и армии коснулась революционная зараза?! Солдаты участвуют в бунте?! – ударило словно обухом по голове Государя. – И почему запасные остались в столице?! Ведь я приказывал Гурко ещё месяц тому назад вывести запасные батальоны из Петрограда и направить туда на отдых и для страховки гвардейскую кавалерийскую дивизию?! Значит, Гурко не выполнил моего приказа?.. Постой-ка, а ведь мне докладывал Нилов письмо Тихановича из Астрахани… В нём Гурко назывался как заговорщик!.. Господи!.. Неужели они начали раньше, чем назначали своё выступление?! Надо срочно проверить у Алексеева, почему не выполнен мой приказ и о чём за завтраком шушукались иностранные военные агенты…»
Машинально царь отложил листок в сторону, и под ним обнаружилась вторая телеграмма. Её строки были наклеены на особый, «думский» бланк, а внизу стояла подпись Председателя Государственной думы.
«Что ещё пишет мне этот вздорный паникёр?!» – неприязненно подумал Николай, беря в руки депешу.
«Ваше Величество!
Положение серьёзное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растёт общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».
«Вечно он всё преувеличивает! – возмутился Государь. – И теперь хочет банальный солдатский бунт использовать как трамплин к посту Председателя Совета министров!.. Права Аликс: его надо повесить на одном суку с Гучковым!.. Если положение настолько критическое, как он пишет, то почему Алексеев ничего не говорит об этом?.. Ни военный министр, ни начальник войск округа, ни министр внутренних дел, ни, наконец, дворцовый комендант, располагающий своими агентами, не приводят ни одного факта, кроме того, что взбунтовалась рота павловцев?! Уже в который раз этот толстый боров пытается припугнуть меня революцией!.. Не выйдет, я сначала подавлю бунт кучки запасных солдат и голодранцев, а потом буду разговаривать о новом составе правительства и о том, кому будет доверено отбирать в него министров!..»
Родзянко действительно сгустил краски. Ему очень хотелось стать премьером правительства «общественного доверия», и он понимал, что второго такого благоприятного момента может не повториться. Он знал, что вот-вот должен произойти дворцовый переворот и тогда ему невозможно будет рассчитывать на самый высокий административный пост в империи. Оппозиция планировала сделать премьером князя Львова, и Родзянко хитрил даже перед своими соучастниками, стремясь обойти их и вырвать власть из рук царя пока только для себя. В надежде на то, что Николай пойдёт на уступки ему лично, Председатель Думы разослал копию своей телеграммы царю в Ставку и всем главнокомандующим фронтами. Хитрый толстяк понимал, что армия теперь выходит на передний план… На первом этаже губернаторского дома беспорядочно толпились чины свиты. Прямой как палка, несколько медлительный в свои 76 лет, граф Фредерикс стал спускаться по лестнице со второго этажа, от кабинета Государя. Беспечный Воейков, хитрый Граббе, сухой и простоватый историограф-генерал Дубенский, флаг-капитан Нилов, тугодум Кира Нарышкин и слащавый Мордвинов, до которых уже дошёл от генералов слух о телеграмме Председателя Думы Императору, приступили к министру Двора.
– Что?.. Что сказал Его Величество о телеграмме Родзянки? – перебивая друг друга, вопрошали свитские.
Фредерикс остановился на предпоследней ступеньке, обвёл всех старческими впалыми глазами и медленно, скрипуче, изрёк:
– Его Величество… Государь Император сказал: опять этот… толстяк Родзянко… написал мне… разный вздор… на который… я не буду… даже отвечать…
Ни страха, ни паники Николай в воскресный вечер ещё не испытывал. Он даже поиграл в домино, но успокоения эта игра больше не приносила. В душе зрело беспокойство за Аликс, за больных детей – уже почти все лежали с тяжёлой формой кори. Даже Подруга заболела тяжёлой детской болезнью, и Александра перевела её в царские комнаты Александровского дворца, чтобы легче было ухаживать за всеми своими.
В просторной высокой комнате, где стояли только две походные кровати, Его и Алексея, когда Царевич бывал вместе с ним на Ставке, Николай долго не мог заснуть. Оттого, что рядом, на соседней кровати, не было дорогого сына, который так скрашивал его одиночество на Ставке, было особенно тоскливо. Государь присел на кровать и взялся перечитывать последнее письмо Аликс. Он снова порадовался фразе: «Дети веселы, Анастасия и Мария называют себя сиделками, болтают без умолку и телефонируют направо и налево. Они страшно помогают мне, но я боюсь, что они тоже свалятся…»
«Может быть, и лучше, если младшие тоже скорее переболеют этой заразной болезнью…» – решил Николай и перевёл глаза на следующий абзац.
«Сегодня я не приму никого, не могу продолжать приёмов. Но завтра придётся снова. Бойсман… рассказывал мне много о беспорядках в городе (я думаю, больше 200 000 человек). Он находит, что просто не умеют поддерживать порядка. Но я писала об этом уже вчера, прости – я глупенькая. Н е о б х о д и м о ввести карточную систему на хлеб (как это теперь в каждой стране), ведь так устроили уже с сахаром, и все спокойны и получают достаточно. У нас же – идиоты. Оболенский этого не желал сделать, хотя Медем и хотел этого – после того, как удалось в Пскове. Один бедный жандармский офицер был убит толпой, и ещё несколько человек. Вся беда от этой зевающей публики, хорошо одетых людей, раненых солдат и т. д., – курсисток и проч., которые подстрекают других. Лили заговаривает с извозчиками, чтобы узнавать новости. Они говорили ей, что к ним пришли студенты и объявили, что если они выедут утром, то в них будут стрелять. Какие испорченные типы! Конечно, извозчики и вагоновожатые бастуют…
Одиночество твоё должно быть ужасно – окружающая тебя тишина подавляет моего бедного любимого!..»
«Как точно Аликс чувствует моё одиночество без неё и детей!.. – подумал Николай. – Действительно, кто мне здесь близок? Добрый косоглазый друг Алексеев?.. Но я чувствую, он стал в последнее время неискренен, хитрит чего-то!.. Братец Борис или дядюшка Сандро, которые сейчас толкутся в Ставке?.. Но они себя уже хорошо показали после убийства Григория ненавистниками Аликс, а значит, и моими… Адмирал Нилов?.. Он честный и прямой служака, но слишком горяч и вспыльчив… Воейков? Бодрый, весёлый человек, хороший хозяин… Но «Кувака», как его все называют, недалёк умом, даже, пожалуй, легкомыслен, – и не советчик в государственных делах… Долгоруков и Нарышкин – приличные, хорошие люди… Единственный из тех, кто постоянно состоит при мне, граф Фредерикс мог бы быть верным другом, если бы не такая большая разница в возрасте… Он, бедняга, настолько стал стар, что своих не всегда узнаёт… Одна Аликс – мой драгоценный и единственный друг!.. А ведь, пожалуй, в её письме не чувствуется особого беспокойства?..»
Немного умиротворённый чтением письма из дома, Николай лёг, но долго не мог заснуть. Что-то тяжёлое, неизбежное, словно паровой каток, приближалось к нему…
Проснулся он необычно рано, в шесть утра. Сон не освежил, весь он – словно взведённая пружина. Но, по своему обыкновению, натянул на лицо маску бесстрастности. После утреннего чая пошёл необычно рано на доклад в штаб. Алексеева предупредили заблаговременно о приходе Государя. Генерал-адъютант бросил взгляд на календарь и, зловеще ощерясь улыбкой в усы, резко сказал Клембовскому:
– Сегодня – двадцать седьмое!.. Пожалуй, уже пора выталкивать Николая из Ставки… в пустоту! Петроград его уже не примет!
Клембовский, такой же участник кружка заговорщиков-генералов, как и Алексеев, понял своего начальника с полуслова.
– Всё сделаем как надо, Михаил Васильевич!.. Сначала разожжём его как следует, а отправим, если будет готов мчаться защищать свою тигрицу и щенят, только завтра утром… Сейчас для власти дорога каждая минута… Мы заставим его потерять здесь, в Могилёве, часы… Пока наши сторонники не соберут силы, а его – не растеряют свои в бесплодных ожиданиях!..
Ещё до того как Государь побывал в кабинете Алексеева, Воейков доложил ему телеграмму от Протопопова, пришедшую затемно. Министр внутренних дел сообщал о событиях вроде бы успокоительно: вчера в начале пятого Невский был очищен от бунтовщиков, но отдельные участники беспорядков, укрываясь за угловыми домами, продолжали обстреливать воинские разъезды. Но Протопопов опять заверял, что войска действуют ревностно, поступили сведения, что часть рабочих собирается приступить к работе двадцать седьмого.
Доклад Алексеева был на этот раз очень короток. Николай сразу спросил, каким числом пометил генерал Гурко приказ о вводе в столицу гвардейской кавалерийской дивизии с фронта. Начальник Штаба Ставки для видимости поискал такой приказ в книге регистрации важнейших распоряжений, но вынужден был признать, что исполнявший его должность генерал приказа царя не зафиксировал.
– Сдавая дела, генерал-лейтенант Гурко говорил мне что-то о распоряжении Вашего Величества, но якобы начальник Петроградского военного округа доложил ему, что все казармы забиты запасными батальонами и ставить гвардейскую дивизию будет некуда…
Только теперь Император начал понимать, что он окружён заговорщиками и его приказы уже давно не выполняются.
Алексеев, в порядке доклада, вдруг стал зачитывать Государю телеграмму, полученную им от Родзянки для царя за пять минут до его прихода:
«Передайте Его Величеству, что последний оплот порядка устранён. Занятия Государственной думы прерваны. Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Убивают офицеров… Гражданская война началась и разгорается… Государь, не медлите! Час, решающий судьбу Вашу и Родины, настал. Завтра может быть уже поздно».
По тому, с каким нескрываемым ликованием в голосе читал начальник штаба телеграмму Родзянки, Николай понял, что и Алексеев причастен к заговору. Но он не подал и виду, что узнал страшную правду. Его больше обеспокоило то, что господа конфиденты, пользуясь стихийным бунтом черни как «манифестацией» для запугивания Его и прорыва к власти в форме «министерства общественного доверия», ничего не делают для того, чтобы обуздать толпу. Они могут так распустить стихию, что её, без гражданской войны, будет трудно загнать в берега порядка. Он прекрасно понимал, с какими ничтожными людьми имеет дело, и не сомневался в том, что следует жёстко брать поводья в свои руки.
Алексеев чтобы скрыть злорадный блеск своих глаз, опять склонился над картой, лежащей на столе, по которой он делал доклад. Он не выпрямился, когда Император иронически произнёс:
– Мой прадед Николай Первый сказал в 1848 году своей гвардии: «Господа, седлайте коней, в Париже революция!» Видно, и мне пора отдать такой приказ, хотя в Петрограде ещё не революция, но солдатский бунт, с которым не могут справиться генералы…
Генералу Алексееву, размечтавшемуся о том, что скоро получит лавры Верховного Главнокомандующего, победившего Германию, стало нестерпимо стыдно, что он втянулся в грязь дворцового переворота. Он вдруг понял, что всё может идти и не так, как намечали его сообщники. Но старческое упрямство и крестьянское «авось», отравившие его кровь, только ниже пригнули его голову к карте.
– Михаил Васильевич, – обратился к нему Николаи совершенно ровным, обыденным тоном. Вероятно, Государь каким-то шестым чувством уловил смятение в душе старика, столь долго бывшего ему очень симпатичным, да ещё и сейчас, как казалось царю, для него не окончательно потерянного. – Я намерен сегодня вечером, в одиннадцать часов, выехать в Царское Село… Приказываю: для водворения порядка в Царском Селе, а затем в Петрограде отправить с Северного и Западного фронтов по бригаде конницы и пехоты, из Ставки – Георгиевский батальон и пулемётную команду «Кольт». Эти силы подчинить генерал-адъютанту Иванову, которого Я облекаю диктаторскими полномочиями…








