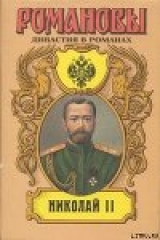
Текст книги "Николай II (Том II)"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 61 страниц)
– Очень хорошо, очень хорошо! – всё больше воодушевлялся король. – Завтра ко мне приезжает в Виндзор брат германского императора, принц Генрих Прусский… Это тоже неспроста! Видимо, Вильгельм уже пустил в ход тяжёлую морскую артиллерию, если посылает ко мне гросс-адмирала!.. – пошутил Георг.
Сэр Эдуард насторожился. Он отнюдь не хотел, чтобы, новичок в дипломатии, его король брякнул немцу что-нибудь такое, что смажет всю игру и перепутает силки, расставленные для Вильгельма, Франца Иосифа и Николая. Но король оказался на высоте. Он стряхнул пепел со своей сигары, которую успел выкурить почти на треть, но горящий конец сразу же скрылся под серым налётом, словно военная хитрость, укрытая нейтральной маскировкой. Затем, подняв два пальца, между которыми была зажата сигара, наподобие буквы «V», твёрдо сказал:
– Я уверю его высочество адмирала Флота Открытого моря, что мы приложим все усилия, чтобы не быть вовлечёнными в войну, и останемся нейтральными! Если надо будет, то я снова повторю ему мысли, высказанные вами Лихновскому, о столкновении четырёх великих держав!.. Без пятой, самой великой, – Британии!..
41Первый звонок к Большой Войне прозвучал 23 июля, когда Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии. Вечером этого дня президент Пуанкаре должен был покинуть Россию на борту броненосца «Франс», и расчёт в Вене был на то, что, пока идёт телеграмма об ультиматуме из Белграда в Петербург, Пуанкаре будет уже в открытом море – не возвращаться же ему обратно в Кронштадт, чтобы сговориться со своими русскими союзниками о совместных действиях. Хитро был выбран не только момент для предъявления ноты, но и её текст написан так грубо и провокационно, что ни одно независимое и уважающее себя государство не могло бы принять австрийского ультиматума. Грубиян Вильгельм, когда ему показали этот документ, очень одобрил его «энергичный тон» и добавил: «Браво! Признаться, от венцев этого уже не ожидали».
Николай даже после длительных личных бесед с Пуанкаре, в которых французский президент обещал своему русскому союзнику максимум военной и политической помощи, если Австрия и Германия попытаются развязать войну, совершенно не желал доводить дело до вооружённого столкновения с Центральными державами. У российского самодержца ещё оставались иллюзии порядочного и богобоязненного человека, верившего в высокие моральные качества других монархов и властителей Европы. Он сам считал пролитие крови большим грехом, ревностно молился каждый день после убийства эрцгерцога о благополучном, то есть мирном, разрешении конфликта на Балканах и верил, что его коронованные родственники вполне искренне говорят о миролюбии, а их правительства не вынашивают никаких коварных планов.
Точно так же Государь ничего не желал слышать плохого о тех его приближённых, кто был заинтересован в развязывании войны либо по карьерным соображениям – возможность отличиться, получать новые чины и ордена, двойное жалованье и тому подобные блага, которые приходят вместе с войной к великим князьям, штабным и придворным, либо в силу личной ангажированности Парижу и Лондону, как у Сазонова, Извольского и министра финансов Барка. Ненависть к Германии и желание воевать с ней возбуждалось также «старым двором», где вдовствующая императрица ненавидела Пруссию за то, что она отобрала у её отца – датского короля – Шлезвиг и другие земли на Ютландском полуострове…
В отличие от своего кузена Вильгельма, Николай считал недостойным занятием разведку, в том числе и политическую. Он отнюдь не жаловал своих генштабистов, которые по долгу службы обязаны были вести шпионаж и контршпионаж против потенциальных противников. Больше того, по представлению генерала Джунковского, человека великого князя Николая Николаевича в Отдельном корпусе жандармов, он даже запретил агентурную работу охранных отделений в армии, хотя революционеры в последние годы очень старались проникнуть в офицерский корпус. Но царь верил в благородство своих офицеров и не желал слушать доносы на них из уст жандармов, хотя история с декабристами-дворянами 1825 года была ему знакома, а волнения в армии в 1905-м немало обеспокоили.
Именно в силу многих подобных причин российский самодержец получал от своих приближённых не полную картину окружающего его мира, а только то, что изволили ему сообщать велеречивые дипломаты по профессии или интриганы генералы по придворному призванию. Как с сожалением отмечали молодые и горячие головы в российском Генеральном штабе, Государя даже не научил уважать разведку опыт недавней русско-японской войны, когда победы Японии на море и на суше объяснялись не в последнюю очередь массовым шпионажем, как японским, так и английским, в пользу Страны восходящего солнца…
Когда Сазонов прочитал Государю утром 24-го телеграмму из Белграда об ультиматуме Австрии и прокомментировал её: «Это – европейская война!», Николай спешно созвал в Фермерском дворце петергофского парка Александрия Совет министров и обсудил со своим Кабинетом ситуацию. Большинство из высших сановников империи разделили мнение монарха о ненужности и несвоевременности для России какой бы то ни было войны – малой или большой.
Совет постановил предложить Белграду решение, сформулированное Государем и поддержанное большинством министров. Россия советовала премьеру Пашичу: если Сербия своими силами не сможет защищаться, то она демонстративно должна не оказывать сопротивления, а заявить, что уступает силе и вручает свою судьбу великим державам. Расчёт был на то, что Николаю удастся передать весь этот вопрос на рассмотрение третейского арбитража в Гааге или конференции четырёх великих держав…
Звучали в этом заседании, правда, и другие голоса, среди которых особенно выделялся петушиный фальцет военного министра Сухомлинова. Генерал заявил, что Россия хочет мира, но полностью готова к войне. Он повторил тезисы задиристой статейки, тиснутой недавно в «Биржевых ведомостях», автором которой был разбитной журналист, но источником и вдохновителем публика не без оснований считала самого военного министра. Сухомлинов легкомысленно призвал коллег-министров к спокойствию, но на всякий случай, «в зависимости от дальнейшего хода дел», предложил объявить частичную мобилизацию четырёх южных военных округов, чтобы тем самым «попугать» Австрию. Государь предложение об объявлении какой бы то ни было мобилизации отверг, не желая провоцировать Австро-Венгрию…
Сазонов сразу же после заседания уехал в Петербург и пригласил к себе на Певческий мост сербского посланника. Он рассказал ему о решениях Совета министров, говорил от имени царя о поддержке, которую окажет Россия своему славянскому союзнику, но дал совет отвести войска и проявить всяческую умеренность в ответе на австрийский ультиматум.
Под давлением России Сербия приняла почти все пункты из австрийских требований, но оставила на размышление и посредничество великих держав лишь одну строку ноты Австро-Венгрии.
В срок, назначенный для истечения ультиматума, сербский премьер Пашич привёз в посольство Австро-Венгрии в Белграде ответную ноту. Посол барон Гизль бегло просмотрел её текст, увидел, что сербы не принимают десятого, последнего пункта, и тут же затребовал свои паспорта. Так было сказано в его инструкции, пришедшей из Вены. И в ней же предписывалось заблаговременно упаковать посольские архивы, чтобы в день истечения ультиматума под любым предлогом не принять ответ Белграда, а немедленно покинуть столицу Сербии.
Только теперь Европа осознала, что находится у жерла вулкана, но ядовитые испарения огнедышащей горы продолжали кружить горячие головы монархов и политиков. Миропомазанные или демократически избранные, они с равным упорством подталкивали свои народы к краю пропасти, которая должна была пожрать миллионы людей, троны, государства…
28 июля министр иностранных дел Дунайской монархии отправил из Вены в Белград по телеграфу объявление войны. В тот же день на сербскую столицу посыпались снаряды из австрийских пушек. Большая Война, ради которой так азартно интриговали в Берлине и Лондоне, Париже и Белграде, Вене и Петербурге, – разразилась. Пока ещё, как казалось обывателям, местный вооружённый конфликт на задворках Европы, где всегда кого-то убивают или кто-то с кем-то дерётся, вроде бы ничего не стоило погасить. Но «пожарные команды» на Уайт-холле, Вильгельмштрассе, Кэ д'Орсе, Певческом мосту и в Шёнбрунне уже наполнили свои бочки керосином и взялись за рычаги «пожарных насосов», чтобы извергнуть на огонь побольше горючего…
…Три дня до начала бомбардировки Белграда Николай провёл в сомнении и колебаниях. Он пытался через Сазонова взывать к Лондону, чтобы Англия оказала воздействие на Берлин и Вену. Из Парижа ему сообщили, что Франция также заинтересована в предотвращении войны, как и он, и делает соответствующие представления на Уайт-холле.
Кузен Вилли, в порядочности которого Николай начал слегка сомневаться, находился в круизе в норвежских фиордах – «вот ведь собезьянничал с наших традиционных походов ещё с Papa в финские шхеры! – думал Император. – И практически недостижим для телеграфной переписки… Вена – упрямится, продолжая злобствовать, и, как докладывает Сазонов, не без влияния Берлина готовится расправиться с маленькой Сербией. А вся ситуация обостряется час от часу…».
Несмотря на глубокое внутреннее беспокойство, которое охватило всё его существо, Николай нисколько не изменил своим привычкам. В субботу, когда истекал срок австрийского ультиматума Сербии, он, как обычно, хорошо погулял утром с детьми в парке Александрии, произвёл смотр Астраханскому полку и передал приз за лучшую стрельбу в кавалерии лейб-гвардии гусарскому полку.
Его волнение, которое он, по обыкновению, ничем не проявил, всё же было замечено тонкими царедворцами во время экстренного совещания с шестью министрами в Фермерском дворце Петергофа, состоявшегося в полдень. Военный министр Сухомлинов и начальник Генерального штаба Янушкевич настаивали на необходимости частичной мобилизации против Австро-Венгрии, сообщив полученные агентурным путём данные о начале скрытной мобилизации в Дунайской монархии, обращённой не только против Сербии, но и против России. Государь при этом докладе не отвёл глаза, как это делал, когда ему что-то не нравилось в аргументах докладчика, а вспыхнул лицом и несколько раз переспросил генерал-адъютанта Янушкевича, можно ли полностью доверять тем людям, которые сообщили об австрийской мобилизации. Но даже Сазонов подтвердил этот факт с посольскими телеграммами в руках. Тяжело вздохнув и перекрестившись, Император повелел Генеральному штабу готовить текст указа о частичной мобилизации военных округов, обращённых против Австро-Венгрии.
День был длинным. Вечером Николай с тремя старшими дочерьми отправился в Мариинку, где давали гала-спектакль в честь 50-летнего юбилея этой Императорской сцены. «Маленькая Кшесинская» танцевала, как всегда, блестяще…
Но в царской ложе и салоне за ней, куда, как обычно в антрактах, пришли молодые великие князья, говорили только о поганых условиях австрийского ультиматума, о том, что его срок уже истёк и что Бог милостив, Он образумит престарелого Франца Иосифа, который конечно же не захочет под занавес своей долгой жизни развязывать всеобщую войну, в которой сгорит его империя…
Вернулись домой в Петергоф в час с четвертью, а на рабочем столе в библиотеке уже лежали новые доклады министров. Среди них привлекло внимание сообщение Сазонова о том, что австрийский посланник в Белграде потребовал паспорта и выехал на родину в тот же вечер. Это так разволновало Николая, что он лёг спать только после трёх часов и долго ворочался, ощущая тяжесть ответственности, которая наваливалась на него.
В воскресенье, после проливного дождя, отстояли с Аликс и детьми обедню в церкви Большого дворца. Усердно молились. Государь был печален и задумчив. Александра перед ликом Божьей Матери не смогла удержать слёз, которые, впрочем, ей удалось скрыть от прихожан благодаря сумраку, царящему в приделе, где были постоянные места Семьи.
Когда возвратились в Нижний дворец, волнение чуть спало, и Государь пошёл на Ферму принимать шталмейстера Мекленбург-Стрелицкого Двора, прибывшего с официальным известием о смерти Великого герцога, дальнего родственника Александры. Сам факт приезда посланца из Германии в Россию был истолкован как благоприятный признак спокойствия в отношениях с Вильгельмом. Николай немного успокоился и даже повеселел.
Понедельник оказался совсем не тяжёлый. При чудной погоде гуляли, играли в теннис. Хорошего настроения не испортил даже приезд министра внутренних дел Маклакова с докладом о разгорании забастовок и увеличении числа хулиганских проявлений рабочего сословия против властей и почему-то против трамвайных вагонов. На трамваи нападали толпы вандалов, портили внутреннее оборудование и разбивали стёкла. Решили казаков с нагайками в дело не пускать, чтобы не дать иностранным газетным корреспондентам излюбленной пищи – казаки и нагайки – для писаний о России в нынешние сложные времена, а ограничиться усиленными нарядами полиции у казённых заводов, особенно военных. Единственное, что больно кольнуло Императора в докладе Маклакова, так это ссылка на какого-то чиновника германского посольства, который в частном разговоре сказал о после Пурталесе, будто тот в своих телеграммах Вильгельму преувеличил число забастовщиков в Петербурге – назвал цифру в полтора миллиона – и на этом основании сделал вывод, что Россия не может вести войну.
Утро вторника, 28-го, опять тёмным крылом накрыло разум и сердце Императора. Приехали военный министр и начальник Генерального штаба. Каждый из них принёс всё более тревожные вести из Австрии и Германии о военных приготовлениях Центральных держав, о шовинистической истерии, сербо– и русофобии, царящих в толпах германских бюргеров на улицах Берлина и на страницах венских газет.
За завтраком, накрытым на балконе Фермерского дворца, успокоения также не последовало. Чёрное настроение только усилили разговоры о несчастных южных славянах с приехавшими в Петербург и приглашёнными на царский завтрак Еленой и Верой Черногорскими. Родные сёстры «черногорских галок» – Анастасии и Милицы, дочери экспансивного и эгоистичного короля Негоша появились в России словно по заказу сторонников войны, среди которых особенно рьяно выступали великие князья Николай и Пётр Николаевичи и их супруги-черногорки Анастасия и Милица. Сидя за столом и слушая глупо воинственную болтовню «младшеньких галок», которые продемонстрировали, как и их старшие сёстры, плохое воспитание, говоря одновременно и притом с полными ртами о том, что всё славянство переживает исторические, священные дни кануна сражения с пангерманизмом, Николай начал тихо злиться. В довершение всего он вспомнил, как недавно, во время визита французского президента в Петербург, дядя Николаша, супруг Станы, давал после парада в Красном Селе обед в честь Пуанкаре у себя в саду. Тогда старшая «галка» – Милица – с нарочито громким энтузиазмом болтала о том, что их отец, Негош, прислал ей телеграмму, в которой объявлял своим дочерям, что ещё до конца месяца будет Большая Война с Австрией и от Дунайской монархии ничего не останется, а русская и французская армии соединятся в Берлине. Потом она демонстрировала почётным гостям бонбоньерку, куда якобы два года тому назад, будучи во Франции, насыпала земли с территории французской провинции Лотарингия, оккупированной немцами, и которую носит теперь всегда с собой как амулет. Государю пришлось грозным взглядом остановить её подстрекательские излияния…
«А Стана, хозяйка обеда, тоже хитрая дура, – молча думал тогда Николай, – велела украсить стол почётных гостей не цветами, а чертополохом и объявила, что семена этого сорняка, который входит в государственный герб Лотарингии, привезла тогда же с отторгнутой немцами территории и вырастила теперь в своём саду… Разумеется, Вильгельму сразу же доложили об этих «геройствах» русских великих княгинь, и Вилли тогда же не преминул воспользоваться столь германофобскими поступками великокняжеского семейства, чтобы устроить скандал… А теперь Стана вспоминает эту опереточную историю, чтобы позлить германского посла Пурталеса, а её супруг приказал играть на смотру только французские «Лотарингский марш» и «Марш Самбры и Мезы»… Пришлось изменить собственной сдержанности и приструнить тогда и Стану. Неужели она не ведала, что говорила? Ведь из-за этого польются потоки крови!.. Хорошо их отцу, Негошу!.. Сидит себе за горами на берегу Адриатики, получает по два миллиона золотых рублей от России в год и хочет чужими руками себе новые территории загрести…»
Парадный завтрак с роднёй так и не принёс Императору никакого удовлетворения, а только ещё больше обострил чувство ответственности, которое и так давило на его плечи. Он терпеть не мог, когда его заставляли делать что-то, что было против его убеждений или намерений. Но черногорки явно толкали его на войну, хотя и знали, что он не хочет ввергать Россию в вооружённый конфликт, и это было ему особенно неприятно.
Последний удар по теплившимся ещё надеждам нанёс Сазонов. Он приехал перед обедом, чтобы сообщить ужасную новость: сегодня в полдень Австрия объявила войну Сербии… При этом министр только вскользь упомянул о возвращении Вильгельма наконец в Берлин.
Если первое сообщение Сазонова опустило душу Николая в бездны отчаяния и свинцовый груз ответственности стал почти невыносим, то возможность связаться теперь с Вильгельмом оставляла, как он стал надеяться, хоть какой-то шанс избежать войны. Чтобы не беспокоить своим дурным состоянием близких, которые любящими сердцами безошибочно чувствовали взлёты и падения его настроений, Государь сразу после обеда, который прошёл в тягостном молчании, удалился в кабинет и стал сочинять телеграмму кузену Вилли.
«Я рад Твоему возвращению…» – написал Николай по-немецки, но скомкал листок и выбросил его в корзину для бумаг. «Вот ещё, буду я писать ему на его родном языке, отдавая тем самым Вильгельму незаслуженную почесть! Ведь он сразу мог остановить своих младших братьев в Вене, чтобы они вели себя корректней, но не сделал этого… Напишу-ка я по-английски – он всегда хвалится, что хорошо владеет этим языком, хотя произношение у него чудовищно германское, с рыкающим «р»…» – решил Государь, взял другой листок и написал ту же фразу по-английски. Затем продолжал:
«В этот весьма серьёзный момент Я призываю Тебя помочь Мне. Позорная война объявлена слабой стране. Возмущение в России, полностью разделяемое Мной, огромно».
Николай поставил точку и задумался: «Надо дать ему понять, что дело кончится плохо и мы можем выступить в защиту Сербии, тем более что меня со всех сторон толкают к этому – Сухомлинов, Сазонов, послы Франции и Англии, черногорки, великие князья, так называемая «общественность», наконец!.. Может быть, Вилли говорил правду, когда заявлял, что не хочет войны? Проверим теперь!..» И продолжал с лёгким нажимом пера формулировать свои мысли: «Я предвижу, что очень скоро Я буду сломлен давлением, оказываемым на Меня, и буду вынужден принять чрезвычайные меры, которые приведут к войне. Чтобы попытаться предотвратить такое бедствие, как европейская война, Я умоляю Тебя во имя нашей старой дружбы сделать так, чтобы Ты мог остановить Твоих союзников, зашедших слишком далеко».
Государь закончил свой набросок и задумался: как подписать? Если поставить «Николай», то будет пока слишком официально – ведь он воззвал к старой дружбе, в которой два десятилетия кузен заверял его в своей преданности и искренности. Поэтому он черкнул короткое «Ники» и вызвал дежурного флигель-адъютанта Арсеньева.
– Немедленно передайте на телеграф, не шифруя… – приказал Император, протягивая листок.
Когда флигель-адъютант со всех ног бросился исполнять поручение, Николай снова задумался. Тяжёлое чувство не оставляло его. Он вспомнил паническую телеграмму сербского престолонаследника Александра с просьбой о помощи, когда австрийцы предъявили грубый ультиматум, свой ответ, который фактически был обещанием помочь: «Россия никогда не останется равнодушной к судьбе Сербии…», и ему стало казаться, что, может быть, зря он сразу не объявил войну этой подлой Австрии, которая так низко обманула в 1909 году Россию и весь европейский концерт держав, захватив Боснию и Герцеговину и выставив на посмешище российского министра иностранных дел Извольского…
«Это было бы благородно, но… Эмоциями делу не поможешь… Они только вредят… Решать надо на холодную голову…» – приводил он сам себе доводы, почему ещё питает надежду на переписку с Вилли – ведь речь идёт о жизни, которую Бог дал людям, а война способна в одночасье отнять её у десятков, даже сотен тысяч! И такой грех непросто будет отмолить у Создателя и Богородицы…
Николай пытался читать, но ни русские, ни английские книги не держались у него в руках. Он приказал постелить ему тут же, в кабинете, чтобы не беспокоить Аликс, у которой сон и так был очень некрепок, а в эти дни обычная нервность перемежалась у неё с такой жестокой бессонницей, что она почти не смыкала глаз. Но ещё до того, как залезть перед сном в ванну, Государь приказал камердинеру Тетерятникову немедленно доложить ему любую телеграмму, которая придёт из Берлина от Кайзера Вильгельма.
В пять часов утра Тетерятников принёс ему бланк с наспех наклеенными телеграфными ленточками и подписанный коротко: «Вилли». На телеграмме стояло и время подачи её на Главном почтамте Берлина –«1 час 45 минут пополуночи». Государь торопливо пробежал глазами текст:
«С глубоким огорчением Я услышал о впечатлении, которое произвели в Твоей стране действия Австрии против Серии. Беспринципная агитация, которая имела место в Сербии долгие годы, привела к возмутительному преступлению, жертвой которого пал эрцгерцог Франц Фердинанд. Ты, без сомнения, со Мной согласишься, что Мы оба, Ты и Я, имеем общие интересы, так же как и все монархи, добиваться, чтобы все, кто морально ответствен за это трусливое убийство, понесли бы заслуженное наказание. В этом политика не играет никакой роли.
С другой стороны, Я вполне понимаю, как трудно для Тебя и Твоего правительства столкнуться лицом к лицу с волной общественного мнения. Тем не менее, что касается сердечной и нежной дружбы, которая связывает нас давними крепкими узами, Я окажу всё своё возможное влияние, чтобы убедить австрийцев поступить честно в достижении достаточного взаимопонимания с Тобой…»
Николай обрадовался, прочитав телеграмму. Он увидел в ней то, что хотел. «Он не отказывается от дружбы, он обещает подействовать на австрийцев, чтобы смягчить их позицию!..» – решил Государь, и спокойствие стало к нему возвращаться. Вставать так рано он не привык, поэтому перевернулся на другой бок и попытался снова заснуть. Это ему удалось, ибо надежды на мирный исход возросли.
Освежённый спокойным сном, к девяти утра он вышел к завтраку в маленькую столовую, расположенную как раз между его кабинетом и спальней Аликс. Жена, которая и в обычное время могла потерять сон и спокойствие от какой-нибудь мелочи, теперь целые сутки не могла найти себе места. Она не спала всю ночь, слышала, как ранним утром в кабинет Ники что-то принесли, и поняла, что это могла быть телеграмма от Вильгельма.
Александра тихонько плакала и молилась у себя в спальне, стараясь, чтобы дети не заметили её подавленного настроения и не стали расспрашивать, отчего у Mama не просыхают слёзы.
Глупышки, воспитанные в чисто русском духе, они не могли понять, что именно сейчас жестоко сотрясались все семейно-династические основы родственных чувств, воспитанные у Аликс в кругу её любимой бабушки, королевы Виктории. Ей с детства привили обязанность любить и уважать многочисленный клан родственников, независимо от того, в каких государствах они занимали троны. Георг, Вильгельм, её родной брат Эрни – все были такими же внуками королевы Великобритании, как и она, но вот теперь европейский кризис грозил поставить их всех, вместе с огромными армиями, которыми они предводительствуют, друг против друга. Её Ники должен был вступить в смертельную схватку с Вильгельмом, на стороне которого будет воевать её родной брат Эрни, генерал германской армии… Но Георг пока ещё ни словом не дал понять, на чьей стороне будет Англия… А ведь коварный Георг может быть заодно с Вильгельмом… И что будет тогда? Её новая родина, которой она посвятила свою жизнь с тех самых пор, как нашла здесь единственного и безгранично любимого человека, совершенно искренне и нелицемерно крестилась в православие, чтобы слиться с Его народом в Вере, погрузилась в эту религию и нашла особенное успокоение в её почитании Богоматери, теперь находится под угрозой остаться один на один против всей Европы, исключая Францию, которой самой необходима защита… И причина всего этого кошмара – Вильгельм, которого она возненавидела с того самого дня, когда увидала его в первый раз ещё студентом, влюблённым в её старшую сестру Эллу… Вздорный и капризный грубиян, позёр, лживый и хвастливый эгоист, коварный и лицемерный трус, способный предавать из зависти и ради злобного удовольствия… А Ники!.. Он до сих пор верит этому обманщику, хотя его много раз предостерегали против него!.. Уж сколько раз этот пруссак, подмявший под себя все германские государства, подводил доброго и доверчивого, как все чистые люди, Ники… Неужели и теперь этому скандалисту удастся обмануть Николая?!
Кулачки Императрицы сжимались от злости, она была готова своими руками разорвать возмутителя спокойствия в её Семье. Будь её воля, она низложила бы его и отправила… Нет, не в Сибирь, где этот изнеженный тип мгновенно превратился бы в сосульку, а куда-нибудь в африканские колонии, сырые и жаркие тропики, которые он так жаждет отобрать у Англии и Франции… Несколько лет, которые Вильгельм провёл бы в обществе москитов и крокодилов, наверняка исправили бы его вздорный характер…
За дверью спальни, в которой Александра медленно приходила в себя после бессонной ночи, в Малой столовой, послышался шум, означавший приготовления к царскому первому завтраку.
Государыня быстро стала пудрить покрасневший от слёз нос, надела простое домашнее ситцевое платье и прикрыла начинающую стареть шею широким, во много рядов, жемчужным ожерельем. Постояв несколько минут перед большим зеркалом и окончательно взяв себя в руки, Аликс твёрдой походкой вышла в столовую и заняла своё место во главе стола.
Ники ещё не было, хотя приготовления к завтраку, который он явно заказал, уже закончились. Аромат кофе становился уже просто невыносим, аппетитные румяные булочки добавляли к кофейному аромату неповторимые нюансы, жёлтое чухонское масло, снятое со льда, искрилось каплями воды. По знаку Императрицы камердинер Волков наполнил её чашку крепким душистым напитком. От мысли взять или нет хрустящую булочку Аликс отвлёк приход Николая.
Заботливым взглядом любящей женщины Аликс оглядела мужа и осталась довольна. Ники явно хорошо выспался и казался действительно успокоившимся.
Когда он уселся на своё место vis-a-vis[118]118
Напротив, визави (фр.).
[Закрыть] супруги, то не удержался, помахал каким-то листком и торжественно вымолвил:
– А Вильгельм-то обещал воздействовать на Австрию, чтобы уладить дело миром!..
– Неужели?! – выразила сомнение Александра.
Николай передал ей через Волкова телеграмму и стал наблюдать, как отреагирует на неё Аликс. Ему не понравилось, что лицо Государыни не изменилось от чтения документа. Тогда он сделал вид, что всё внимание его занято кофе и булочками.
Аликс прочла телеграмму дважды и затем брезгливо отложила её в сторону.
– Я бы не стала доверять Вильгельму, – сухо заметила она. – Он здесь не даёт твёрдых обещаний, а увиливает, как всегда… Ему нельзя верить!.. – На глаза Императрицы вновь навернулись слёзы.
Николай и сам подсознательно чувствовал, что в телеграмме кузена таится какой-то подвох, но он очень хотел не ошибиться снова в Вилли, а с его помощью восстановить мир и спокойствие на Балканах. Слова Александры не задели его – он видел, что Аликс воспринимает многое, в том числе и международную политику, гораздо тоньше, чем он. Ему хотелось успокоить её, найти аргументы в пользу кузена. Пока он думал об этом, открылась дверь, и Тетерятников принёс на серебряном подносе точно такой же листок телеграммы, какой голубел у прибора Аликс.
Николай взял бумажку и быстро прочитал её. Оказалось, это был ответ Вильгельма на телеграмму, посланную царём ещё вчера.
«Для России вполне возможно, как она всегда заверяла, оставаться зрителем австро-сербского конфликта без вовлечения Европы в самую ужасную из войн. Я думаю, прямое понимание между Твоим правительством и Веной возможно и желательно, и, как Я уже телеграфировал Тебе, Моё правительство продолжает свои усилия, чтобы способствовать этому. Конечно, военные меры России, рассматриваемые Австрией как угроза, могут ускорить бедствие, которого мы оба желаем избежать, и подвергают опасности моё положение посредника, которое Я охотно принял в ответ на Твой призыв в моей дружбе и помощи. Вилли».
Николай молча положил телеграмму на поднос Тетерятникова и знаком велел ему передать Императрице.
– О каких наших военных мерах он пишет? – возмущённо сказал он в пространство, поскольку Аликс ещё не успела прочесть и первой строчки. – Это он сам и Австрия проводят скрытную мобилизацию, как мне вчера вечером доложил Сухомлинов… А у нас будет только частичная… Это Австрия объявила войну, а он предупреждает о каких-то моих военных мерах!.. Что за чушь! – Император так резко поставил чашку на блюдце, что остатки кофе несколькими каплями испачкали белизну скатерти. Николаю сделалось ужасно стыдно за свою резкость, и он слегка покраснел.
Александра дочитала телеграмму, немного подумала, а затем, тряхнув головой, заявила твёрдо:
– Он тебя обманывает! Я не верю ни единому его слову!..
Тетерятников, удалившийся было за дверь, вдруг снова показался с пресловутым подносом, от которого сегодня исходило какое-то беспокойство.
– Телеграмма агентства «Гавас»… – доложил он.
Николай взял листок в руки и увидел только несколько слов: «Сегодня утром австрийская тяжёлая артиллерия начала бомбардировку Белграда».
Лицо Государя сразу почернело, тяжкий груз ответственности за готовность армии к отражению противника вновь навалился на него. В юности отец потребовал у него пройти курс Академии Генерального штаба. Он сделал это с удовольствием, хотя об этом особенно и не распространялись тогда, но теперь он понимал сложность момента, переживаемого страной и армией, гораздо лучше, чем многие его военачальники.








