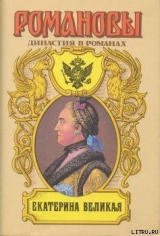
Текст книги "Екатерина Великая (Том 1)"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 62 страниц)
Однако вышло иное…
Сашок съездил и вернулся важный, радостный, с хорошей вестью. Перекусихина сама приняла его, незнакомого ей молодого офицера, так ласково, так обрадовалась, что князь Александр Алексеевич в Москве и желает её видеть, что Сашок совсем не конфузился. И конечно, по всему вероятно, она примет князя как настоящего приятеля.
На другой же день, около полудня, как было ему назначено, князь явился в Петровское. Он был тотчас же принят Перекусихиной, и умная, тонкая женщина, усадив его, спросила прежде всего:
– Чем мне вас угощать?
– Помилуйте, Марья Саввишна, я не за тем! Я явиться… – начал князь.
– Полно, полно! Не могу я вас так принимать, как других. Нужно какое-либо отличие. Будем мы этак беседовать, выйдет какая-то аудиенция. А мы ведь с вами – старые приятели. Ну, давайте кофе пить!
И она приказала тотчас же горничной кофе сварить самой.
– Не на кухне. А сама…
– Слушаю-с.
– Знаешь, какой? Тот самый, что я для государыни варю – гамбургский! У меня не простой гость сидит, – показала она на князя, – а мой давнишний, хороший благоприятель.
Князь, конечно, понял, что всё это было сказано горничной умышленно, чтобы окончательно убедить его, как относится к нему женщина.
– Ну, князь, а денежки свои ты всё-таки малость обожди! – сказала Перекусихина тотчас же.
– Что вы! Что вы! – привскочил Козельский. – Да и поминать не могите об этом! Отсохни мои руки, если я эти гроши назад получу!
–Что вы? Как можно!
– Да так! Ни за что не возьму! Что хотите делайте! Хоть в крепость меня пускай посадят, а я эти деньги назад не возьму. Сами вы знаете, Марья Саввишна, что при моём достоянии такие деньги – совсем маленькие.
– Не в том дело, князь, а всё-таки они были взяты взаймы…
– И говорить об этом не хочу! Ни за что на свете их не возьму!
– Как знаете. Тогда я должна доложить…
– Вы меня обижаете, думая, что я за этим приехал к вам. Я приехал, просто желая вас видеть, поздравить и порадоваться, что обожаемая вами особа стала российской императрицей. Да ещё как! Спасла отечество, веру. Спасла всех нас, россиян, от больших бед! Небось, как теперь счастлива государыня от достижения святой цели!
– Ох, князь, ошибаетесь вы! – печально ответила Перекусихина. – Если бы вы видели мою горемычную государыню! Нет человека на свете более несчастного.
– Что вы? – изумился Козельский.
– Да, князь! Хорошо так вчуже судить, заглазно, а если бы все знали, каково положение государыни? Другому кому я бы так сказывать не стала… Но вам, моему старому благоприятелю, я прямо говорю: положение наше ужаснейшее. Я сказываю «наше», потому что всё, что касается государыни, касается и меня. Улыбнётся она – и я счастлива. Заплачет она – и я несчастнее самых несчастных. А положение поистине мудрёное. Такое мудрёное, что ум за разум заходит…
– Да что же такое? – спросил князь, продолжая изумлённо глядеть в лицо женщины.
– Да как вам сказать? Коротко скажу. Кругом одни козни, одни враги… Вороги лютые!
– Кто?
– Да все!
– Да как все, Марья Саввишна?
– Да все! Как есть все! Начать пересчитывать, так и конца не будет…
– Да назовите хоть кого-нибудь… А то я и понять не могу.
– Извольте. Злокознят на мою бедную государыню самые близкие: господа Орловы, граф Воронцов, Бестужев, княгиня Дашкова, Теплов, Бецкой… Хотите, ещё кого назову? Могу ещё много народу назвать! А пуще всех заедает её злая собака… Ну, тьфу! Обмолвилась я… Да с вами можно! Вы меня не выдадите. Да прямо скажу: именно злая собака!
– Кто же такой?
– Между нами, князь! Под великим секретом… Я привыкла с вами не скрытничать.
– Конечно! Конечно! Помилуйте! Неужто вы ко мне веры не имеете теперь. Вспомните только… – воскликнул весело князь. – Вспомните, какие мы беседы вели когда-то в Петербурге. Такие, за которые мог я тогда в крепость попасть.
– Да и я тоже, ещё скорее вас, – улыбнулась Перекусихина, оживляясь на мгновение, и прибавила тише: – Ну-с, вот. Пуще всех одолевает государыню Никита Иванович Панин.
– Каким образом?
–Да просто! Вы его знаете?
– Знаю! И достаточно!
– Знаете, что он человек, коего честолюбию нет предела?
–Это верно!
– Ещё при покойной императрице он надеялся стать скорей властным человеком, да Шуваловы удалили его и так ли, сяк ли заставили его просидеть в Швеции. Сделавшись воспитателем государя наследника, он, конечно, снова возомнил о себе… А теперь, когда вступила на престол государыня, он совсем разум потерял, прожигаемый своим честолюбием. И сказывать, князь, нельзя, что он измыслил! Боюсь я говорить…
– Полноте, Марья Саввишна, мне это недоверие ваше даже обидно. Не то было прежде… – сказал князь с упрёком.
– Извольте! Неужели вы не слыхали, что он при отречении Петра Фёдоровича измыслил со своей партией, с главным своим орудователем – Тепловым немедленно объявить императором юного Павла Петровича, государыню – простой правительницей, а себя тоже правителем. И стало быть, до совершеннолетия великого князя он стал бы править всей Россией самовластно, как регент. Так же, как когда-то правил Бирон, если не с той же злобой, то с той же властью. И вот эти его ухищрения государыня тогда одолела. Помогли много, правду надо сказать, Орловы со своими ближними. Ну вот теперь Никита Иванович новое и затеял. Одно не выгорело, он за другое схватился, и такое же – не меньшее.
– Да что же, собственно? – крайне удивляясь, спросил Козельский.
– Да неужели в Москве ничего не слышно об этом?
– Может быть, и слышно, Марья Саввишна, да до меня не дошло! – схитрил князь.
– Ну, так я вам скажу. Никита Иванович желает, мало сказать, прямо-таки требует, чтобы государыня тотчас после коронации объявила манифестом об учреждении Верховного Совета, состоящего из пяти лиц, и, конечно, в сём Совете главным лицом будет…
Перекусихина запнулась и смолкла, так как горничная вошла с подносом, где дымился кофе… Когда она поставила его пред князем и вышла, Перекусихина заговорила тише:
– Главным заправилой и коноводом будет, конечно, сам граф Панин. И будет этот Совет императорский управлять всей империей.
– Станет он, стало быть, – спросил князь, – выше сената?
– Ещё бы! Гораздо выше! Да что лукавить. Понятно, что это за Совет! И вы сами понимаете. Сии императорские советники станут выше самой императрицы! Никита Иванович почти и не скрывает, что советники императорские будут решать дела и докладывать императрице не для решения, а для обсуждения якобы и подписания.
– Ну, не ожидал! – воскликнул князь. – Однако стоит ли государыне тревожиться и озабочиваться этим? Сказать Никите Ивановичу, чтобы он очухался, сидел смирно – и конец! Ну а другие-то что же? – прибавил князь. – Почему тоже вороги лютые?
– Другие-то? Всякий со своим! Братья Орловы недовольны, что одна их затея не ладится. А затея такая, что я и вам сказать не решаюсь. Княгиня Дашкова недовольна, что государыня не призывает её ежедневно на совет, как какие государственные дела решать, и на всех перекрёстках кричит, что она одна предоставила государыне российский престол, что без неё ничего бы не было, всё бы рухнуло и государыня была бы в заточении, а не императрицей, а государь был бы женат на её сестре, Воронцовой. Бестужев из себя выходит, а когда под хмельком, то на стену лезет – желает быть опять и скорее канцлером. Да и все-то, кого ни возьмите, все недовольны, все ропщут, всякий просит своего. Да и грозится. Вот это обидно!
– Грозится?! – повторил князь. – Да я бы за эдакое… В Пелымь! В Берёзов!
– Да, князь, грозится всякий чем-нибудь. Иван Иванович Шувалов открыто сказывал, тому с месяц, что по закону, да и по совести настоящий наследник престола Иван Антонович.
– Ах, разбойники! – воскликнул князь. – Прямо разбой. Бунт! В Пелымь! А то пусть вспомнят Артемия Петровича Волынского.
– Да и этого всего-мало. Одну из главных забот государыни я позабыла, – продолжала Перекусихина. – Всё российское духовенство…
– Требует возвращения отобранного имущества? – спросил князь.
– Конечно!
Князь не ответил и потупился.
– Что молчите?
– Да как бы вам сказать, Марья Саввишна. Молчу потому, что, воля ваша, а я сей государственной меры не полагаю справедливой. Нельзя духовенство большой империи пустить по миру и заставить жить впроголодь. Нельзя делать не только из митрополита, а даже из простого приходского священника простого наёмника, приравнять его якобы к какому знахарю, что ли: пришёл, дело своё справил – и вот тебе в руку гривну-две. Этим и живи! Доходы духовных лиц должны были быть оставлены. Эта государская мера была вреднейшая. Недовольство всего российского духовенства я прямо оправдываю. Не гневайтесь на меня!
– Дорогой мой князь, – воскликнула Перекусихина, – что же вы скажете, если я вам открою, что государыня говорит то же, что и вы! Чуть ли не самыми этими словами. Да сделать-то ничего нельзя! Нельзя вернуть имущество, когда оно уже раздарено, раскуплено, принадлежит другим лицам. А главное: знаете ли вы, что будет, если монастырские бывшие крестьяне снова попадут в крепость, из которой избавили их? Крепость, которая была для них особливо нежелательна и противна, зависит от монахов, а не от дворян! Как вы полагаете, если снова все эти сотни и тысячи приписать опять к монастырям, что будет? Бунт будет! Появится новый Стенька Разин на Руси! Думали ли вы об этом?
– Да, правда. Дело мудрёное! Это вот забота пущая, чем разные мечтанья Шуваловых или Паниных.
– Ну а иностранные дела, князь, в каком они виде? В заморских землях ничего, думаете, не делают, никаких подкопов не ведут? Даже прусский король, любивший Петра Фёдоровича, как бы какого любимого сына, – и тот клятву дал прямо стараться лишить государыню престола.
– На это, Марья Саввишна, руки коротки!
– В такие смутные времена, которые мы переживаем в Москве, всё, князь, возможно! Всякие короткие руки длинны!
Дав Перекусихиной высказаться, князь, разумеется, заговорил о своём деле. Но он не стал просить Марью Саввишну помочь, а очень искусно объяснил, что у всякого своё горе, свои заботы. И вот у него, князя, новая забота, где деньгами не поможешь. Племянник, офицер-измайловец, князь Козельский, такой же, как и он. И приходится покидать место ординарца, а другого нет.
– Ну это всё пустое, князь, – улыбнулась Перекусихина. – Я счастлива буду вам в пустяках услужить. Румянцев покинул командование армией в Пруссии и приезжает поклониться новой царице. На днях будет здесь. И вот я ему словечко скажу… И будет ваш племянник на видном месте, а не у Трубецкого.
– Ну, спасибо вам, дорогая Марья Саввишна, – воскликнул князь. – А я сейчас прямо от вас еду к Никите Ивановичу и буду… как это по французской пословице… Буду у него из носу червей таскать… Выведаю всё, что мне нужно… А нужно мне, чтобы действовать. Вернее, чтобы горланить по Москве. Горланить иногда как бывает хорошо и полезно, если горланишь умно и хитро.
XVВажной особой благодаря уму, тонкости и хитрости был Никита Иванович Панин в эти смутные дни начинающегося третьего месяца царствования новой императрицы, которую закон коренной и естественный допускал, разумеется, быть лишь правительницей за малолетнего сына, а не монархом. Всё натворило смелое, отважное, ловко задуманное и лихо произведённое питерское «действо» гвардии с Орловыми во главе.
– На бунтовщичье лихое действо есть постепенное, скромное, но твёрдо неукоснительное воздействие законом, – рассуждал Панин, стараясь теперь из монархини сделать регентшу de facto.
Приехав к Панину, князь нашёл его в радостном настроении духа. Он, видимо, старался если не скрыть, то хотя бы смягчить своё почти восторженное состояние души. В глаза бросалось, что с ним что-то случилось особенное, сделавшее его счастливым.
Князь не мог промолчать и выговорил:
– Полагаю, что есть что-либо новое и вам приятное.
– Да… да… Воистину приятное, – заявил Панин. – Радуюсь. Счастлив. Но не за себя, а за отечество. За империю.
– Вон как! – удивился князь. – Полный и конечный мир с пруссаками заключён?
– Нет… Это что… Лучше того… На короля Фридриха мы можем теперь рассчитывать… Есть нечто важнейшее, благодетельнейшее не для внешних, а для внутренних дел.
– Для внутренних? – удивился князь очень искусно.
– Да. Я не могу вам сказать всего… Это государственная тайна. Скажу только, что я подал государыне прожект нового важнейшего учреждения, главнейшего в империи. Ну вот, государыня мне сегодня передала, что одобряет сей прожект и не замедлит поведать о нём во всенародное сведение. Но что такое именно, я не могу вам сказать.
– Я вам скажу, Никита Иванович.
– Вы? Полноте. Что вы! Это известно лишь государыне, мне, сочинителю прожекта, да разве ещё двум персонам, графу Алексею Григорьевичу Разумовскому да будущему графу Григорию Григорьевичу, конечно…
– А от него, Орлова, с братьями и всей Москве.
– Что вы?! – изумился Панин.
– Верно. Я всё-таки больше москвич, чем вы, и знаю больше. Поверьте, что всякое и важное и пустое, доходящее до дома будущих графов, тотчас расходится по всей столице.
– Это горестно, князь…
– Конечно.
– Но, право, я думаю – вы ошибаетесь… Ну, скажите, про что я, собственно, говорю. Коли правда, я признаюсь вам.
– Вы сказываете о новом учреждении при царице. Властном, высоком, которому и именование будет: «верховный», и ещё другое именование: «тайный».
– Да! – тихо вымолвил Панин. – Да.
– Вот видите. Москва знает и уже пересуживает на свой салтык.
– Что же она говорит?
Князь внутренне рассмеялся тому, что собирался ответить или выпалить, так как Панин, очевидно, судя по их разговору, считает его в числе своих сообщников.
– Ну-с, что же она говорит?
– Москва-то, Никита Иваныч?
– Да.
– Она говорит – дудки!
– Как?
– Дудки! Вам известно оное выражение российское?
– Известно, князь, – сумрачно ответил Панин, – Но я его не понимаю хорошо в сём случае, о коем речь у нас.
– Москва Московна, старушенция, – заговорил князь другим голосом, – привыкла жить по-Божьи. Не может судить старуха всякое обстоятельство, как судит мальчугашка, у коего ещё и пушка на губах нет и которому по молодости лет всё простительно. Простительно и легкосердечие, и легкомыслие. На то он и мальчугашка.
– Про кого вы говорите, князь?
– Про Петербург, Никита Иваныч, которому только шестьдесят лет. А это для города, да ещё для столицы, то же, что для человека младенчество.
Наступило молчание, после которого Панин выговорил:
– Тут дело не в столицах – в Петербурге те же русские люди и те же сыны отечества.
– Однако многое, что творится в Питере и кажется хорошим, даже нарядным, Москве кажется совсем негодным. Вот Москва теперь и сказывает, что коли Россия пережила одного Бирона, то зачем же ей наживать снова временщика с царской властью и без царской ответственности пред Богом. Москва говорит: пускай царь или царица хоть и худо в чём поступит, да это худо будет царское худо, помазанника Божия! И как таковое, пожалуй, оно окажется лучше проходимцева добра. Вот ваше учреждение совета, который будет править и царицей, Москве и не по душе.
– Не царицей, князь, а империей. В облегчение забот и трудов царских…
– Ох, Никита Иваныч! – закачал князь головой. – Облегчение?! Слово придумано удивительное. У нас по дорогам обозы вот грабят… Зло великое для торговли и неискоренимое. Купец говорит, вздыхая: «Опять обоз у меня в пути облегчили».
Панин насупился и не отвечал ни слова.
«Ну, отвёл душу?» – подумал князь и тотчас же стал прощаться.
И затем целый день до вечера и весь следующий день князь разъезжал по Москве, по друзьям и знакомым, и на все лады осуждал «надменномыслие» пестуна цесаревича.
Через два дня разговор князя Козельского с Паниным был уже известен Перекусихиной. Сам князь снова съездил к любимице государыни и передал всё подробно. Он прибавил, что уже два дня всюду «горланит» таковое же. И всюду его «громогласное насмехание» над прожектом Панина встречает общее сочувствие.
И это была истинная правда. Москва дворянская ахнула при известии о том, что будет пять, а кто говорит, и восемь верховных правителей, якобы советников монархини, которые будут «некоторое происхождение дел» решать и вершить, даже не докладывая о них государыне, чтобы «облегчить» её труд. Но Москва даже не встревожилась, даже не сердилась. Она, матушка, «золотая голова», только смеялась и ради смеха спрашивала:
– Кто же такие эти будущие верховные, тайные правители? Коли бедные, то будут скоро богаты… только не разумом!
По совету той же Перекусихиной князь собрался к фельдмаршалу Разумовскому.
– Ступайте, князь… – сказала она. – Ступайте и передайте графу Алексею Григорьевичу от меня поклон нижайший и прибавьте: Марья Саввишна приказала-де вам сказать, что если у вас имеется теперь любопытное писание гордого сочинителя, то покажите-де его мне, князю. Вместе посмеёмся, да смеясь и рассудим, так как оба здравосуды, а не кривотолки.
Князь понял, в чём дело, и рассмеялся. И он тотчас же отправился к Разумовскому, с которым был почти в дружеских отношениях.
Фельдмаршал граф Разумовский, переехавший в Москву тотчас по смерти Елизаветы Петровны, решил сделаться совсем москвичом.
Всесильному вельможе и любимцу покойной императрицы было почти невозможно оставаться на берегах Невы и быть свидетелем правления нового имцератора и быстрого возвышения новых людей.
Во время краткого полугодичного царствования Петра III он ясно видел, что оставаться при дворе для него отчасти даже опасно. Он рисковал ежедневно навлечь на себя беспричинный гнев прихотливого и капризного государя и вдруг лишиться всего… Опала вельмож и конфискация новым правительством имуществ, их вотчин и капиталов, жалованных предшествующими монархами, бывали в Петербурге сплошь да рядом и вошли как бы в обычай.
Однако при воцарении Екатерины обоим братьям Разумовским, фельдмаршалу и гетману, сразу стало легче, государыня особенно милостиво отнеслась к обоим, но кто мог ручаться за будущее? Да и само положение новой царицы казалось очень многим опытным людям ненадёжным и шатким. А претендентов на престол, однако, не было. О принце Иоанне Антоновиче могли толковать люди, только совершенно незнакомые с его положением, с его умственным состоянием, а законный наследник Петра III был ещё ребёнком. И многие испугались, и Разумовские в том числе, учреждения императорского совета, которое умные и сильные люди возомнили и упорно захотели вырвать из рук царицы, ещё не чувствующей под собой твёрдой почвы.
Это учреждение должно было прямо передать власть в руки нескольких человек, что стало бы опасно, даже пагубно для многих из прежних сильных вельмож. Два-три врага в этом императорском Верховном совете могли бы если не сослать, хоть тех же Разумовских, в ссылку, то сделать нищими, конфисковать всё пожалованное им Елизаветой, хоть в свою же пользу.
В начале царствования новой императрицы уже повторилось много раз виденное в Петербурге, хотя на этот раз более справедливое. Тотчас после её воцарения у любимца Петра III, Гудовича, было конфисковано всё подаренное ему государем огромное состояние.
Как легко дарились поместья и даже целые города с феодальными правами всяких сборов и налогов, так же легко и отнимались. За всё первое полустолетие это было обычным явлением.
Младший Разумовский, гетман Малороссии, Кирилл Григорьевич, был смелее брата и ещё мечтал о службе, о почестях и даже дошёл до того, что стал просить государыню сделать гетманство наследственным в его роду. Но это должно было только послужить поводом к окончательному уничтожению гетманства.
Фельдмаршал, наоборот, ничего не желал, кроме спокойствия, безопасности и совершенного забвения его личности правительством.
Граф Алексей Григорьевич перебрался из Петербурга со всем имуществом и со всем скарбом на несколько сот тысяч. Москва и прежде была ему более по душе, чем Петербург, а теперь и подавно, когда не было уже на свете женщины, сделавшей его из простого казака графом и фельдмаршалом, и даже супругом, как утверждала молва.
Москва, конечно, обрадовалась новому именитому обывателю, богачу и хлебосолу, доброму, радушному, которого давно знала и очень уважала.
Теперь, в дни коронационных празднеств, Алексей Григорьевич жил не в гостях у Москвы, временно, как другие петербуржцы, а у себя дома, в обстановке, которая москвичам была ещё диковиной своей причудливой роскошью и пестротой. Обилие дорогой мебели, ценной бронзы и чудных картин было ещё необычным явлением в больших дворянских домах Москвы. До сих пор славились богачи простором домов и комнат, наполовину пустых. Но зато всякий озабочивался, чтобы «дом был красен не углами, а пирогами».






