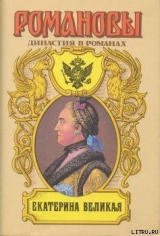
Текст книги "Екатерина Великая (Том 1)"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 62 страниц)
Павел Максимович Квощинский, которого Сашок не раз видал в гостях у госпожи Маловой, не зная, однако, его фамилии, назывался в Москве «всезнайкой».
Павел Максимович был гораздо богаче брата, потому что уже давно и совершенно неожиданно получил очень большое наследство от дальнего родственника. Он, конечно, помогал семье брата, с которой почти жил вместе, занимал на дворе их флигель. Было тоже известно и давно решено, что после его смерти всё его состояние останется его племяннику Паше, который теперь был капралом в Преображенском полку в Петербурге. Впрочем, от большого наследства у Павла Максимовича оставалось ныне уже менее половины. Холостяк, которому ещё не было пятидесяти лет, добродушный, весёлый, беспечный, проживший, собственно, крайне заурядно и скромно, сам не знал, как и куда ухнул более половины своего состояния.
Главная слабость Павла Максимовича – женский пол – не слишком повлияла на это, ибо была, как у многих, самая обыкновенная. Он равно любил общество, любил и путешествия. Он не сидел от зари до зари около своей возлюбленной, как многие иные, а говорил: «Правило есть – всего понемножку!» Поднявшись рано, он до полудня рисовал водяными красками всякие «ландшафты», затем, приказав запрячь небольшую берлинку, выезжал в гости, возвращался ко времени обеда и снова исчезал до ужина… В один день случалось ему побывать в пятнадцати и двадцати домах. Вечер же он проводил у «предмета», но, однако, не всякий день. Теперь уже года с четыре этим «предметом» была Настасья Григорьевна Малова, младшая сестра княгини Трубецкой лишь по отцу, женившемуся вторично. Настасья Григорьевна была женщина совсем ограниченная, простодушная, ленивая и как бы вечно сонная. Но двадцатипятилетняя вдова, вполне свободная, да ещё и очень красивая, конечно, прельщала многих. Однако главные её обожатели были почему-то только юноши и старички. Светло-белокурая, голубоглазая, белая как снег лицом, шеей и руками, даже поражавшая этой белизной на балах, она была лишь немного мала ростом, от коротеньких ножек, и немного полна, а стало быть, кругленькая как шар. Зато она была тем, что высоко ценится многими и именуется «сдобная». Сонливость и наивность, если не глупость кругленькой вдовушки были, однако, особые, если не были просто обманчивы.
Настасья Григорьевна, с трудом соображавшая или не понимавшая совсем самых простых вещей, понимала, однако отлично, что любовь, например, пожилого, несколько обрюзглого, неинтересного, но доброго и богатого Павла Максимовича надо беречь… Приберегать на всякий случай, чтобы через лет десять на худой конец выйти за него и замуж. Уверяли, будто Настасья Григорьевна кажется такой «простотой», а в сущности себе на уме и даже «лиса баба». «Лапки бархатные, а зубки щучьи!» – говорил про неё Пётр Максимыч, которого, конечно, смущала связь брата-холостяка со свободной вдовой.
Благодаря этим, действительным или кажущимся, свойствам молодой вдовушки у богатого, любящего свет весёло-добродушного и на вид совсем беззаботного Павла Максимовича была, однако большая забота, было нечто, чуть ли не отравлявшее его существование.
«Всезнайка» не был влюблён как мальчишка, не был предан телом и душой красивой вдовушке, с которой был в связи уже пятый год, а вместе с тем ревновал её ко всем, так как мысль об обмане и её неверности ложилась тяжестью на его душу. Это было вопросом самолюбия. Настасья Григорьевна, по его убеждению, была такой безмерной ограниченности разума, что с ней нельзя было быть уверенным в чём-либо. Он был уверен, что она способна на всё и что можно было её заставить всё сделать. По недомыслию и крайнему простодушию она могла, по мнению Квощинского, попасть в воровки или убийцы, стоит только кому-нибудь «науськать» её, убедив, что убить человека самое простое дело и самое хорошее.
Зная это свойство характера своей возлюбленной, Квощинский постоянно боялся измены со стороны женщины, не по её личному почину, а под влиянием кого-либо…
Малова жила на квартире, которую нанял и оплачивал Павел Максимович, рядом с сестрой Трубецкой, и жила тихо, обыденно, скучновато, почти не выходя и никого не видя, занимаясь сплетнями и пересудами околотка. Квощинский бывал у подруги своей всякий день среди дня, иногда и вечером, но долго и тщательно скрывал от всех свою почти старческую слабость. Даже брат его и невестка только год назад узнали о его связи с госпожой Маловой.
За последнее время, за прошлую зиму и весну, Квощинский имел уже и основание тревожиться, так как стал часто встречать у своей Настеньки очень молодого капитана по фамилии Кострицкий. Женщина объясняла, что офицер – её дальний родственник, вроде племянника, недавно прибывший в Москву на время. Сам капитан был человек необыкновенно скромный, с Квощинским был особенно вежлив и почтителен, а к Настасье Григорьевне относился при Квощинском с глубоким уважением. Вместе с тем он сказывался женихом одной девицы и почти накануне свадьбы… И вместе с тем этот племянничек и жених смущал донельзя ревнивого Павла Максимовича. Сердце его будто чуяло что-то…
Но у холостяка была другая, настоящая страсть. Богомольные путешествия. Не было, казалось, в России ни единого монастыря, ни единой пустыни, где бы Павел Максимович не побывал хоть раз. У Троицы Сергия он бывал по нескольку раз в году Один только монастырь не видал он и мечтал повидать. Но это было уже грёзой… Одно заявление его о путешествии этом своим знакомым пугало всех… Это был Афонский монастырь. Впрочем, и сам Квощинский понимал, что он грезит и хвастает и за всю жизнь никогда туда не попадёт.
Эти постоянные путешествия к разным святым местам, а равно и вечные скитания по гостям обусловливались двумя чертами характера Павла Максимовича: крайней искренней религиозностью и крайней общительностью, страстью видать побольше народу и беседовать. Когда на него нападала какая-то особенная грусть или меланхолия, он тотчас собирался на поклонение в какую-либо пустынь… Или когда москвичи начинали ему прискучивать и мало бывало событий и новостей в первопрестольной, он вдруг сразу решал поездку в какой-либо монастырь, где у него были хорошие давнишние приятели-монахи.
– Два удовольствия тут, – говорил он. – Уехать приятно и вернуться потом домой приятно.
За последние годы у Квощинского понемногу явилось и созрело новое желание, которое прежде показалось бы ему совершенно невероятным.
Ему захотелось побывать в чужих краях. Съездить хотя бы и не очень далеко, в королевство Польское или в Швецию. Но средств на это уже не было. Поэтому постепенно созрел у него план поступить на службу в коллегию иностранных дел и быть посланным на казённый счёт за границу. План этот отчасти был исполним, так как Павел Максимович имел одно редкое преимущество пред другими дворянами его лет. Он хорошо читал, писал и отчасти мог разговаривать по-французски и по-немецки.
Он всегда с благодарностью вспоминал, что этим был обязан своему крёстному отцу, очень образованному человеку времён великого императора, Шафирову.
Теперь, в начале нового царствования и в дни, когда увидела у себя Москва новую императрицу, окружённую своими сановниками, Квощинский решил попытать счастья, проситься в коллегию иностранных дел, тем паче, что крупный сановник Теплов мог оказать покровительство.
Когда Москва переполнилась гостями из Петербурга, Павел Максимович уподобился рыбе в воде или сыру в масле… Он летал по городу… А с другой стороны, «всезнайка» в эти дни оказывался для друзей бесценным человеком. Вести и слухи, одни страннее других, бегали по всей Москве, по всем дворянским домам. Челядь крепостная не менее господ оживилась и прислушивалась ко всему, что проникало в столицу из села Петровского.
А как узнать, что выдумка ради соблазна и что правда? И, будто по единодушному приговору и решению, «всезнайка» Павел Максимович был почтён званием верховного судьи, решителем или пояснителем всех вестей.
Видая теперь часто таких лиц, как Теплов, Павел Максимович всегда мог знать, что именно праздная выдумка, злобная клевета, «соблазнительное» враньё и что истина.
Слух, передаваемый с опаской, чуть не шёпотом, что государыня собирается выйти замуж за графа Григория Орлова, всего сильнее взволновал москвичей.
– А правда ли это?
– Не клевета ли это?
– Не злобное ли и противозаконное издевательство?
И вот многие обращались теперь насчёт удивительного слуха к «всезнайке».
А Павел Максимович уже слышал об этом от Теплова, который передал ему даже мнение самого Никиты Ивановича Панина.
Вельможа по этому поводу выразился французской пословицей: «Pas de fumee sans feu!» – «Нет дыма без огня!»
И «всезнайка» в свой черёд отвечал на вопросы москвичей:
– Почём знать, чего не знаешь.
Когда начались споры между политиканами-дворянами, возможно ли таковое, неслыханное и невиданное, несообразное, то «всезнайка» говорил, повторяя слова Теплова:
– В иноземных государствах таковое бывало. Супруг монархини не считается монархом и не коронуется. Ему только дают почёт и уважение, как ближнему к престолу лицу, хотя и без должности.
– То иноземные государства, а то Российская империя. Басурман нам не указ! – говорили одни.
– Греховного или противозаконного ничего тут нет! – говорили другие.
– Стало быть, у простого дворянина могут быть царские дети.
– А разве прежде супруги царей не были из российского дворянства?
И вот к этому всезнайке и путешественнику-богомолу направил Кузьмич своего питомца знакомиться.
Сашок отправился и узнал, что это тот же господин Квощинский, которого он видал уже не раз у Маловой, когда бегал к ней за чудодейственным табаком.
Павел Максимович принял офицера-князя любезно, но, не зная ничего о планах брата, недоумевал, зачем Козельский явился к нему.
На его заявление брату, какой был у него гость, Пётр Максимович спросил:
– Ты знаешь князя Козельского Александра Алексеевича?
– Вестимо, знаю. Он теперь здесь, в Москве. Недавно пир задавал. Он дядя родной этого молодца. А что?
– Что он за человек?
– Российский дворянин и князь.
– Я говорю: что это за человек?
– Человек богатейший. Чудодей знаменитый…
–Ну…
– Что «ну»?.. – отозвался Павел Максимович.
– Скажи, Господи, что за человек нравом, чувствами, душой, что ли, своей.
– А? Эдак, то есть… Ну, эдак будет уже не то… Эдак будет он человек особенный.
– Чем особенный? Чем? – нетерпеливо спросил Квощинский.
– Да так… Не столько человек по образу и подобию Божию, сколько… свинья.
– Что-о? – проорал Пётр Максимович.
– Да. Это человек добрый, но, собственно говоря, совсем свинья. А тебе на что?
Квощинский таинственно объяснил брату.
– Ну что же. Не он ведь женится, а племянник.
– Да. Но он мог бы дать ему душ двести-триста…
– Ну, вот этого не будет. Полагаю, не даст он ничего. Жила! На себя не пожалеет тысячи рублей на любую прихоть. А другому дать, хотя бы родному племяннику, алтына не даст. Но надо с ним уметь взяться… Это мне препоручи. Устрою.
– Как же так? Ты что же тут можешь?
– Препоручи. Может быть, и сумеем его встряхнуть! – улыбнулся «всезнайка».
– Говори, братец, прямо… Дело ведь нешуточное, – сказал Пётр Максимович.
– Изволь. Скажу. У князя Козельского есть дело, ему непосильное. Есть просьба, с которой он увивается около вельможи.
– Около кого?
– Около графа Панина.
– Ты это знаешь, братец?
– Верно знаю.
– Удивление. Теперь все добиваются чего-нибудь. Все хотят что ни на есть от новой монархини выклянчить, – закачал головой Пётр Максимович. – Кто должность, кто орден, кто сотню, и две, и пять душ крестьян…
– Да. Ну, вот и твой князь желает звезду александровскую…
– Что же ты можешь?
– А вот надумаем меновой торг, – усмехнулся Павел Максимович. – Тебе нужно то и то… Ну, дай нам вот то и то… Удели что-нибудь племяннику.. Немудрёно это дело. Я Теплова попрошу, он Панина, а Никита Иваныч Козельскому поставит условием оное…
XXVТит уже давно собирался наведаться к бабусе и сестре, но Кузьмич не отпускал его. Наконец он добился своего и радостно пустился в путь в село Петровское. Он нашёл дома только сестру, а старуха была на своём огороде. Расспросив её о бабушке, он, разумеется, принялся рассказывать тотчас о своём житье-бытье, о князе, о Кузьмиче, даже о пономарихе.
– Ну а каков князь. Драчун? – спросила Алёнка.
– Где там! Мухи не тронет, – ответил Тит восторженно. – Добреющий. Ласковый такой, тихий. Я отродясь таких не видал. И красавец. Катерина Ивановна от него прямо ума решилась.
– Вишь ты… – раздумывая, выговорила девушка.
– И на это, Алёнушка, полагаю я, есть особливая причина.
– Красив да князь… Ну и влюбилась. Ничего нет особливого…
– Нет, я не про то… Я про его тихость да ласковость… Он, может, сам-то по себе и такой же, как все господа… Нет-нет и треснут чем попало… А ему, моему Лександру Микитичу, не до того… Мысли его ему мешают. Не до сыска, не до взыска, а до горести своей. Знаешь, так-то поётся.
– Да что же такое?
– А то, говорят тебе… Что он очень сам-то убивается. Полюбилась ему барышня Квощинская, Татьяна Петровна. Барышня – на диво. Ну и она тоже души в нём не чает.
– Ну а родители его противничают?
– Чьи? У него их никого. Сирота. Была тётушка. А теперь и её нет.
– Уехала?
– Как уехала? Не уехала, а померла…
– Стало, родители барышни не хотят его в зятья себе.
– И они хотят. И барин Квощинский, и барыня, и брат баринов – все хотят.
– Так что же тогда? Чего тянуть. Говори! – нетерпеливо вымолвила Алёнка.
– Говори? Чего же я буду говорить, когда не знаю. И никто не знает. Он, мой Лександр Микитич, от Татьяны Петровны без души. И все его полюбили. И все бы рады сейчас свадьбу сыграть. И он бы радёхонек… Разума от неё решился, сказывает Кузьмич. А Катерина Ивановна, говорит, совсем князю противна.
– Ну? Что же свадьба-то?
– Ну – нет ничего. Не выгорит. Печалуются все, а поделать ничего не могут. Запрет. И неведомо от кого! Чудно. Сам Кузьмич мне всё это сказывал.
И беседа брата с сестрой снова перешла на то же близкое ей дело, о Матюшке и его господах.
– Надо же эдакую напасть, что они разбогатели, – сказал Тит. – Но всё ж таки рублей за пятьдесят они дадут отпускную. Что им одним парнем больше или меньше.
– А где их взять! Пятьдесят-то рублей, – вздохнула Алёнка.
– У бабуси найдутся. Верно говорю. Она таится. А у неё есть они.
Алёнка помотала головой.
– Кабы были, бабуся давно бы их дала, – сказала она. – А их нету…
А пока брат с сестрой толковали о своих делах, их бабуся сидела на скамейке около своего огорода, а около неё была та же дама, живущая в палатах графа Разумовского. И это было не во второй, а уже в третий раз. После первой встречи и беседы со старухой дама снова появилась около огорода дня через три.
Параскева при виде её струхнула и желала укрыться, но это было совершенно невозможно среди гряд и голого поля.
Дама села на скамейку, ласково окликнула её и подозвала к себе.
В этот второй раз Параскева привыкла к своей «барыньке» и будто забыла, что она живёт в одном доме с самой царицей и даже видает её. Барынька ласково, просто и весело, притом прямо «по душе», беседовала со старухой о себе самой, о житье-бытье Параскевы, о её правнуках… Но просидела она недолго, спешила домой, опасаясь, что важная особа, при которой она состоит, может её хватиться, а вышла она без спросу.
Теперь в третий раз наведалась она к огороду, а Параскева, пришедшая было полоть картофель, завидя свою «касатку», поспешила к ней радостная. Уж очень долго не виделась она с новым другом.
Но подойдя и сев около дамы, Параскева удивлённо пригляделась и даже ахнула:
– И чтой-то ты, касатушка… Аль худо какое приключилось?
– Ничего, старушка… – отозвалась та.
А между тем по красивому лицу дамы можно было легко догадаться, что она была не только озабочена, а прямо грустна. Печальные глаза, казалось, были с краснотой, как если бы она плакала пред тем, как прийти.
– Я сто лет на свете живу. Забыла ты это… – заговорила Параскева. – Говори, касатушка, что у тебя на сердце. Говори, не бойся… Чужое дело всегда чужому человеку легче развести.
Дама стала уверять старуху, что ей просто нездоровится, но Параскева начала её расспрашивать, иногда отвечала сама, догадкой, и так умно, что дама постепенно многое рассказала. А всё это многое за сердце схватило добрую столетнюю старуху.
Параскева заохала, закачала головой и начала утирать сухие глаза, так как уже давно плакала без слёз.
– Вот оно что… И господам бывает хуже холопов. Вижу я, вижу, касатушка, рвут тебя як части. А всё вдовье твоё дело. Будь у тебя супруг, то заступился бы.
Дама улыбнулась, но печально.
– Горе-злосчастье ходит по свету… Куда придёт, отворяй ворота, что в мужичью избу, что в палаты боярские. Ему, говорю, не скажешь: проходи, мол, своей дорогой. Нет. А придёт оно, и не знаешь, как его изжить. Ни умом, ни силком, ни моленьем. Ничто не берёт его.
– Правда твоя, бабушка! – грустно отозвалась дама.
– Да-а!-протянула Параскева, вздыхая. – Инда смерть жалко тебя, мою касатушку. Ты красотка, умница, добрая. А тебя, вижу я, рвут на части. А люди, родимая, рвут хуже, чем собаки. А ещё тебе скажу, верь мне, старой, не вру… Есть, бывает такое, други-приятели хуже ворогов.
Дама улыбнулась невольно и подумала про себя: «Dieu me garde de mes amis, et de mes ennemis je me garderai moi-meme».
Параскева задумалась, приуныла, потом выговорила:
– Ну, вот что, моя золотая сударка…
И она запнулась, подумала ещё и наконец, вздохнув, сказала:
– Так уж и быть… Для тебя одной. Полюбилась ты мне гораздо, так что просто удивительно мне самой. Таковое ты, болезная, мне кажется, горе мыкаешь, что из жалости к тебе согрешить готова. Поняла?
– Нет, бабушка, не поняла ничего.
– Слушай, моя горемычная. Была я помоложе, грех за мной водился. Велик не велик, а всё-таки грех… И я его много, много годов замаливала. И дала я клятву эдак-то больше не грешить… Ну и вот я эту самую клятву мою из-за тебя побоку… Вот, стало быть, как ты мне по сердцу пришлась. Поняла теперь?
– Нет, бабушка милая, ничего всё-таки не поняла, – улыбнулась дама.
– Слушай. Была я молода, не молодёшенька, а всё-таки не старая. Лет тому, поди, тридцать аль сорок. Ну вот… И загребала я деньги, да чем? Чем, моя горемычная? Колдуньей была!
– Как? Чем? – удивилась дама.
– Колдуньей, говорю… Да. Ворожеей! Оно всё то же… – вздохнула Параскева. – Гадала я дворянам, господам, на картах, на гуще кофейной и на мыльной воде… И бросила… И вот уж сколько лет этого греха на душу не брала. Ну а теперь из-за тебя погрешу, божбу свою преступлю и тебе погадаю.
Дама улыбнулась ласково.
– Я пошукаю твою судьбу… И мы будем с тобою знать, что нам делать. Как тебе твоё дело и все дела повернуть в твою пользу. Понимаешь?
– Нет, бабушка. Я не понимаю… Ты погадаешь. Хорошо. Но что же из того?
– Увидим мы всё, глупая ты моя! – воскликнула Параскева. – Увидим всё-то и всех-то наскрозь. Ну, ты и узнаешь, как тебе извернуться, чтобы всех своих ворогов объегорить.
Дама рассмеялась.
– А ты, моя сударка, как будто и не веришь мне. Думаешь, я совсем дура и зря болтаю. Не хочешь – не надо. Я для тебя же… – обидчиво проговорила старуха.
– Как можно, бабушка. Я считаю тебя очень умной. Ты мне умнейшие советы уже дала. Обещаться.
– Как знаешь. Я не навязываюсь, – бурчала Параскева, обидясь.
– Нет. Что ты. Напротив. Я очень рада погадать. Но это невозможно. Это трудно. Разве вот здесь, в лесу.
– Зачем. Здесь нельзя. Гуща должна быть горячая… Приходи ко мне в избу. Вот тут, недалече. Я тебе сейчас покажу.
– Вот это хорошо, – воскликнула дама. – Завтра же я к тебе приду. Только не одна, а с приятельницей.
–Ладно. И карты захвати. У меня нету. Они тоже нужны.
XXVIПараскева вернулась домой и, задумчивая, не говоря ни слова внукам, села у окошечка… Размышляя о чём-то глубоко и угрюмо, она изредка вздыхала, а то и охала.
Внуки притихли и отчасти встревожились. Такого никогда почти не бывало… Было, помнилось им, когда старухе не хотели возобновить условий по отдаче внаём земли под огороды. Было то же, когда бабуся их узнала вдруг, что внучка собралась замуж за крепостного Матюшку.
Алёнка долго приглядывалась к прабабушке и наконец не выдержала. Она подсела и, обняв старуху, выговорила тихо:
– Что ты, бабуся? Аль беда какая?
– Что? – отозвалась Параскева, будто очнувшись.
– Что ты так, оробемши будто? Аль беда стряслась?
– Тьфу! Типун тебе на язык. Какая беда? Где беда?
– Так что же ты эдакая? – вступился и Тит. – Ажно напужала нас. Говори, что такое? Откуда пришла?
– Видела я опять мою барыньку, – вздохнула Параскева. – Ну вот и взяла меня тоска. Жаль мне горемычную. Помогла бы ей, да где же мне, бабе-мужичке, барыне помочь.
– Отчего жаль-то? – спросила Алёнка.
– Тяжело ей. Добрая она. Сердечная. А тяжело ей, страсть. Говорила со мной, у неё даже слёзки по щекам потекли. Заедают её, бедную, лихие люди. Много их. А она-то одна, сирота, вдова. Не у кого ей и защиты искать. Некому заступиться за неё. А уж одолели-то… Одолели… Ахти! Со всех сторон… Чисто псы. Один, вишь ты, хочет – вынь да положь, выходи она за него замуж. А она не желает. А отказать нельзя, говорит, бед не оберёшься. Озлится он и набедокурит.
– Дело простое – арбуз поднести! – рассудил Тит. – Ну, не хочу, и проваливай. Просто?
– Просто? – воскликнула, качая головой, Алёнка. – Ты слышал, бабуся сказывает, она сирота да вдовая… В эдаком разе кто захочет, тот на тебе и женится. Ты парень, а не девка, и бабьих дел не смыслишь…
– Верно. Верно. Золотые твои речи, Алёнушка! – оживилась Параскева. – Смышлёная ты у меня головушка. Останься ты вот без меня и без Тита. На тебе прохожий татарин женится.
– Да. Оно пожалуй… Если сирота круглая, – согласился Тит, – то несподручно от всех отбиваться. Одолеют, именно как собаки в переулке… Вот надысь шёл я по Арбату ночью, и вдруг это…
– Полно. Помолчи, Титка. Дай бабусе сказывать, – вступилась Алёнка. – Ну, что же барынька-то эта? Ещё-то что у неё?
– Ещё-то? Да много. Многое множество всяких забот и горя, – начала Параскева, подперев щёку рукой. – Один вот привязался, выходи да выходи за него замуж. Где-де тебе, вдове молодой, управиться в своих вотчинах. А она-то, моя горемычная…
– Не хочет! – перебила Алёнка. – Это мы слышали. Ещё-то что?
– А ещё-то… Один из ейных, должно, дворовых. Старый, да умный, да злюка, смекаю я сама-то, служил её родителям и гордости набрался… А теперь хочет, чтобы она его в главные управители взяла…
– Ну что же? Коли старый слуга, – сказал Тит, – да умный… И хорошее дело, если…
– Погоди. Прыток ты… Дай досказать, – перебила Параскева. – Юн, этот самый, дворецкий, что ли, хочет быть в управителях ейных вотчин токмо на такой образец, чтобы она, моя золотая, ничего бы не смела делать без его ведома и без его разрешения.
– Скажи на милость! Ах, идол этакий, – воскликнул Тит. – А за это его на скотный двор! К коровам, мол, хочешь?
– То-то вот… Говорит он: «Заведём тройку управителей, я буду четвёртый и набольший. И буду я всё вершить. А ты, барынька, ни во что не вступайся. Кушай, гуляй да почивай на перине». А она, знамо дело, эдак-то не желает. Я, говорит, не старуха, хочу сама госпожой быть.
И Параскева вздохнула и задумалась.
– Ну, ну… Ещё-то что же? – спросили правнуки.
– Да много ещё… Все лезут, всякие себе должности просят по двору. А кто на волю просится зря. Кто денег просит в награжденье за старую службу… А она давала, и всё даёт, и много раздала… А всё не сыты! Всё лезут и ещё просят, больше… А сосед один, и важный такой, боярин и князь из немцев, грозится… Отдай ему целое угодье. А не хочешь, тягаться в суде учну, и оттягаю, и разорю.
– Ах, Господи! – шепнула Алёнка, не поняв слова «тягаться» и вообразив себе, что это значит душу из тела вытягивать.
– И то не всё, родные мои, – продолжала Параскева. – Всего и не запомню… Ну, просто, говорю, бедную касатку на части рвут. И грозятся! Этот самый дворецкий, что ли, написал эдакую бумагу и с ножом к горлу лезет, подпиши. А она-то, сердечная, боится.
– Избави Бог! – воскликнул Тит. – Это мне сказывал наш Кузьмич, князев дядька. Никакой, говорит, бумаги никогда не надо подписывать, кто грамотен. А кто неграмотен, и креста не ставь. Как подписал, так тебя и засудят.
– Ну, вот… Она и не хочет подписывать. А он, старый, говорит; «Тогда-де я дело в суде заведу, чтобы твой сынок был помешиком-душевладельцем, а ты бы отставлена была от делов». А сынок-то ещё махонький совсем.
– Как же так, бабуся? Такого закону нету.
– Да так вот… Вотчины, стало быть, не её самоё, а мужнины. Ну, сынок-то и наследник. А она, вдова, токмо покуда он махонький, распоряжаться может. Старый-то чёрт знает всякие законы и ходок. Стрекулист. Где ей, бедной, супротив его идти. Вот, стало быть, либо назначай его главным правителем, либо он в суд махнёт. Малолетку чтобы объявили помещиком, а её самоё побоку.
– Да, дела! – ахнул Тит.
– А ещё-то есть одна молоденькая барынька, что была в её товарках-приятельницах, теперь, обозлясь, поносит её везде и со всеми её подругами заодно… А ещё-то… Ещё… Да всего и не перескажешь. Уж так-то мне её жаль. Так-то жаль, что я на одно грешное дело из-за неё иду…
– Что ты, бабуся? Зачем?! – испугался Тит.
– Не бойсь… Дело такое… что только я свой грех знать буду. И грех для людей невелик, да мне-то самой тяжело.






