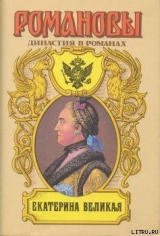
Текст книги "Екатерина Великая (Том 1)"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 62 страниц)
Дядя Сашка, князь Александр Алексеевич Козельский, заслуживший прозвище «чудодея», был пятидесятивосьмилетний вдовец, богач и добряк. Чудеса, которыми он славился в обеих столицах и подмосковных губерниях, были результатом того, что он был добрый, умный и скучающий человек, да кроме того, бесспорно даровитый. Он не был из числа тех чудаков, которые выдумывают всякие штуки только для того, чтобы заставить о себе ахать и трубить. Его штуки делали часто чудеса – несчастных счастливыми. Разные фантазии и прихоти Козельского приводились им в исполнение только ради того, чтобы развлечься – убить время. Но убить его так, чтобы горемычным была польза. Вредного, злого или безобразного он, собственно, никогда ничего не сделал. Некоторым знакомым, в особенности прихлебателям и блюдолизам, правда, иногда приходилось от него плохо. Но страдало в них не тело, не душа, а лишь мелочное самолюбие.
Сам князь сознавал, что у него нет ни цели, ни смысла в жизни и нет ни единого близкого человека, которого бы он мог искренно любить и от которого мог бы ожидать того же. Он видел, что все кругом него, и женщины, и мужчины, только льстят ему, ухаживают за ним из-за личных вожделений, а за глаза, конечно, поносят или поднимают на смех.
Скука, одолевавшая князя, заставляла его менять местопребывание. Он сам шутил над собой по этому поводу и любил напевать малороссийскую песенку: «Мне моркотно молоденьке, нигде места не найденько».
В молодости князь имел такие же маленькие средства, как и отец Сашка, но, будучи двадцати пяти лет от роду, он познакомился в Петербурге с банкиром Кордаро, у которого была единственная дочь, уже вдова, лет за сорок.
Кордаро появился в Петербурге, вызванный герцогом Бироном, и, поселившись на берегах Невы, пользовался таким большим покровительством всемогущего временщика, что часто к нему обращались по самым серьёзным делам, конечно, с ходатайствами. И банкир много делал добра, так как был одним из главных заступников перед грозным герцогом.
Какой национальности был старик банкир, было положительно неизвестно. Одни считали его итальянцем, другие – греком, третьи – поляком, наконец, многие подозревали в нём просто еврея. По религии он был лютеранином. Было известно, что у банкира очень большие средства, что в его кассе черпает огромные суммы сам герцог, иначе говоря, правительство, но в точности никто не знал, какое состояние у сомнительного по происхождению иностранца.
Молодой князь Козельский, красивый, элегантный, весёлый и остроумный, затейник на все руки, чтобы забавлять дам и девиц, нравящийся постоянно женщинам, разумеется, понравился и пожилой вдове. К чести князя Александра Алексеевича, он, начав часто бывать у Кордаро, бывал там без всякой задней мысли. Его привлекали вкусные обеды, ужины и весёлые вечера в очень богатом доме. Наконец, он знал, что Кордаро – любимец всемогущего герцога. А это действовало против воли на всякого, даже не нуждающегося в протекции. За вдовой, которая звалась на польский лад Эльжбеттой Яковлевной, князь, собственно, не стал ухаживать, был с ней столько же любезен, сколько со всеми другими. И он сам первый был крайне озадачен, даже изумлён, когда заметил, что вдова относится к нему как-то особенно. Нежно и сдержанно вместе, как бы боясь, что её чувство вызовет со стороны князя только лишь презрение и насмешку.
Эльжбетта Яковлевна, характерного южного типа, была, собственно, ни хороша собой, ни дурна, но для своих лет неплохо сохранилась. Ей можно было легко дать и тридцать пять лет. Единственное, что её несколько портило и отчасти старило, была полнота при маленьком росте. Познакомившись с ней, Козельский тотчас назвал её «бочкой», но затем нашёл в ней много достоинств, которые вместе делали женщину приятной и симпатичной.
Прошла зима. Князь бывал у Кордаро всё больше, всё чаще и стал совершенно своим человеком. И старик-банкир Яков Вольфгангович, как его звали по русскому обычаю, а равно и его дочь уже относились к нему как бы к родному. Но двадцатипятилетний молодой человек всё-таки не понимал, чем, собственно, он заслужил такую любовь старика и вдовы, потому, собственно, что ему и на ум не приходило то, что было у них давно на уме.
Дочь вскоре после знакомства с князем уже откровенно созналась отцу, что князь ей нравится. Отец давно уговаривал дочь выйти замуж вторично, но она всегда отказывалась. Она была настолько несчастлива со своим покойным мужем – человеком крутым и грубым, что почти дала себе слово не пробовать снова семейной жизни.
Пробыв вдовой более десяти лет, Эльжбетта Яковлевна ни в Германии, ни в Польше, где она жила с отцом, ни в России, куда они явились по приглашению Бирона, не находила ни одного человека, за которого бы решилась выйти вторично замуж. Когда она призналась отцу, что князь Козельский ей нравится, Яков Вольфгангович пришёл в восторг.
Многие его прежние мечты стали действительностью. И прежде, до приезда в Россию, и теперь при покровительстве Бирона. Но одна мечта всё оставалась неосуществлённой: вторичное замужество дочери. И эта незадача вдобавок происходила от неё самой, так как претендентов на её руку, несмотря на её годы, было немало: и немцев, и поляков, и русских. Поэтому заявление дочери привело старика в полный восторг. Ему ни на минуту не пришло в голову, что чувство дочери к молодому русскому князю, на двадцать лет моложе её, не имеет, собственно, никакого решающего значения.
Сама Эльжбетта Яковлевна должна была тотчас же прибавить и объяснить отцу, что ему нечего заранее радоваться и даже восторгаться. Быть может, единственный человек, которого она избрала, за которого тотчас пошла бы замуж, никогда и не согласится на ней жениться. Старик, умный, дальновидный, тонкий, знающий людей, пораздумав, тоже смутился и приуныл.
Зная молодого князя Козельского, он мог встревожиться. Князь мало походил на такого молодого человека, который из-за денег способен на всё и даже продавать себя.
Однако умный и осторожный Кордаро, по уму и характеру скорее дипломат, нежели финансист, решил тотчас, что нужно во что бы то ни стало достигнуть цели. Он не мог себе представить, чтобы единственный человек, который понравился дочери и который нравится и ему, оказался именно таким, которого ни за что в зятья не приобретёшь.
– Надо упорствовать и добиваться! – сказал он дочери. – Я на всё пойду!
И после долгих размышлений Кордаро остановился на одном… В его голове созрел такой план, что если бы он его поверил дочери, то привёл бы её в ужас. В уме покровительствуемого всемогущим Бироном человека мелькнула мысль, что именно герцог может помочь в таком важном деле, но, конечно, помочь лишь в случае упорства князя Козельского. Герцог вызовет его к себе и посоветует ему жениться на дочери Кордаро, а если этого окажется недостаточно, то прикажет князю жениться. Если же, наконец, молодой человек осмелится не исполнить приказания первого сановника Русской империи, то тогда у временщика окажется много средств заставить его повиноваться.
И Яков Кордаро, размышляя, говорил про себя, усмехаясь:
«Да если какому ни на есть упрямому молодому человеку предложить Эльжбетту Яковлевну или Шлиссельбургскую крепость, или ту, или другую, на всю жизнь, то, пожалуй, не найдётся ни одного человека, который бы стал долго размышлять и колебаться…»
Но, разумеется, старик ни слова не сказал дочери о своём плане. Дело до этого и не дошло.
Кордаро прежде всего объяснился с князем. Умно, красноречиво, добродушно передал он ему, что его дочь любит его, но между ними, конечно, очень велика разница в возрасте. Однако для здравомыслящего молодого человека это не может быть помехой для брака. И наконец, Кордаро прибавил, что у его дочери будет чистоганом около полумиллиона русских рублей, а он сам перед бракосочетанием подарит князю столько, сколько тот пожелает. Сто, полтораста, двести тысяч. И с тою целью, чтобы он, став мужем Эльжбетты, имел своё собственное состояние и не зависел от жены в мелочах.
– На женины средства жить стыдно, – сказал старик, – и мне хочется, чтобы вы, идя в церковь, были тоже богатым человеком.
Кордаро знал, что делал.
Последняя подробность подействовала на князя. В первую минуту, когда банкир с ним заговорил, он внутренне удивился дерзости старика, удивился тоже, каким образом сорокалетняя вдова вообразила себе, что он, двадцатипятилетний человек, способен продаться. Но после часу беседы со стариком князь Александр Алексеевич уже чувствовал в себе возможность примириться со всем тем, что ему сначала показалось совсем немыслимым.
Брак состоялся. Княгиня Эльжбетта Яковлевна Козельская не только любила, но обожала своего молодого супруга. Понемногу и сам князь Александр Алексеевич привязался к жене. Иначе и быть не могло. Женщина была так нежна с ним, предупреждала его малейшее желание и, как говорится на Руси, на него молилась.
Вдобавок одно обстоятельство, которого князь боялся, оказалось его напрасным измышлением. Он думал, что дочь банкира неведомого происхождения не сумеет поставить себя в петербургском обществе на известную ногу, не сумеет заставить себя уважать. Он не хотел жить в Петербурге на тот лад, на который жил банкир.
Дом Кордаро был, собственно, каким-то трактиром, или, как называли, «гербергом», и в этом герберге была главная управительница, к которой все относились любезно, но как-то свысока, называя её лишь в глаза Эльжбеттой Яковлевной, а за глаза всегда коротко «Эльжбетка» с прибавкой «толсторожая».
Князь ошибся. Дом, в котором хозяйкой была княгиня Елизавета, а уже не Эльжбетта Яковлевна, стал одним из первых домов в Петербурге. Сама женщина как-то вдруг переменилась и без всяких усилий, без всяких прорух стала важной петербургской барыней. И Козельский оказался счастливым и довольным человеком.
Так прошло почти десять лет.
Однажды всемогущий герцог, грубо арестованный солдатами, как простой мещанин, оказался в ссылке. Падение регента отозвалось на его любимце-банкире, и Бирон ещё не успел выехать в Берёзов, как Яков Кордаро был этой опалой регента разорён в пух и прах. Немедленно кинулся он молить правительницу Анну Леопольдовну… И самый в эти дни всесильный сановник принял к сердцу его положение и обещал наверное помочь и спасти если не все деньги иностранца-банкира, то хоть половину. Но вскоре же после того этот могущественный сановник сам отправился в ссылку. Это был граф Миних. И состояние банкира рухнуло…
Разорение так повлияло на старика, что он заболел. Когда вступившая на престол императрица Елизавета Петровна передала обещание банкиру сделать для него всё возможное, старик неожиданно скончался скоропостижно от удара.
Через год после его смерти дочери его, княгине Козельской, казна уплатила сто пятьдесят тысяч рублей, что было смехотворной каплей сравнительно с теми суммами, которые бесследно и бездоказательно погибли при падении Бирона.
Разумеется, если бы когда-то старик не отделил дела дочери от своих, то и князь с княгиней оказались бы разорёнными. Затем, года через два после смерти отца совершенно неожиданно княгиня Эльжбетта Яковлевна умерла точно так же, как и её отец, – вдруг, в одночасье, тоже от удара.
У иностранцев Кордаро не оказалось никакой родни, но всё, что было у жены, получил князь. Явились, правда, впоследствии какие-то сомнительные дальние родственники её, родом из Силезии, которые хотели оспаривать наследство, но в эти дни у князя Козельского был уже друг, могущественный человек – Шувалов, и, конечно, претендентов на состояние покойной княгини Козельской попросили подобру-поздорову покинуть пределы Российского государства.
Князь, женившийся неожиданно, чуть не против воли на женщине, много его старше, искренно жалел жену и довольно долго – года два или три…
Но затем он сознался себе самому, что ему удивительная удача. Нужно же было встретить пожилую вдову и жениться затем, чтобы, прожив с ней менее десяти лет, овдоветь и получить снова свободу, но уже при огромном состоянии. И вдовец покинул Петербург и начал странствовать сначала по России, а затем и за границей.
XXКнязь, вдруг решив покинуть Петербург, где жил на широкую ногу, с обедами и вечерами, на которых бывал весь родовитый и знатный люд столицы, не только не порвал связей, но тщательно поддерживал их за время своих скитаний. Приехав в Москву на коронацию, князь тотчас же решил устроить «пир горой» в своём доме. В переполненной теперь Москве у него сразу нашлось много старых знакомых и приятелей. Разница была та – к удовольствию князя – что многие из близких лиц, бывшие тогда на верном пути к почестям, теперь достигли тех степеней и тех ступеней иерархической лестницы, о которых, быть может, и не мечтали. Таковы были Панины, оба брата. Другие были тогда только молодыми дворянами с честолюбием, а теперь стали уже сановниками… Таковы были Теплов, Измайлов, Елагин, Бецкой. Зато третьи, бывшие в зените общественного положения, теперь спустились, если не в смысле знаменитости и блеска положения, то в смысле силы и власти. Таковы были братья графы Разумовские и Шуваловы.
Некоторые могущественные вельможи того времени побывали уже в опале и даже в ссылке, но теперь снова вернулись, призванные «на совет» хитроумной, дальновидной и даже отчасти лукавой монархиней. Таков был бывший канцлер граф Бестужев-Рюмин, фельдмаршал Миних, князь Шаховской и другие.
Были и новые сильные люди, которых князь Козельский знавал ещё детьми. Такова была княгиня Дашкова, урождённая графиня Воронцова.
За последнее время уже в Москве, и даже за последние дни, князь Александр Алексеевич завёл много новых знакомых. Одни сами приехали к нему на поклон, к другим он поехал. Таковы были и братья Орловы, о которых он, конечно, никогда за всю жизнь даже не слыхал и которые теперь сразу поднялись на высшие ступени иерархии и чуть не на ступени трона.
Однако прожив довольно долго вдали от двора и высшего общества, князь попал в положение совершенно особенное, о чём, при всём своём уме, он наивно не подозревал. Видя пред собой или кругом себя совершающуюся политическую комедию, он ясно отдавал себе отчёт в значении и смысле совершающегося. Но он не мог уже знать ничего о том, что творилось за кулисами этого лицедейства.
Когда-то, в начале царствования Елизаветы Петровны, он знал не только обе стороны медали всего, что происходило, но бывал через друзей посвящён в такие тайны, которые становились известны лишь десятку близких к монархине лиц.
В эти дни, явясь в Москву, князь Александр Алексеевич наивно и добродушно думал, что он в том же положении.
Собравшись теперь устроить пир, пригласить к пышному столу и угостить на славу прежних и новых знакомых и приятелей, князь убедился, что отстал от «происхождения всех дел» и почти чужд круговороту при дворе и высшем обществе.
Как умный человек, он, однако, уже вскоре начал догадываться, что «времена переменчивы» и что происходит какая-то «неразбериха».
Впрочем, в эти дни, с приезда государыни в Петровское и до коронации, действительно была полная неразбериха.
Наступала буря на житейском придворно-административном море, которая раскачивала, кренила и колыхала государственный корабль, едва слушавшийся кормила и единодержавной руки.
Не было человека, который бы не был смущён, не видел бы надвигающейся бури и не ждал бы грозы от собирающихся туч. И никто не знал, что новичок кормчий ведёт корабль не только твёрдой рукой, не только искусной, но даже опытной, как будто век свой делал это. Этот кормчий вчера был юной германской принцессой крошечного государства, а завтра будет одним из вершителей истории человечества.
Умные, знающие, искушённые в делах государственные мужи ждали на море политики шторма и крушения родного корабля. Кормчий боялся тоже, и верил, и не верил в свои силы и в своё искусство, часто падал духом, но, воспрянув, снова брался за кормило верной и властной рукой и снова правил, направляя всё и всех.
Через, года два… может, и гораздо раньше, решили умные, просвещённые головы, – будет перемена. Снова будет сверженный император Иоанн или же малолетний император Павел с новым регентом, но не немцем, конечно, а русским. А прозорливец, если б нашёлся, мог бы ответить:
– Будет таковое только тогда, когда теперешние младенцы будут пожилыми людьми.
Князь Козельский, собравшись дать пир, позвал много народу, и по-московски: широко, не горделиво, то есть без разбора. Старинный, родовитый, но небогатый дворянин без «знаков отличия» от прочих был приглашён сесть вместе и чуть не рядом с сановником уже нового образца, вновь и надолго народившегося на гнилой почве берегов Невы.
Этот сановник, вчерашний пришелец-чужеземец или свой земец-подьячий, приказный, не мог поступиться своим краденым величием, не мог не брезгливо и не чванно сесть рядом с захудалым Рюриковичем. И нового рода местничество родил Петербург с той поры, что первыми людьми империи являлись безвестные выходцы, и свои, и заморские. Но не они сами, иногда крупные звёзды ума и таланта, возродили это новое местничество, а их сателлиты… Помазанники слепой богини Фортуны, Меншиковы и Лефорты, Минихи и Остерманы, конюхи Бироны, лекари Лестоки, чумаки Разумовские были по мере сил своих рачителями пользы и добра. Но их приспешники были только язвой.
Второй ошибкой Козельского оказалось неведение этого нового местничества, не московского, а петербургского, новой борьбы между древней родовитостью и схваченным вчера чином или крестом.
Затем князь не принял во внимание, что между правлениями двух цариц, всесветно знаменитой Елизаветы и ещё неведомой, отважной, но, пожалуй, кто знает, возомнившей чересчур о себе Екатерины, было шестимесячное правление такого императора, как Пётр Феодорович. Монарх, диковинно быстро и почти мастерски успевший всё и всех перепутать, и дела, и людей, и события, и отношения… Монарх, доведший отечество до положения, что «своя своих не познаша». Монарх, заваривший кашу, которую расхлёбывать, и захлестнувший узел, который развязывать нужна была длань богатыря, царя-плотника, а не слабая рука молодой женщины.
И это было третьей и главной ошибкой князя. Поэтому теперь многое удивило его и заставило задуматься. Так, князь пригласил к себе канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова, старого знакомого, которого он, как и все, уважал за ум, за прямоту, за гордость мыслей и чувств и за полное отсутствие той спеси, которая удел лишь выскочек.
Но прямодушный Воронцов, узнав от князя, что к столу приглашён и явившийся из ссылки граф Бестужев, елизаветинский канцлер, поморщился, говоря:
– Мне-то всё равно… Но Алексею Петровичу будет со мной невмоготу. Я его место занимаю. Он ждёт не дождётся, когда его снова займёт Что, по всей вероятности, скоро и случится.
Однако канцлер всё-таки обещался быть. Но узнав, что будет за столом и его родная племянница княгиня Дашкова, уже отказался наотрез.
– Мужа её я уважаю, и пока я канцлер, он будет за Россию стоять в чужих краях. Я его хоть к самому Фридриху не побоюсь послать за Россию постоять. А с этой шумихой и мельницей встречаться не хочу.
Сама княгиня обещалась быть у «дяденьки» Козельского, как она в шутку звала князя с детства, но прибавила:
– Не кликай клич к столу-то, дяденька. А то ведь придётся мне, кавалерственной даме, и со стрекулистами, и с просвирнями у тебя кушать.
Граф Бестужев, узнав, что будет за столом со скороспелым сановником «из истопников» Тепловым[220]220
Теплов Григорий Николаевич (1717 – 1779) – сын истопника, учился студентом при Академии наук, стал помощником К. Г. Разумовского – президента Академии. Статс-секретарь, сенатор.
[Закрыть], нахмурился:
– Что ж делать, князь. Буду И с Иудой-предателем за стол сяду. Он ведь меня доносом в ссылку-то угнал. На меня и великую княгиню, теперешнюю царицу, подло донёс. Но если она, матушка, его терпит, да ещё отличает, то и молчи.
Наконец, князь дошёл до такой наивности, что, недавно познакомившись с новыми «сильными людьми» Орловыми, и их всех позвал. Братья, народ добродушный, весёлый да не без меры «простаки себе на уме», узнав, с кем вместе они будут гостями Козельского, всё посмеивались, прибавляя:
– Будем, будем… Эдакой оказии, князь, не пропустим. В другой раз жди ещё, когда придётся пообедать с Никитой Ехидой или с княгиней Мухой… Токмо вот что. Предупредите и Панина, и Дашкову, что и мы званы. И если они прибудут да мы перецарапаемся, то не взыщите. Никита Иваныч всегда был мастер-шпын, а Муха, кажись, стала ныне от разных обстоятельств – осой.
Из двадцати сенаторов, прибывших в Москву на коронацию, князь пригласил графов Александра Шувалова , Петра Шереметева и Петра Скавронского[221]221
Таковой неизвестен. Вероятно, имелся в виду упомянутый у П. Н. Краснова Мартын Карлович Скавронский.
[Закрыть], князей Шаховского и Волконского, генералов Сумарокова[222]222
Вероятно, имеется в виду Сумароков Пётр Спиридонович (170? – 1780) – обер-шталмейстер.
[Закрыть], Брылкина и Суворова[223]223
Суворов Василий Иванович (170? – 1776) – генерал-аншеф, отец знаменитого генералиссимуса.
[Закрыть]. И из них только Шувалов отказался быть, чтобы не встретить Разумовских.
– Это не придворствовать, где всяк на своём месте, – сказал граф, – а гостить и тесниться. Пословица неправду сказывает, что в тесноте люди живут. В ней люди друг дружке на ноги наступают.
Распорядитель всей коронации князь Никита Юрьевич Трубецкой и «приготовитель» короны венчания Бецкой были почётными и редкими гостями, так как за эти дни были страшно заняты и осаждаемы всеми, ехавшими к ним с просьбой не обидеть, не обойти в церемониале ожидаемых великих дней.
Кроме того, в числе гостей был позван московский губернатор Жеребцов, обер-президент магистрата Квашнин-Самарин, гофмейстерина Нарышкина и три фрейлины государыни, графини Гендрикова, Вейделова и Чеглокова.
Так как у бобыля-князя не было жены или сестры, не было даже близкой родственницы, то звание хозяек для приёма гостей взяли на себя по его просьбе жена гетмана графиня Разумовская и состоящая при особе государыни графиня Матюшкина.
Никогда, конечно, московский дом князя Александра Алексеевича ещё не изображал такого зрелища, какое явлено теперь было обывателям. Двор и соседние улицы наполнились рыдванами, колымагами, каретами и берлинами[224]224
Берлин – старинная карета-колымага.
[Закрыть], все, конечно, цугом чудных коней. Дом был гостями переполнен совершенно. И всё сверкало ослепительно… И убранство комнат. И зал с огромным обеденным столом на двести кувертов. И сами гости в мундирах и орденах.
Князь долго стоял на подъезде, встречая гостей, и по всей большой лестнице, парадно устланной персидским ковром, вереницей двигались гости между шпалерами стоящих лакеев, гайдуков, скороходов и казачков, причудливо и почти фантастично разодетых в богатые ливреи и кафтаны.
Большинство гостей держало себя тихо, чопорно и почтительно, так как слишком много было теперь в стенах этого дома важных лиц. В малой третьей гостиной было не более двадцати человек, так как не всякий решался в неё войти, завидя с порога особ слишком высокого положения и значения. Старик, елизаветинский канцлер, войдя сюда, покосился, поморщился и, подсев к графине Разумовской, своей старой приятельнице, ворчал:
– Долго ж я был, видно, не в милости, когда даже вот эдакие в сановники успели выйти… – И он указал на Бецкого и на Орлова.
Но всеобщее главное внимание обращала здесь на себя княгиня Дашкова. И своей екатерининской лентой через плечо, и своей суровой важностью взгляда и речи. Если она была суетливой и докучливой «мухой» в июньские дни, то теперь была именно степенной, но ядовитой «осой». Орловы, давшие ей обе клички, были правы.
– Горделивее самой царицы! – заметил кто-то.
Когда все званые собрались, грянула музыка на хорах зала и гости чинно, парами двинулись за стол. Только в сумерки начался разъезд.
Все толковали весело о трёх «смехотворных приключительствах», генерал-адъютант Орлов оставил хозяину на память кучу изорванных в мелкие кусочки ложек и вилок.
Бецкой заявил за столом громко, что корона российская «уподобительна» в его руках: «Что хочу, то с ней и сделаю». И только немногие удивились. Было известно, что у этого неглупого человека были странные вспышки самомнения и чванства.
Граф Бестужев, по старой привычке, усугублённой ссылкой, так сильно подвыпил, что не мог встать из-за стола, а был вынесен и донесён в карету.






