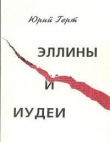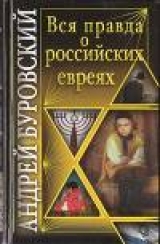
Текст книги "Вся правда о российских евреях"
Автор книги: Андрей Буровский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Еврейский же капитал в 1880-е годы проникает и в судоходство. В 1883 году под руководством Давида Марголина создавалось крупное судоходное общество для перевозок по Днепру и его притокам. В 1911 году флот общества насчитывал уже 78 пароходов, осуществлявших 71% всех перевозок в бассейне Днепра.
...И в торговлю нефтью и нефтепродуктами. В начале XX века в Баку «крупнейшими были фирма «Мазут», принадлежавшая братьям С. и М. Поляк и Ротшильдам», «имеющие за собой Ротшильда»... «Каспийско-Черноморское товарищество»13
[Закрыть]. Добывать нефть «Мазут» не имел права, но занимался нефтеперегонкой и торговал керосином и бензином.
В 1912 году 92% всей хлебной торговли Российской империи было в руках евреев.
Говоря о банковском деле, легче назвать банки, в которых не было евреев ни в числе видных акционеров, ни в дирекции, ни среди крупных служащих. Это Московско-Купеческий и Волжско-Камский банки.
Порой правительство пыталось сдерживать рост еврейского капитала. В 1903 году введен был запрет евреям приобретать «недвижимые имущества по всей Империи, вне черты городов и местечек». То есть реально – запрет владеть сельскохозяйственными угодьями. Как и все остальные запреты того же рода, своей цели он не достиг.
«Еврейские помещики имели при царской власти более 2 миллионов гектаров земли (особенно при сахарных заводах на Украине, а также большие имения в Крыму и в Белоруссии)»14
[Закрыть]. Барону Гинцбургу принадлежали в Джанкойском районе 87 тысяч гектаров, фабриканту Бродскому десятки тысяч гектаров. Вместе с сыновьями Бродский к началу XX века «прямо или косвенно контролировал 17 сахарных заводов». Моисей Гальперин владел восемью свекольными заводами и примерно 50-ю тысячами гектаров земли15
[Закрыть].
Всего же «Около сахарной промышленности питались сотни тысяч еврейских семейств в качестве посредников при продаже сахара и т.д.»16
[Закрыть]. Не удивительно, что среди евреев было так много врагов столыпинской реформы: «аграрные реформы, основанные на передаче земли исключительно в руки тех, кто обрабатывает ее личным трудом, нарушили бы интересы некоторой части еврейского населения, находящегося при больших хозяйствах еврейских землевладельцев»17
[Закрыть].
Замечу еще, что земли, сосредоточенные в руках евреев-помещиков до 1903 года, оставались у них. Помещик Бронштейн – папа Льва Троцкого и родственник Веры Инбер, оставался помещиком вплоть до 1918 года. В этом достопамятном году он счел нужным приехать к сыну в Петроград и высказать о нем все, что думает по поводу революций и участия в них «сыночков почтенных людей». К чести Льва Троцкого – его отец не сгинул в подвалах ЧК.
К Первой мировой войне евреи, вопреки всем попыткам их сдерживать, составляли 35% торгового класса России – при том, что было их б миллионов из 150 миллионов населения империи. То есть 4%.
Власть тьмы... то есть власть кагала
Еще при Николае I отменен кагал. Эту меру некоторые еврейские историки (казалось бы, уже в силу своего интеллекта далекие от авторов «Лехаима») изволят трактовать, как одно из «законодательных ограничений»: как «вмешательство во внутренние дела» еврейства18
[Закрыть].
На само это обвинение отвечу коротко: вероятно, проживающий в Иерусалиме господин Зельцер запамятовал: Николай I был законным императором суверенной Российской империи. Евреи-ашкенази были подданными царя и приносили ему присягу. С точки зрения и международного, и внутреннего российского, и какого угодно иного законодательства они были точно такими же подданными российской короны, как и этнические русские,– например, как столь неуважаемые большинством евреев русские крестьяне.
Можно по-разному относиться к стремлению правительства Российской империи разрушить общину и освободить своих подданных от остальных пережитков первобытно-общинного строя. Некоторые люди считают делом чести добиваться, чтобы их народ был свободен, и в этом видят свой национализм. Другие стараются изо всех сил, чтобы их народ ходил исключительно строем под руководством старейшин и чтобы начальство и всяческие бурмистры могли бы вторгаться в частную жизнь любого русского или еврейского мужика. Эти люди тоже мнят себя сторонниками общественного и народного блага – иногда искренне, а, как показывает опыт, чаще – за мзду. Господин Зельцер вправе думать по-другому, его дело. Но если евреи хотели развития, хотели реального уравнивания в правах с остальным населением Европы – им следовало освободиться от кагала как можно быстрее, и всякий, помогающий им в этом, – их друг.
А самое главное – действия Николая I и его правительства не становятся актом «вторжения во внутренние дела». Потому что у евреев в Российской империи не было никаких таких внутренних дел. Вам понятно, господин хороший? А нет, так оставляю вас с вашим непониманием, дело ваше.
Итак, причинив евреям (и русским тоже) невероятное количество зла, Николай I совершил хотя бы один хороший поступок – упразднил кагальную организацию. С отменой рекрутской повинности в 1856 году и особой подати в 1863-м, власть общины резко ослабевает. Настолько, что еврей реально может с ней больше совсем не считаться – возникни у него такое желание.
И это в то самое время, когда русских крестьян, освобождая от крепостной зависимости, оставляют в тисках этой самой замечательной общины!
На службе государевой
При Александре II, если еврей поступал на службу, никаких ограничений на его продвижение не накладывалось. «С получением чина действительного статского советника евреи на общих основаниях возводились в потомственное дворянство»19
[Закрыть]. С 1865-го разрешен прием иудаистов в военные врачи, затем, с 1866 и 1867 годов, врачам-евреям разрешено служить по министерствам народного просвещения и внутренних дел.
И до этого многие крещеные евреи достигали в Российской империи высокого положения. Можно назвать лейб-медика Павла I Блока – прадеда поэта; министра графа Канкрина, сына раввина, при Николае I; военного врача, статского советника Максимилиана Гейне (брата поэта); генерала-губернатора Безака; Гирса, дипломата, министра при Александре II, директора Александровского лицея Саломона, шталмейстера двора (придворный чин III класса, равный тайному советнику в штатской службе и генералу в военной); генералов Кауфмана-Туркестанского и Хрулева, а в Департаменте полиции Виссарионова и Гуровича.
Но тут уже идет речь о несколько другом явлении – о дворянах, исповедующих иудаизм и говорящих дома на идиш. По переписи 1897 года 196 человек дворян называли своим родным языком «разговорно-еврейский жаргон», то есть идиш. А среди личных дворян и чиновников таких уже 3371 человек. Фабрикант Бродский даже стал предводителем дворянства в Екатеринославской губернии.
200, и даже 3 тысячи человек, – это не очень много в масштабах Российской империи. Даже если добавить сюда примерно 3 тысячи служивших чиновниками выкрестов – все равно получается немного. Но ведь лиха беда начало... Процесс пошел!
Рождение еврейской интеллигенции
Одно из самых фальшивых утверждений в книге А.И. Солженицына – про то, что «в отношении образования почти магическое изменение произошло с 1874 года – после издания нового воинского устава, предоставляющего льготы по службе лицам с образованием20
[Закрыть].
То есть получается примерно так: евреи кинулись получать образование, желая отсрочки в несении военной службы и ее облегчения. Почему-то почтенный мэтр цитирует и Марка Алданова, который свидетельствует: евреи могли получать теперь офицерские чины, «нередко получали и дворянское звание»21
[Закрыть].
Отметим: у евреев (по крайней мере, у некоторых) в 1870-е годы изменилось и отношение к военной службе?! Как интересно! И уж конечно, никак это не сводится к желанию получить отсрочку. Но главное – так ли уж тесно связаны между собой закон 1874 года и массовый приток евреев в гимназии и университеты?
Момент такого массового притока обязательно- наступает в каждой стране, где живут евреи и где происходит их эмансипация. В XVIII веке национально озабоченные французские отцы-иезуиты истерически вопили – евреи вытесняют христиан! Евреи расхватывают все стипендии и премии!
В Германии середины XIX века теоретики национального возрождения грустно качали головами: «Евреи – это наше несчастье! Германия стоит на грани иностранного порабощения».
Во всех этих случаях евреи, стремясь к образованию, нимало не спасались от воинской службы. Просто наступал момент, когда изменение условий жизни и пропаганда достигали своего: начиналась эмансипация. Цель европейских правительств оказывалась достигнута! Уже не для единиц, для множества евреев становится ценным не традиционное религиозное образование, а светское, идущее от гоев. Еще деды и даже отцы отвергали его, боясь отступиться от религиозных и традиционных основ. Но пришли другие времена, и новое поколение хочет учиться так же сильно, как предки; так же, как они, считая образование неотторжимым от любого социального успеха... Но учиться хотят уже совершенно другому!
Вот и в России в 1870-е годы стало взрослым поколение евреев, жившее уже в новых условиях. Конечно, смена поколений – дело долгое и трудное, но ведь на рубеже 1850-х и 1860-х годов условия жизни евреев изменились очень круто. Даже круче, чем условия жизни крестьянства.
Жизнь еврейского парня, родившегося в 1830-м или 1840 году, мало отличалась от жизни его отца, родившегося в 1810-м или 1800-м, или даже прадеда, помнящего приезд Екатерины II в Шклов. А вот парень, родившийся в 1845-м или тем более 1850 году, уже не мог угодить в кантонисты. Подростком он видел, как в России происходят (и обсуждаются старшими) разнообразные реформы, а юношей получил возможности, которых не было не только у его отца, но и у брата, если брат старше его лет на десять и даже на пять.
Это изменение – результат работы и правительства, и его добровольных агентов – образованных русских людей. Известно, что знаменитый хирург и врач Пирогов, став попечителем Новороссийского учебного округа, старался убедить евреев в пользе учения. То же самое делали многие русские врачи, преподаватели и просветители.
Еще в начале 1860-х годов евреи вовсе не рвались войти в русскую культуру. Широко известный в более позднее время судебный деятель Я.Л. Тейтель вспоминает, как в Мозыре «директор мозырьской гимназии... часто... обращался к евреям, указывая на пользу образования и на желание правительства видеть в гимназиях побольше евреев. К сожалению, евреи не шли навстречу этому желанию»22
[Закрыть].
Евреи и правда долго не шли навстречу этому желанию. Но постепенно созревал плод усилий множества русских людей и правительства Российской империи. «До половины XIX в. даже образованные евреи, за редкими исключениями, не знали русского языка и литературы, прекрасно владея в то же время немецким языком»23
[Закрыть].
Образованные евреи могли знать Шиллера и, уж конечно, Гейне, но вполне могли вообще не знать Лермонтова и Батюшкова и еле слыхать о существовании Пушкина.
До Крымской войны в еврейской среде считалось, что уж если изучать литературу и культуру христиан – то престижно знать немецкий язык и культуру. После Крымской войны еврейское просветительство шло под мощнейшим влиянием русской культуры.
«Русские веяния ворвались в еврейскую среду в 60-х годах XIX веке. До этого евреи не жили, а проживали в России». Еще в 1863 году евреев в гимназиях было по своей процентной норме – 3,2% и учеников, и всех евреев-подданных Российской империи.
В конце 1860-х началось движение... и во всех гимназиях и прогимназиях страны с 1870-го по 1880 год процент евреев возрос вдвое, достиг 12% учащихся, в Одесском учебном округе достиг 32%, а по отдельным учебным заведениям зашкалил за 75%.
В 1881 году в университетах стало около 9% студентов-евреев, к 1887 году – уже 13,5%. На медицинском факультете в Харькове их стало 42%, в Одесском – 31%, а на юридическом в Одессе – 41%.
При этом евреи учились очень охотно и очень часто забирали себе большую часть наград и стипендий. Кроль отмечал, что у молодых евреев, в том числе и у девушек, «стремление к образованию... носило буквально религиозный характер». А что? Очень верно подмечено – именно что религиозный.
Интересно, что деятели первого поколения русско-еврейской интеллигенции родились «почти в соседние годы;:24
[Закрыть], между 1860-м и 1866-м: С. Дубнов, М. Кроль, Г. Слиозберг, О. Грузенберг, Саул Гинзбург. И другие имена родившихся в те же самые годы: М. Гоц, Г. Гершуни, Ф. Дан, Азеф, Л. Аксельрод-«Ортодокс», а П. Аксельрод и Л, Дейч чуть раньше – в конце 1850-х.
Это – верхушка интеллигенции; те, кому суждено стать знаменитыми, богатыми, определять интеллектуальную жизнь русского еврейства и всей Российской империи. Но вот так пишет о своем отце известный русский25
[Закрыть] поэт и писатель Самуил Маршак: «Детство и юность провел он над страницами древнееврейских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую будущность. И вдруг он – к великому их разочарованию – прервал эти занятия и на девятнадцатом году жизни пошел работать на маленький заводишко... Решиться на такой шаг было нелегко: книжная премудрость считалась в его среде почетным делом, а в ремесленниках видели как бы людей низшей касты... Много тяжких испытаний и горьких неудач выпало на долю отца прежде, чем он овладел мастерством и добился доступа на более солидный завод. И однако, даже в эти трудные годы он находил время для того, чтобы запоем читать Добролюбова и Писарева, усваивать по самоучителю немецкий язык и ощупью разбираться в текстах и чертежах иностранной технической литературы»26
[Закрыть].
В результате по специальности химик-практик, он не получил ни среднего, ни высшего образования, но читал Гумбольдта и Гете в подлиннике и знал чуть ли не наизусть Гоголя и Сальтыкова-Щедрина. В своем деле он считался настоящим мастером и владел какими-то особенными секретами в области мыловарения и очистки растительных масел»27
[Закрыть],
Мама Самуила Маршака «покинув строгую, патриархальную семью... в Витебске... впервые попала в столицу, в круг молодых людей – друзей брата, ходила с ними в театр... слушала страстные студенческие споры о политике, морали, о женском равноправии, зачитывалась Тургеневым, Гончаровым, Диккенсом»28
[Закрыть].
Называя вещи своими именами, парень зубами выгрыз возможность бежать из местечка и построил себе не такую уж плохую жизнь в коренной России, среди гоев. А девушка тоже при первой возможности вырвалась из местечка, и пусть себе штетл живет во времена пророков, давит клопов, пасет коз и розгой вбивает Талмуд в зады не сумевших убежать. Но будущая мама Самуила Маршака не хотела иметь с этим маразмом ничего общего, вышла замуж не за талмудиста, а за техника на заводе. Ей не хотелось ни козы, ни розог, ни клопов, а вот читать в подлиннике Пушкина и быть женой специалиста – хотелось.
В описаниях Самуила Яковлевича звучит нотка обиды за отца, не получившего путного образования; за рано постаревшую мать, всю себя отдавшую семье. На мой взгляд, в этих оценках сказываются мнения, от которых не отказались бы и самые что ни есть средневековые талмудисты: Самуил Яковлевич последовательно считает образование и умственную работу самым достойным, самым благородным занятием для человека.
И сам он реализовал именно такую возможность, и для отца считал ее самой желанной. Яков Маршак, первое поколение, сделал меньше, чем мог бы при других стартовых условиях – и сыну за него больно и грустно. Справедливо ли? Яков Маршак прожил независимую материально жизнь, в которой было чтение в подлиннике Гумбольдта и Гоголя. И вырастил пятерых сыновей, один из которых стал знаменитым русским писателем. Не уверен, что обида за отца в такой ситуации – чувство «чисто еврейское», но, скажем, англосаксы или французы вовсе и не считают, что мастер на заводе – худшая судьба, нежели ученый или писатель. А вот евреи так считают. Талмудисты, от которых сбежал Яков Маршак, и его семья считали, что «книжная премудрость» есть «почетное дело», а «в ремесленниках видели как бы людей низшей касты»... Но ведь точно так же думает и Самуил, удачливый средний сын Якова.
Остается добавить, что старший брат Самуила Яковлевича родился в 1885 году; значит, родители Маршака встретились где-то в конце 1870-х или в начале 1880-х годов. Судя по упоминанию брата матери, других евреев этого поколения, не одни они были такие. Слиозберг, Кроль – люди, вошедшие в историю, во многом делавшие историю. Но за ними и вокруг них стояла толпа, толща. Десятки тысяч менее блестящих, но необходимых в обществе людей – еврейских интеллигентов первого поколения.
Поворот в представлениях общества
Смерть императора Александра II остановила поток эмансипации. О том, как постарался на этот счет благородный русский народ, несущий в себе Бога, мы поговорим в следующей главе.
Что касается образованного русского общества, то и оно вовсе не так расположено к евреям, как обычно пытаются себе это представить. Образ интеллигента, который играет роль спасателя евреев во время погромов, еврейского заступника перед официальными властями, вошел в стереотипы массового сознания.
Но в этот стереотип очень трудно уложить позицию, скажем, И.С. Аксакова: смутно-доброжелательного к евреям и великого сторонника эмансипации в конце 1850-х годов. И такого же яростного антисемита уже спустя восемь-десять лет, в середине-конце 1860-х, особенно же непримиримого врага «просвещенных евреев» (казалось бы, радоваться надо – «нашего полку прибыло», но тут какая-то совсем иная логика).
И таковы же были очень, очень многие из российских интеллигентов того времени. Почему?! С точки зрения Дж. Клиера, в середине 1850-х годов русское общество практически не знает евреев. Еврей – это некий то ли забавный, то ли несимпатичный, то ли «природный» и потому по сути своей добрый... но неизвестный и непонятный никому туземец. Общество, жаждущее «реформ вообще», сначала проникается к нему неким общим расположением – просто потому, что еврей – угнетенный, а теперь подлежащий спасению. Дикий, а теперь подлежащий обучению и приобщению к цивилизации.
В процессе же эмансипации общество сталкивается с уже совершенно реальными, а не книжными евреями, и уж кому они нравятся, а кому и нет.
Кроме того, общество сталкивается с множеством проблем, порожденных самой эмансипацией: например, с проблемой конкуренции за места в учебных заведениях. Теоретические евреи, которых хотело пригреть на своей груди русское образованное общество, никогда не совершали таких нехороших поступков: не мешали поступать в гимназии и университеты, не оттесняли от хлебных местечек...
В результате если еврейский вопрос в 1850-е годы никого особенно не волновал, то к концу 1870-х годов он выходит на одно из самых первых мест по числу упоминаний в периодической печати. А русское общество оказывается резко поляризованным по этому вопросу: от ярких юдофилов до таких же ярких юдофобов.
Консерваторы, а их было много, своими аргументами о разлагающем влиянии евреев на русскую школу «мостили дорогу для процентной нормы при Александре III».
Получается, что «за четверть столетия, прошедшие со времени начала реформ, евреи оказались в сложном и противоречивом положении. С юридической точки зрения, их положение улучшилось. Но ценой тому стало неприятие еврейства значительной частью русского общественного мнения. Возникшее в самый канун реформ мнение, что положение евреев требует изменений, сменилось иными настроениями. «В лучшем случае еврейский вопрос рассматривался как проблема, решение которой оказалось более сложным, чем считалось прежде... В худшем – евреи в духе нигилизма были демонизированы, как активные враги русской христианской культуры, как кровавые вампиры, готовые пить кровь русских детей. Они представлялись зловредной эксплуататорской силой, угрожающей как бедным, так и богатым. Общественное мнение, одно время проявляя слабую симпатию к евреям, стало враждебным и скептически настроенным к любому решению еврейского вопроса. Это был заколдованный круг»29
[Закрыть].
Все как всегда
В Российской империи не произошло ничего такого, что не происходило множество раз, с разными народами иудаистической цивилизации. Сначала евреи вызывают желание включить их в общество «гоев». Позиция отверженных вызывает сочувствие. Образованность и культура вызывают симпатию. Правительство хочет привлечь к жизни своей страны этих изолированно живущих туземцев.
Но оказывается – вблизи евреи совсем не такие милые, как издали! Их легко и приятно любить, им удобно сочувствовать на расстоянии. А вот вблизи они – очень уж неудобные объекты для любви и сочувствия. Они недостаточно слабые...
Иудеи быстро становятся очень уж сильными конкурентами. Да к тому же по любому поводу каждые двое евреев имеют три разных мнения – в том числе и по поводу русской истории и культуры. Иметь дело с «ними», допускать «их» в образованный русский класс – значит постоянно иметь в виду эти другие, быть может, раздражающие и задевающие чем-то мнения и оценки. В результате у части общества всегда появляется реакция отторжения евреев, нежелание иметь с ними дела, а то и страх перед евреями, как конкурентами.
Образованные боятся конкуренции и того, что их страна, их мир как-то изменятся.
Правительство начинает бояться нашествия слишком многих и не всегда понятных «чужаков».
Народ начинает бояться смены правящего класса.
В Российской империи между 1855 и 1881 годом все шло как обычно, как всегда. Так было в Александрии Птолемеев и Испании Альмохадов, в Италии XIV века и во Франции XVIII столетия.
Закон о процентной норме 1887 года
В 1887 году правительство приняло свои меры, чтобы «еврейский вопрос», паче чаяния, не решился бы и ассимиляции евреев не произошло бы. А то вдруг, не дай боже, и не стало бы на Руси никакого такого вопроса?! И что тогда со всеми нами было бы? Кто бы нам революцию тогда бы делал, а?! Кто бы нас научил демократии?!
Ну вот правительство и заботится, чтобы нам всем стало веселее – и евреям, и русским. Для начала оно не доводит до конца начавшуюся эмансипацию. К концу царствования Александра II все идет именно к этому. Трудно сказать, как все могло бы повернуться, но, по крайней мере, у всех участников событий, и у придворной знати в том числе, было полное ощущение – вот-вот отменят черту оседлости!
Вместо этого был знаменитый закон о процентной норме.
Строго говоря, не было никакого особого закона... То есть особого закона именно о процентной норме. Был совершенно иной закон в июне 1886 года – «О мерах к упорядочиванию состава учащихся в средних и высших учебных заведениях» – пресловутый «Закон о кухаркиных детях», и звучат его положения так: «Предоставить начальникам учебных заведений принимать только таких детей, которые находятся на попечении лиц, предоставляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства».
То есть закон был направлен на то, чтобы не допустить в учебные заведения детей простонародья – «кухаркиных детей», если угодно. А одновременно правительство поручило министру просвещения Делянову издать НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ циркуляр на имя попечителей учебных округов.
Теперь по средним и высшим учебным заведениям, «в видах более нормального отношения числа учеников-евреев к числу учеников христианских вероисповеданий»30
[Закрыть]в черте оседлости поступать могло 10% евреев; вне черты оседлости – 5%, а в обеих столицах – не больше 3%.
Во блеск! Циркуляр есть; попечители учебных округов и директора гимназий должны руководствоваться им. Но в то же время циркуляра как бы и нет! Никто не приказывал сокращать число принимаемых евреев!
«Вслед за министерством народного просвещения» и другие ведомства стали вводить «процентные нормы для своих учебных заведений, а некоторые... совсем закрыли их для евреев»31
[Закрыть]. Таковы были, скажем, Электротехнический институт, Институт путей сообщения в Петербурге, Военно-медицинская академия.
Отмечу – в этом сказывались не указы властей, а воля образованного класса России. Так сказать, глас народа.
В некоторых частных школах Франции глас народа приводил к тому, что в них не принимали евреев (а была в Марселе частная школа, которую содержали еврейские богачи, и в нее демонстративно не принимали французов: повторялась ситуация с синагогами в Одессе). Иезуиты тоже не учили евреев – точно так же, как в ешиботах не учились христиане. Но ограничения для евреев никогда не были частью политики Франции как государства. Не случайно же в Российской империи правительство изначально постаралось сделать вид, что это не оно проводит политику дискриминации.
Впрочем, народ и правительство были в этом вопросе едины. Правительство даже и не очень скрывало, что это оно ввело «норму». Известный филантроп и общественный деятель, крупный банкир Мориц фон-Гирш вел переговоры именно с К.П. Победоносцевым об отмене «процентной нормы». И Победоносцев с простодушным, где-то даже наивным зверством объяснил позицию своего правительства: мол, дело вовсе не в «полезности» или «вредности» евреев, а в том, что «благодаря многотысячелетней культуре, они являются элементом более сильным умственно и духовно, чем все еще некультурный темный русский народ – и потому нужны правовые меры, которые уравновесили бы «слабую способность окружающего населения бороться»32
[Закрыть].
Победоносцев даже предложил Гиршу внести какую-то сумму, помочь развитию русского образования... ведь чем быстрее «разовьется» русский народ, тем быстрее «можно будет» и дать равноправие евреям. Что поразительно – Гирш денег дал! Вручил Победоносцеву ни много ни мало миллион рублей. И что уже совершенно невероятно – Победоносцев эти деньги взял!33
[Закрыть]
Процентная норма существовала почти 30 лет. Реально она перестала соблюдаться только во время 1916-1917 учебного года, когда все государство Российское уже плыло и рассыпалось на глазах.
У русского правительства удивительная способность: даже слушая свой образованный слой, даже ориентируясь на него, принимать такие законы, которые тут же начинают отторгаться этим же самым образованным слоем. В тех же воспоминаниях С.Я. Маршака описывается, как он сдал экзамены в гимназию на круглые пятерки, но не поступил из-за «непонятной процентной нормы». Причем сдавал он блестяще, читал наизусть чуть ли не всю «Полтаву» Пушкина, и сам директор гимназии взял мальчика на руки, расспрашивал: а какие еще стихи он знает? Вот и возникает вопрос: а как относился к закону о процентной норме этот директор? И учитель русского языка и словесности, который принимал экзамен? Выполнять-то закон они, может быть, и выполняли, но что они думали при этом?
Самуилу Яковлевичу не повезло, но вообще-то до конца процентная норма не соблюдалась никогда – уже потому, что русская интеллигенция относилась к этой мере очень плохо, и должностные лица нарушали процентную норму при первом же удобном случае... по крайней мере, таково было большинство.
Скажем, в Одессе, где евреи составляли треть всего населения, в самой престижной Ришельевской гимназии в 1894 году училось 14% евреев, что уже нарушение закона; во 2-й гимназии их было уже 20; а в 3-й – 37. В коммерческом училище их было 72% учащихся, а в Университете – 19%.
В Саратове в годы, когда там был губернатором Столыпин, принимали безо всякой нормы в Фельдшерскую школу – фактически в медицинский институт. До 70% учащихся Фельдшерской школы были евреи.
Все пятеро братьев Самуила Яковлевича Маршака получили высшее образование ДО революции.
В августе 1909 года правительство Российской империи вынуждено было поднять процентную норму – до 5% в столицах, 10% вне черты оседлости, 15% в черте оседлости. Теперь правительство вполне логично требует, чтобы эту более высокую процентную норму соблюдали! Но если учесть, что в этом году в Петербургском университете.было 11% евреев, а в Новороссийском – 24%, то получалось – надо не принимать новых, а выгонять уже принятых.
Конечно, легко порассуждать о том, что из процентной нормы было множество исключений и что ее можно было обходить.
И тем не менее главное-то ведь не в этом. «Как-то устроиться» возможно почти всегда, нет слов. Но главное – всякий еврейский юноша получал очень даже хорошее представление – он какой-то особенный! Может быть, он и готов был отказаться от этих представлений – мол, мало ли что там болтают всякие непросвещенные раввины и меламеды, а мы люди уже просвещенные, культурные и брезгливо морщимся при всяком упоминании расизма. Но в Европе (даже в Германии) просвещенный еврейский юноша действительно имел дело с государством, которому плевать было, ходит ли он с пейсами или с нательным крестом, а вот в Российской империи – вовсе нет. Европейский еврей жил в мире, где примитивным, архаичным представлениям еврейской среды противостояла просвещенность и общества христиан, и государства. А тут получается, что еще можно поспорить, кто более примитивен, кто более отсталый и непросвещенный – еврейский кагал или же колоссальная и могучая Российская империя.
В результате для этого еврейского юноши, клейменного российскими законами, получали подтверждение не современные, передовые – а самые примитивные и отсталые представления о себе и окружающем мире. Мера ОТДЕЛЯЛА его от «всех остальных» вернее, чем любые постановления кагалов.
А с началом 1890-х годов пошла новая волна ограничений: препятствовали преподаванию евреев в академиях, университетах и казенных гимназиях.
В 1889 году министр юстиции доложил Александру III, что «адвокатура наводняется евреями, вытесняющими русских, что эти евреи своими специфическими приемами нарушают моральную чистоту, требующуюся от присяжных поверенных». Насчет моральной чистоты ничего рассказать не могу, потому что министр юстиции Манасеин ничего определенного по этому поводу не написал.
Но известно, что Александр III ввел «временное правило», согласно которому «лиц нехристианских вероисповеданий» можно было делать присяжными поверенными только с личного разрешения министра юстиции. И с тех пор в течение 15 лет ни один еврей в присяжные поверенные не попал. Ни один. Даже такие знаменитые юристы, как О.О. Грузенберг или М.М. Винавер, так и пробыли полтора десятилетия в «помощниках присяжных поверенных». Это не мешало им выступать в суде, в Сенате, быть известными и популярными людьми... Но факт ограничения – вот он.
Только с 1904 года снова открылся путь в присяжные поверенные еврею, но ограничения на научную карьеру, на занятие государственной службой – сохранялись и позже, практически до самой революции.
Очень часто слышишь в этом случае: мол, ведь все эти ограничения были не по этническому, а по религиозному принципу! Мол, крестись, и все будет в порядке! Не думаю, что надо тратить много слов, доказывая безнравственность самой постановки вопроса. Допустим, во времена Томаса Торквемады еще можно было действовать таким образом... «Но на рубеже XX века российская государственная власть могла бы задуматься – о нравственной допустимости, да и о практическом смысле: ставить ли перед евреями смену веры условием получения жизненных благ?»34
[Закрыть]